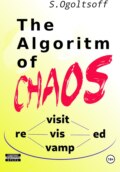Сергей Николаевич Огольцов
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Вызов моему старшинству от Наташи не так обижал меня, как Сашкина строптивость. Давно ли вбегали мы с ним ва кухню наперегонки, жаждая воды из-под крана, и он с готовностью уступал мне жестяную белую кружку с революционным крейсером Аврора на боку, как старшему, как брату который больше него. И отхлебав полкружки, я не выливал остаток, а великодушно позволял ему докончить, ведь именно так передаётся сила. А отчего, например, я такой сильный? Потому что не погребовал отпить пару глотков из бутылки с минералкой, которую начал Саша Невельский, самый сильный мальчик в нашем классе.
Мой младший брат наивно слушал мои наивные росказни и принимал протянутую кружку. Как и я, он был слишком доверчив и однажды за обедом, когда Папа достал из своей тарелки супа хрящ без мяса и пообещал кило пряников в награду тому, кто разгрызёт, Саша молча посопел и вызвался. Жевал он долго и упорно, но в конце концов смог проглотить, по частям. Жалко, что пряников он так и не получил. Папа забыл, наверное…
Почта доставила посылку, вернее, принесли бумажку, а потом Мама зашла туда после работы. Принесла ящик из обшарпанной в пути фанеры, обвязанный тонкой бечёвкой пришлёпнутой к его бокам коричневым сургучом, должно быть для надёжности, чтоб ящик не разваливался. Печатные буквы двух адресов написаны сверху химическим карандашом, который от влажности посинеет и расплывётся, но не сойдёт – в наш Почтовый Ящик из города Конотоп.
Посылку усадили в кухне на табурет и вокруг собралась всё семья. В крышке с адресами оказалось слишком много гвоздиков, но против большого кухонного ножа они не устояли даже вместе. Открылся большой кусок сала и красная резиновая грелка, чьи бока до округлости распирал самогон. Всё прочее пространство заполнили чёрные семечки – не дать салу с грелкой болтаться по ящику.
Папа открутил пробку грелки, весело понюхал и сказал, что точно самогон. После прожарки на сковороде, совсем слегка, семечки приятно пахли и елись с аппетитом. Мы их раскусывали, складывали шелуху в блюдце посреди стола, а сплюснутые ядрышки с острым носиком – жевали. Это и называется грызть семечки. А потом Мама сказала, что если их есть не просто одну за одной, а налущить хотя бы полстакана зёрнышек, а потом слегка посыпать сахарным песком, вот это будет вкуснятина. Каждый из трёх её детей получил чайный стакан для заготовки перед посыпкой. Вместо блюдца Мама дала нам одну глубокую тарелку на всех и ловко свернула большой кулёк из газеты, чтобы насыпать семечки из сковороды.
Мы оставили взрослых есть неподслащенные семечки на кухне и перешли в детскую. Разлеглись там на кусках ковровой дорожки в редких подпалинах от давнего пожара, но почти незаметно. Как и следовало ожидать, уровень налущенных зёрнышек в Наташкином стакане возрастал быстрее, хотя она больше болтала, чем грызла. Однако когда и брат начал обгонять меня, обидно стало.
Моя заготовка шла медленнее потому, что меня отвлекала карикатура на боку газетного кулька, где толстопузый колониалист вылетал с континента Африка с чёрным отпечатком башмака, которым пнуто в зад его шортов. Так что я бросил отвлекаться на траекторию полёта и на тропический шлем, а вместо этого сосредоточился раскусывать живее и строже следить, чтоб некоторые зёрнышки не пережёвывались бы случайно. Ничто не помогало, младшие слишком далеко ушли в отрыв.
Дверь открылась и зашла Мама весело спросить как у нас дела. С собой она принесла полстакана сахарного песка и ложечку – посыпа́ть личные достижения, кто сколько нагрыз, но у меня на эти семечки уже просто зла не хватало, хоть с сахаром, хоть без, и во всю последующую жизнь я оставался безразличным к восторгам семечковых оргий.
(…и жаль отчасти, ведь лузганье семечек не просто ленивый способ убить время, получая при этом побочный эффект обильного слюноотделения, и близко нет!. Оно переросло в самостоятельное искусство.
Взять, например, разухабисто Славянскую манеру семечкоедства, неофициально именуемую «свинячий способ», когда зёрнышки прожёвываются совместно с чёрной шелухой и, получив наслажденье вкуса, её уже не сплёвывают энергически в окружающую среду, но вялыми толчками языка выпихивают из уголка губ, чтобы сползала общеперемолотой, обильно смоченной слюной, лавообразной массой по подбородку, пока не шмякнется влажными клочьями на грудь потребляющего. Да, беситься с жиру можно всячески.
Либо, для контраста, опять-таки Славянский, но уже «филигранный» стиль, при котором семечки вбрасываются в рот ядущего по отдельности с расстояния не ближе двадцати пяти сантиметров.
И так далее вплоть до целомудренно Закавказского фасона, где грызóмая семечка вставляется в тот же таки рот зажатой между сгибом указательного пальца и концом большого, и эта пальцевая паранджа прикрывает момент приёма семени, после чего отпроцессированная лузга не выплёвывается как попадя, но возвращается в ту же пальцеконструкцию для рассеивания куда-уж-там-нибудь или сбора во что-уж-там-есть.
В целом, последний из представленных методов оставляет впечатление будто потребитель пытается украдкой укусить собственный кукиш. Ну-кось, выкусим!
О, да! Семечки подсолнуха это вам не тупой поп-корм. Однако ж хватит с них, вернёмся на зелёную ковровую дорожку неравномерного покроя…)
Именно на этих зелёных кусках мой брат нанёс сокрушительный удар по моему авторитету старшего… В тот день я пришёл домой после урока Физкультуры и с истомлённым видом опрометчиво заявил, что сделать сто приседаний за один раз выше человеческих возможностей. Саша молча посопел…
Наташа и я вели счёт. После пятнадцатого приседания я завопил, что это неправильно и нечестно, что он не подымается до конца, но Сашка продолжал, как будто я только что вот ничего и не говорил даже, а Наташа продолжала считать. Я заткнулся и вскоре присоединился к ней, хотя после «восемьдесят один!» он не мог подняться выше своих согнутых в приседе коленей. Мне было жалко брата, эти неполноценные приседы давались ему с неимоверным напряжением. Его пошатывало, в глазах стояли слёзы, но счёт был доведён до ста, прежде чем он насилу доковылял до большого дивана, а потом неделю жаловался на боль в коленях. Мой авторитет рухнул, как колониализм в Африке, хорошо хоть пряников я не обещал…
~ ~ ~
Откуда взялся диапроектор? Скорее всего родители переподарили чей-то подарок. А у них в комнате появилась Радиола – комбинация из радио и проигрывателя, 2 в 1, как принято говорить нынче. Крышка верха и боковые стенки мягко лоснились коричневым лаком. Задняя стенка—твёрдый картон без лака просверленный рядами похожих на крохотные иллюминаторами отверстий—была обёрнута к стене. Но если Радиолу чуть-чуть вытащить на себя и заглянуть в иллюминаторы, в её сумеречных недрах открывался прерывистый ландшафт, где теплились огоньки в жемчужно-чёрных башенках радиоламп разного роста посреди белых алюминиевых панелей-домиков, а из одного отверстия свисал наружу коричневый провод с вилкой на конце для подключения в розетку.
Лицевую сторону Радиолы обтягивала специальная звукопропускающая ткань, за которой угадывался овал динамика, а над ним круглый глазок тёмного стекла, если спит, но при включении он вспыхивал зелёным. Внизу лицевой стороны невысокая, но длинная стеклянная полоса пролегла между ручками управления, справа две: включение и регулировка громкости (2 в 1), а под ней ручка выбора диапазона радиоволн, но слева одна – для плавной настройка на волну передающей станции. Четыре тонкие прозрачные полоски прорезали черноту стекла во всю горизонтальную длину и начинали светиться жёлтым, когда загорался глазок. Тонкие вертикальные засечки над полосками, за которыми шли имена различных столиц: Москва, Бухарест, Варшава… – отмечали места для ловли этих далёких городов и, когда начинаешь крутить ручку настройки на волну, через прозрачные просветы видно как ползёт от засечки к засечке красный столбик бегунка по ту сторону стекла.
Хотя включать радио не очень-то интересно, динамик шипит, трещит невыносимо, подвывает—смотря куда заполз бегунок—иногда всплывёт голос диктора с новостями на Незнакомо-Бухарестском языке, чуть дальше вдоль просвета его сменит Русский диктор и будет читать новости, которые уже сообщило радио на стене детской. Зато с поднятием крышки Радиолы, ты как бы попадал в маленький театр с круглой сценой на диске красного бархата, из которого торчит блестящий стерженёк для одевания грампластинки её дырочкой, а рядом с диском слегка кривая лапка белого пластмассового адаптера положена на свой костылёк-подпорку, чтобы отдыхала.
Когда диск крутит пластинку на своей бархатной спине, надо осторожно приподнять адаптер с костылька, отнести в сторону грампластинки и опустить его иголку между широко расставленных бороздок бегущих по её краю. Оборота два она ещё пошипит, но потом адаптер доплывёт до тесно сдвинутых бороздок и Радиола запоёт про Чико-Чико из Коста Рико или про О, Маё Кэро, или про солдата в поле вдоль берега крутого в шинели рядового.
В тумбочке под Радиолой стопки поставленных стоймя конвертов хранили от пыли чёрные блестящие пластинки, изготовленные на Апрелевской фабрике грамзаписи, о чём сообщали круглые красные наклейки у них посередине, пониже названия песни, имени исполнителя и что скорость вращения 78 об/мин. Рядом с костыльком адаптера торчал из своей щели рычажок переключения скоростей с пометками 33, 45, 78. Грампластинки на 33 оборота были чуть ли не вполовину меньше 78-оборотных, но у этих маломерок было по две песни на каждой стороне!.
Наташа показала нам, что если пластинку в 33 оборота запустить на 45, то даже Большой Хор Советской Армии и Флота имени Александрова начинает петь бравые песни кукольно-лилипуточными голосами…
~ ~ ~
Чтением Папа не слишком увлекался. Читал он только журнал Радио со схемами-чертежами из всяких конденсаторов-диодов-триодов, который каждый месяц приносили в самодельный почтовый ящик на нашей двери. А поскольку Папа был член Партии, туда же клали ещё каждодневную Правду и ежемесячный Блокнот Агитатора, без единой картинки и с беспросветно плотным текстом – один-два нескончаемые абзаца на всю страницу, не больше…
Ещё из-за своей партийности Папа дважды в неделю ходил на Вечерние Курсы Партийной Учёбы, когда не работал во вторую смену. А ходил он туда, чтобы записывать уроки в толстую тетрадь в коричневой дерматиновой обложке, потому что после двух лет учёбы его ждал очень трудный экзамен.
Однажды после Партийной Учёбы он принёс домой пару партийных учебников, которые там распространяли среди партийных курсантов. Однако даже и распространённые книги он не читал и в этом оказалась его ошибка. Горькие плоды недальновидности ему пришлось пожать через два года, когда в одном из партийных учебников он обнаружил свою «заначку»—часть заработной платы припрятанную от жены на расходы по собственному усмотрению. С искренним раскаянием и громкими (но запоздалыми) упрёками в свой личный адрес, горевал Папа над находкой, которая заначивалась до денежной реформы обратившей широкие деньги в бумажные фантики…
Среди множества наименований Объекта, на котором мы жили, имелось и такое имя как «Зона», пережиток из тех времён, когда зэки строили Объект. (Зэки живут и пашут на Зоне, это известно каждому). После второго года Вечерних Курсов Партийной Учёбы, Папу и других курсантов повезли «За Зону», в ближайший районный центр. Папа заметно переживал и не уставал повторять, что он ни черта не знает, хотя исписал ту толстую тетрадь почти до самого конца. А кому охота оставаться, говорил Папа, на второй год Партийной Учёбы к чертям собачьим!
Из «За Зоны» Папа вернулся очень весёлым и радостным, потому что на экзамене он получил слабенькую троечку и теперь у него все вечера будут свободны. Мама спросила, как же он сдал, если не знал ни черта. Тогда Папа открыл толстую тетрадь Партийной Учёбы и показал свою колдовочку—карандашный рисунок, который он сделал на последней странице—осла с длинными ушами и хвостом, а под животным магическая надпись «вы-ве-зи!»
Я не знал можно ли верить Папиной истории, потому что он часто смеялся пока рассказывал. Поэтому я решил, что лучше никому не говорить про осла, который вывез Папу из Партийной Учёбы…
Читателем книг в нашей семье была Мама. Уходя на работу, она брала их с собой, чтобы читать в свою смену на Насосной Станции. Но сначала она приносила эти книги из Библиотеки Части. (Да, потому что мы жили не только в Зоне-Почтовом Ящике-Объекте, но ещё и в Войсковой Части номер какой-то там, что и делало слово «Часть» ещё одним из названий нашего места жительства)…
Библиотека Части находилась не очень далеко, примерно за километр ходьбы. Сперва по бетонной дороге до самого низа Горки, где она пересекалась асфальтной, а сама, после перекрёстка, превращалась в грунтовую улицу между деревянных домов за невысокими заборчиками палисадников. Улица кончалась перед Домом Офицеров, однако не доходя метров сто, надо свернуть направо к одноэтажному, но кирпичному зданию Библиотеки Части.
Иногда Мама брала меня с собой за книгами и, пока она обменивала прочитанные в глубине здания, я ждал в большой пустой передней комнате без всякой мебели, но полной красочных плакатов на каждой стене. Самый главный плакат представлял схему Атомной бомбы в разрезе (потому что полным именем Объекта на котором мы жили было Атомный Объект). Кроме плакатов про атомную анатомию и грибы атомных взрывов, были ещё картинки про подготовку Натовских шпионов. В одной фотографии шпион запрыгнул на спину часового и раздирал солдату губы пальцами. Меня охватывала жуть, но я не мог отвести глаз от картинки и только думал про себя «Мама, ну, пожалуйста, меняй свои книги поскорее».
В одно из таких посещений, я набрался смелости спросить Маму можно ли и мне брать книги в Библиотеке Части. Она ответила, что вообще-то библиотека тут для взрослых, но всё же отвела меня в комнату, где сидела Библиотекарша за тумбовым столом придавленным пирамидами разнообразно толстых книг, что оставляли место только для её лампы и длинного фанерного ящичка с карточками читателей. Тут Мама сказала ей, что уже не знает что со мной делать, потому что я перечитал всю библиотеку в школе. С тех пор я всегда ходил в Библиотеку Части сам по себе, без Мамы. Иногда я обменивал её книги для дежурств и приносил домой вместе с двумя-тремя для собственного чтения.
Мои книги усеивали диван в постоянной готовности, потому что я их читал вперемешку. На одном диванном валике, я уползал через линию фронта вместе с разведгруппой Звезда, чтобы захватить Немецкого штабного офицера, а перекатившись к дальнему концу дивана я утыкался носом в кактусы Мексиканских пампасов и скакал во весь опор с Белым Вождём Майн Рида. И только солидный том Легенды и Мифы Древней Греции я почему-то предпочитал раскрывать в ванной, опёршись спиной на паровой котёл Титан.
За этот диванно-лежачий образ жизни Папа прозвал меня Обломовым, потому что на уроках Русской Литературы в своей деревенской школе он запомнил образ этого лентяя.
~ ~ ~
Зима выдалась бесконечно долгой, затяжной; метели сменялись морозом и солнцем; в школу я выходил в густых сумерках, почти затемно… Но в один из дней случилась оттепель и по дороге из школы, на спуске между Учебкой Новобранцев и кварталом, я заметил непонятно тёмную полосу слева от дороги.
Тогда я свернул и, бороздя валенками нехоженые сугробы, пошёл взглянуть что там. Полоса оказалось землёй выступившей из-под снега – проталина чуть липкая от влаги. На следующий день она удлинилась, а кто-то успел побывать на ней и оставить почернелые Еловые шишки, скорее всего прошлогодние. И хотя через день снова ударил мороз и сковал снег твёрдым настом, а потом опять зарядили метели, бесследно укрыв снегом темневшую на взгорке проталину, я точно знал, что зима пройдёт всё равно…
Посреди марта, на первом уроке в понедельник, Серафима Сергеевна сказала нам отложить ручки и послушать её. Оказывается, два дня назад она ходила в баню со своей дочкой, а вернувшись домой обнаружила пропажу кошелька вместе со всей её учительской зарплатой. Она очень расстроилась вместе с дочкой, которая сказала ей, что невозможно построить Коммунизм, когда вокруг воры. Но на следующий день к ним домой пришёл человек, рабочий из бани. Он нашёл там кошелёк на полу и догадался у кого это выпало, вот и принёс вернуть… И Серафима Сергеевна сказала нам, что Коммунизм обязательно будет постоен и попросила запомнить имя этого рабочего человека.
(…однако имя я уже не помню, потому что, как записано в словаре Владимира Даля – «тело заплывчиво, память забывчива»…)
Субботний день купался в тёплом весеннем солнце. После школы я быстренько пообедал на кухне и поспешил во Двор на Общий Субботник. Люди вышли из домов в яркий сверкающий день и расчищали снег с бетонных дорожек широкого Двора. Ребята постарше грузили снег в большие картонные коробки и на санках оттаскивали в сторонку, чтоб не мешал ходить. В кюветах вдоль обочины прорыли глубокие каналы, нарезая лопатами целые кубы подмокшего снизу снега. И по каналам с весёлым журчанием побежала тёмная вода… Так пришла весна и всё стало меняться каждый день.
А когда в школе нам выдали жёлтые листы табелей с нашими оценками, наступило лето, а с ним каждодневные игры в Прятки, Классики, Ножички.
Для игры в Ножички нужно выбрать ровное место и начертить на земле широкий круг. Круг делится на сектора по количеству участников, которые, стоя во весь рост, по очереди мечут нож в сектор кого-либо из соседей. Если брошенный нож застревает в земле стоймя, сектор разделяется чертой, следуя направлению воткнутого лезвия. Владелец разделённого надвое сектора должен решить какую часть оставляет себе, а другая отходит метнувшему.
Участник остаётся в игре покуда имеет клочок земли достаточный для стояния хотя бы на одной ноге, в противном случае игру он покидает, а прочие игроки продолжают, пока не останется всего лишь один. You win!
(…как говорит Александр Сергеевич Пушкин:
“сказка ложь, да в ней намёк…”
Играя в Ножички я горел азартным желанием победы. Нынче же пыл сменился безмерным изумлением – как точно простенькая детская игра сумела отразить самую суть всемирной истории!.)
А ещё мы играли В Спички (ошибки нет, «в спички», а не спичками), но это игра лишь на двоих. Каждый игрок отводит большой палец от кулака и вставляет спичку между его концом и суставом указательного – крепко-накрепко, как распорку. Спички соперников медленно сходятся, чтобы крест-накрест упереться одна в другую, усилие растёт покуда чья-то спичка (иногда обоих) не преломится, победа за тем, у кого продержалась. Та же, в основном, идея как и в траханьи Пасхальными яйцами, просто не нужно ждать целый год для игры, на которую ушёл не один коробок подхваченный дома на кухне…
Или же мы просто бегали туда-сюда, играя в Войнушку, с криками «ура!», «та-та-та!»
– Та-дах! Та-дах! Я тебя убил!
– Знаю! Просто я ещё при смерти!
И ещё долгое время номинально павший боец будет бегать при смерти рысью, вы-та-та-кивать предсмертные обоймы и разве что уракать потише, если, конечно, мальчик понятие имеет про порядочность, прежде чем упасть в конце концов, с непогрешимо театральным смаком, на траву где погуще.
Для игры в Войнушку нужен автомат выпиленный из куска дощечки. Хотя некоторые мальчики играли автоматическим оружием из чёрной жести – покупкой из магазина. Таким автоматам требовалась спецамуниция из скрученной в тугой рулончик бумажной ленточки с насаженными вдоль неё крапушками серы. Пружинный курок ударял по такой крапушке и та громко бахала, а полоска заправленной в автомат ленты автоматически продвигалась дальше, подтягивая свежую на место бахнутой… Ну а мне Мама купила жестяной пистолет и коробку пистонов – мелких бумажных кружочков с теми же крапушками, только их приходилось закладывать вручную после каждого выстрела. А когда бабахнет, из-под курка всплывал крохотный дымок с кислым запахом.
Однажды я в одиночку бахал в куче песка возле Мусорки и мальчик из углового здания попросил подарить пистолет ему. Незамедлительно отдал я оружие, ведь так правильно – он сын офицера, оно ему нужнее и больше полагается, чем мне…
Мама ни в какую не хотела верить, будто мальчик способен отдать свой пистолет другому так запросто. Она требовала, чтобы я сказал настоящую правду и признался, что я потерял Мамин подарок. Но я упрямо стоял на своей. Ей даже пришлось отвести меня в квартиру того мальчика в угловом здании. Офицер стал стыдить своего сына, но Мама начала извиняться и просить прощения, потому что она просто хотела проверить и добиться, чтобы я не врал.
~ ~ ~
В то лето мальчики нашего Двора начали играть желтоватыми гильзами настоящего стрелкового оружия, которые отыскивали на стрельбище в лесу. Мне очень хотелось увидеть какое оно, это стрельбище, но старшие мальчики объяснили, что туда можно лишь в особые дни, когда не стреляют, а по остальным просто прогонят и всё.
Особый день пришлось долго ждать, но он всё же наступил и мы пошли через лес… Стрельбище оказалось широкой-преширокой поляной с глубоким рвом, но в одном углу получается спуститься на дно. Дальнюю стенку рва закрывал высокий барьер из брёвен, весь исклёванный пулями, а на нём пара забытых мишеней – листки бумаги с изрешечёнными контурами человеческой головы на плечах.
Мы искали гильзы в песке под ногами. Попадались только два вида: продолговатые с зауженной шейкой гильзы от Автомата Калашникова и мелкие прямые цилиндрики пистолета ТТ. Находки приветствовались громким криком и тут же шли в обмен на что-то ещё. Мне совсем ничего не попадалось и я только завидовал находчивым мальчикам, чьи громкие крики как-то гасли в жутковатой тиши стрельбища недовольного нашим приходом в запретное место…
Недалеко от глубокого рва проходила короткая траншея линии фронта, чьи песчаные стенки удерживались щитами из досок. Узкоколейка железных рельсов тянулась из конца в конец поляны, чтобы по ним каталась вагонетка с фанерным макетом большого зелёного танка, когда его тянет трос ручной лебёдки, поперёк фронтовой траншеи.
Мальчики начали играть этим всем. Я тоже посидел разок в траншее, пока над головой проедет фанерный танк громыхая вагонеткой. Потом меня позвали на край поляны, где нужно было помогать.
Мы подтягивали трос поближе к горизонтальному блоку, через который он пробегал, чтобы у мальчиков на другом краю поля боя легче бы крутилась лебёдка и танк бегал быстрее. В один момент я зазевался и не успел отдёрнуть руку вовремя; стальной трос закусил мой мизинец и втащил в ручей блока. От боли в заглоченном пальце из меня выплеснулся пронзительный крик и фонтан необузданных слёз. Услыхав мои истошные «у-ю-юй!» и как другие мальчики кричат «Стой! Палец!», крутившие лебёдку смогли остановить её, когда мизинцу оставалась какая-то пара сантиметров до освобождения из проворачивающегося блочного колеса. Они стали крутить кривой рычаг в обратном направлении, протаскивая бедный палец туда, где он в самом начале попал под трос.
Безобразно сплющенный, смертельно побледневший палец измазанный кровью лопнувшей кожи медленно высвободился из пасти блока и мгновенно вспух. Мальчики перевязали его моим носовым платком и велели бежать домой. Быстрей! И я побежал через лес, чувствуя горячие толчки пульса в пожёванном пальце…
Дома, Мама ничего не спросила, а сразу приказала сунуть раненного под струю воды из кухонного крана. Она несколько раз согнула его и выпрямила, и сказала, чтобы я мне не ревел, как коровушка. Потом она смазала палец щипучим йодом, забинтовала его в тугой белый кокон и пообещала, что до свадьбы заживёт.
(…и вместе с тем, детство никак не питомник садомазохизма навроде: «ой, мне пальчик прищемило! ай, я головкой тюпнулся!», просто какие-то встряски оставляют более глубокие зарубки в памяти.
А жаль однако, что та же самая память, кроме текущих наказов забрать стирку из прачечной и не забыть поздравить шефа с днём рождения, не хранит то восхитительное состояние непрестанных открытий, когда песчинка на лезвии перочинного ножа полна галактик, которым несть числа, когда любая чепушинка, осколок мусорный, неясный шум в приложенной к уху морской ракушке есть обещаньем и залогом будущих далёких странствий и невообразимых приключений.
Мы вырастаем, обрастая защитной бронёй, панцирем необходимым для преуспеяния в мире взрослых—докторский халат на мне, на тебе куртка ГАИшника. Каждый из нас нужный винтик в машине общества. Всё лишнее—замирание перед огнетушителями, разглядыванье лиц в морозных узорах на стекле кухонного окна—отстругнуто.
Сейчас на моих пальцах различится не один застарелый шрам. Этот вот от ножа – не туда крутанулся, тут топором тюкнуто, и только на моих мизинцах чисто, нет и следа от той трособлочной травмы. Потому что «тело заплывчиво»…
Но – эй! Слыхал я поговорки поновей, совсем недавно и очень даже в точку пропето кем-то: «лето – это маленькая жизнь»…)
В детстве, не только лето, но и всякий день – это маленькая жизнь. В детстве время заторможено, оно не летит, не течёт, оно не шевелится даже, покуда не подпихнёшь. Бедняжки детишки давно б уж пропали, пересекая эту бескрайнюю пустыню недвижимого времени, что раскинулась в начале их жизней, если б их не спасали игры.
А в то лето, когда игра надоедала, или не с кем было играть во Дворе, у меня появилось уже прибежище посреди пустыни, как бы «домик» в Классиках. Оазисом служил большой диван со спинкой и валиками подлокотников, вот где жизнь бурлит приключениями, которые переживаешь с героями книг Гайдара, Беляева, Жуля Верна… Хотя для приключений годится не один только диван. Например, балкон в комнате родителей, где однажды я провёл целый день за книгой про доисторических людей – Чунга и Пому.
На них росла шерсть, как у животных и жили они на деревьях. А потом ветка обломилась, но помогла спастись от саблезубого тигра, поэтому они стали всегда носить при себе палку вместо того, чтобы прыгать по деревьям. Потом был большой пожар в джунглях и началось Похолодание. Их племя бродило в поисках пищи, учились добывать огонь и разговаривать друг с другом.
В последней главе уже постаревшая Пома не смогла идти дальше и отстала от племени. Её верный Чунг остался – замерзать рядом с ней в снегу. Но их дети не могли ждать и пошли дальше, потому что они уже выросли и не были такими мохнатыми, как их родители, и они защищались от холода шкурами других животных…
Книга была не особо толста, но я читал её весь день пока солнце, поднявшись слева—из-за леса позади домов квартала—неприметно продвигалось в небе над Двором к закату справа – за соседним кварталом.
В какой-то момент, устав от безотрывного чтения, я протиснулся между стоек под перилами вокруг балкона и начал расхаживать по бетонной кромке снаружи. Это вовсе не страшно, ведь я крепко хватался за железные прутья ограждения, как Чунг и Пома, когда они жили ещё на деревьях. Но какой-то незнакомый дядя проходил внизу, отругал меня и сказал сейчас же вернуться на балкон. Он пригрозил даже сказать моим родителям. Только они на работе были и он наябедничал соседям снизу. Вечером они всё рассказали Маме и мне пришлось пообещать ей никогда-никогда так не делать больше.
~ ~ ~
(…всякий путь, когда идёшь по нему впервые, кажется бесконечно долгим, ведь ты ещё не можешь соизмерять пройденное с предстоящим. При повторном прохождении, тот же путь заметно укорачивается… То же самое и с учебным годом в школе. Но я бы так и не узнал об этом, если б сошёл с дистанции в начале второго года обучения…)
Ясным осенним днём наш класс ушёл из школы на экскурсию, собирать опавшие листья для гербариев. Вместо Серафимы Сергеевны, которой не было весь день, за нами присматривала Старшая Пионервожатая школы.
Сначала она вела нас через лес, откуда мы спустились на дорогу к Дому Офицеров и Библиотеке Части, но не пошли по ней, а свернули в короткий проулок между домиками, который кончался наверху крутого обрыва. Вниз сбегали широкие и очень длинные потоки двух параллельных маршей деревянных ступеней к маленькому, с такой высоты, футбольному полю.
Когда мы спустились до самого низа, на широкую лестничную площадку тоже сколоченную из досок, то поле оказалось настоящим, а в обе стороны от площадки тянулись несколько болельщицких лавок из брусьев, совершенно пустые. На противоположной стороне никаких лавок не было вовсе, зато стоял одинокий белый домик без окон и высокий стенд картины, где пара преогромных футболистов зависли в апогее высокого прыжка увековеченные в момент борьбы за мяч ногами в гетрах различного цвета.
Девочки класса остались со Старшей Пионервожатой собирать листья между безлюдно тихих лавок под деревьями у подножия крутизны, а мальчики торопливо обогнули поле по гаревой дорожке позади ворот правой половины и гурьбой устремились к реке. Пока я добежал, четверо уже бродили, закатав штанины до колен, по бурному потоку, что скатывался через брешь в когда-то прорванной плотине, остальные любовались тесниной с берега.
Я тут бросился стаскивать ботинки и носки, закатывать свои штаны. Загодя ёжась—а вдруг холодная? – я вошёл в воду. Нет, ничего… Течение с шумом бурунилось вокруг ног, толкало под коленки, но дно оказалось приятно гладким и ровным. Мальчик, который бродил рядом в упруго бегущей воде, пояснил, перекрикивая гул струй, что это плита от бывшей плотины – ух, класс!
Так я бродил пятым, туда-сюда, стараясь не заплескать подвёрнутые штаны, но вдруг всё—плеск шумно бегущей воды, задорные возгласы одноклассников, ясный ласковый день—как отрезало. Со всех сторон сомкнулся совершенно иной, безмолвный мир пустого жёлтого сумрака, сквозь который перед самыми глазами взбегали вверх вертлявые шарики белесого цвета. Всё ещё не понимая что случилось, я взмахнул руками, вернее они так сделали сами по себе и вскоре я вырвался на поверхность полную слепящего солнца, рёва и гула воды, что хлестала меня по щекам и носу мокрыми шлепками, со странно отдалённым криком «тонет!» через забитые водою уши. Ладони беспорядочно бились о воду, пока под пальцы не подвернулся чей-то ремень брошенный с края плиты, что так коварно обрывалась под водой…
Меня вытащили за стиснутый в руке ремень, помогли выжать воду из одежды и показали широкую тропу в обход стадиона, чтобы не наткнулся на Старшую Пионервожатую и ябедных девчонок занятых сбором листьев для своих осенних гербариев.
~ ~ ~
Вид сверху на школьное здание, скорее всего, представлял собой широкую букву «Ш» без той палочки посередине, а вместо неё, но только снаружи, в уцелевшей нижней перекладине – вход. Пол вестибюля покрывали квадратики плиточек, а в двух коридорах расходящихся к крыльям здания их сменял лоснящийся паркет скользко-жёлтого цвета. Широкие окна продольных коридоров смотрели в охваченное зданием пространство, где вместо отсутствующей части буквы росли молодые сосенки, совершенно беспорядочно, в тонкокожей шелушащейся коре. В стенах напротив окон были только лишь двери—далеко отстоящие друг от друга, помеченные цифрами и буквами классов получающих своё образование за ними.