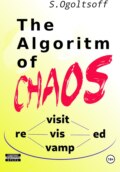Сергей Николаевич Огольцов
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Когда мы втроём (Фёдор, Яков и я) пришли с грузом «довгих» под сень гигантских Вязов в Графском парке и разлеглись в траве для возлияния под зелёный шум листвы над головой, Яков спросил, всерьёз ли я тренируюсь на циркового трубоходца. Я удивился, потому что его тогда там не было, но Фёдор сказал, что уже весь АнглоФак знает про хождение над водами.
Мы выпили и Фёдор начал изливать свою обиду на проректора Будовского, который подло, назло, испортил всю зачётную книжку потерпевшего. За четыре года все оценки там, одна в одну, лишь тройки – залюбуешься, но этот сука Будовский поставил ему «четыре», хотя Фёдор усиленно просил его не делать этого.
Тут Яков поднял свой указательный палец и огласил философский вывод, что Фёдор «плыв, плыв, та у берега втопывся».
Мы выпили ещё и, под воздействием яркого тёплого дня, я сказал, что трубоходство ерунда и мне по силам взобраться даже на вон тот Вяз. Его широкий неохватный ствол раздваивался на высоте восьми метров над землёй.
Яков снова воздел свой философический палец и объявил это за пределами человеческих возможностей, но он готов поставить две «довгих», если я помашу ему рукой из кроны дерева.
По ходу пари я малость смухлевал, потому что позади Вяза росло дерево потоньше, доступное карабканью, с которого получалось перебраться в развилку Вяза. Таким путём я достиг условленную высоту и вернулся на твердь земную. Яков завёлся витийствовать, что про подставу не уславливались, но Федя, в качестве третейского судьи, сказал ему заткнуться – оговорённая точка достигнута и – с него две бутылки…
По пути из парка в Общагу, я показал им трубу надо рвом – тренажёр грядущих звёзд цирка. У Яши взыграло ретивое и он сказал, что тут и переходить-то нечего и он запросто докажет это за две «довгих». Только пусть я подержу его штаны. Я не мог отказать товарищу с более старшего курса, моему наставнику в преферанс и затяжного дурака…
Он ступил на трубу и пошёл вперёд, в своей элегантной белой рубахе в широкую клетку из «жовто-блакитних» полосок, из-под которой шагали его длинные ноги в носках и чёрных туфлях. Он не знал как коварна эта труба над серединой рва… В общем, там оказалось не так уж и глубоко.
Когда Яков выбрел к нам, к цветовой гамме рубахи, рельефно облепившей его торс, добавилась зелень тины. Терять ему уже было нечего и он пошёл повторно, впрочем, вторичность не принесла успеха. Мой хохот подзадорил Фёдора и для поддержания чести выпускного курса, он тоже сдал свои штаны мне и двинулся по шаткой железяке. После приводнения, ему хватило ума вылезти на противоположный берег.
Дьявольщина! Как я угорал с их штанами в руках. А ведь могли бы и пройти, кстати, если б не перечеркнули шансы на успех предварительными сомнениями. Но проиграли, заранее сняв штаны. Однако Общага – вот она, а четверокурсники без штанов там не в диковинку…
Но смеялся я, похоже, не к добру. По приезду в Конотоп я узнал, что Ольга пропала – ушла на работу вчера и с тех пор её не видели. Моя мать ходила к тётке Ольги, но и той ничего не известно… По настоянию матери, я всё-таки поужинал перед выходом к тёте Нине, в надежде на новости… Та опечалено качала головой – нет, ничего.
Тогда я пошёл на кирпичный завод. Уже стемнело и в цеху основного корпуса горел жёлтый свет. Оказывается, на Конотопском кирпичном печь не кольцевая, а с вагонетками, на которых и подают в неё сырец, а после обжига вытаскиваются продукцию обратно, по принципу туда-сюда… Цех тих был и пуст, наверно, я угодил в перерыв или на пересменку. Мне встретился только один мужик и я и спросил где Ольга.
– А где ей быть? – ответил он со злостью. – Блядует по городу.
И тут я его узнал – тот самый, с кем она знакомила у гастронома № 1, когда я вернулся из армии. А он меня припомнил? Не знаю…
Я вышел из цеха в ночь… блядует… Но может ещё придёт на третью смену? Идти мне всё равно некуда…
Неподалёку от цеха, я взобрался на кладку стены недостроенного здания и уселся там как тот филин или сова, что прилетала в моё детство на Объекте, посланники неведомо кого… Вот так я и сидел там, посреди ночи, думая мысли, которые лучше и думать не начинать, а если нечаянно случится, то лучше бросить и не додумывать до самого конца, до неизбежного вывода, потому что подходит момент, когда их критическая масса минует точку возврата, бесповоротно, когда—хочешь, не хочешь—надо уже что-то делать и неважно, додуманы они у тебя или нет… но делать-то что?
В чёрной ночи распахнулся прямоугольник жёлтого света, из двери цеха вышел мужик и захлопнул свет темнотой. Вскоре свет выпрыгнул вновь, он зашёл в него, закрыл и – опять тёмная ночь. Выходил поссать. Тут делать нечего. Пойду домой…
Следующий день принёс новости. Саша Плаксин, он же Эса, с улицы Гоголя, видел Ольгу на Сейму, у домиков. Он не говорил с ней, но видел, два дня подряд.
Я не стал ждать дальнейшего развития событий и уехал в Нежин, главное – жива-здорова, а у меня завтра c утра экзамен.
Моё знание Латыни Латинист Люпус оценил на четыре, потому что перед дверью в аудиторию, где он экзаменовал первый курс, я зычным голосом взревел на весь громадный коридор:
"Gaudeamus igitur!.."
Пропажа и заочное возникновение жены совсем не там, где хочется думать дальше, меня, конечно, попримяли, но главное начать, а дальше оно само пойдёт, тем более с таким гулким эхом от паркетного пола:
"Juvenes dum sumus!.."
Люпус выпрыгнул из аудитории убедиться, что это я так громко возлюбил Латынь, а потом, когда я сел напротив него за экзаменационный стол, он принимал как полуавтомат на конвейере – открыл зачётку, поставил четвёрку, закрыл зачётку, протянул мне. Прощай, Lingua Latina…
С экзамена я поспешил в Конотоп и мать моя сказала, что Ольга приходила утром. Та не заметила, что мать в спальне, и сразу бросилась в комнату, расстегнула блузку перед зеркалом в шкафу и начала рассматривать свою испятнанную грудь.
…клеймо владельца – каждому своё… кому-то отметины ногтей на запястье, другому ожерелье из засосов на груди…
– Накричала я на неё, чтоб убиралась где была. Она собрала одежду и ушла. Что теперь будет?
Я пожал плечами: —«А что тут может быть?»
– Ленку я ей не отдам, – решительно сказала моя мать.
Всё это было очень тягостно…
Ольга пришла на следующее утро, но уже в водолазке. Сказала, что ночует у тёти Нины, потому что моя мать её выгнала. Потом начала гнать дуру, что ездила на Сейм со Светой и жила в домике кого-то из друзей дяди Коли. Я попросил её не напрягаться, всё равно мы разводимся.
– А Леночка?
– Останется тут.
Она начала грозить, что увезёт дочь к своей матери в Крым. Потом сказала, что это я довёл её своими блядками в Нежине, про которые ей всё докладывали, но она молчала. И да, она ездила на Сейм, позлить меня, но там ничего не было, а у нас ещё может всё наладиться.
(…в жизни всегда есть выбор: можешь копать яму, а можешь не копать…
Подав на развод, признаёшь себя рогоносцем, который мстит в рамках текущих правил общественной морали. Не подав на развод, всё равно остаёшься рогоносцем, но только если смотришь на себя глазами общества или же—правда не всякий пойдёт на это «или»—становишься ахулинамистом, которому это всё похуй и он/она живёт в своё удовольствие. Крохотный нюанс в том, что истинный ахулинамист и не заметит никаких дилемм, он/она—и так, и так—живёт в своё удовольствие всё время.
Мне всегда хорошо было с Ольгой, но тут на меня навалилась масса вековых устоев морали и кодексов «чести», поставили перед выбором: стать рогоносцем или переходить в другую лигу? Выбор – это всегда трагедия, выбирая одно, утрачиваешь другое…)
Выбирать, как правило, мне неохота, лучше сплавить трагедию другим – судьбе или, там, случаю. В тот раз Ольге досталась роль решающей монетки. Я сказал ей, что всё будет зачёркнуто и забыто, если она достанет дури, всего лишь на один косяк, до конца дня. Она ушла и вернулась уже вечером, усталая. Сказала что обошла весь город, но дури нет ни у кого.
Тяжёлый случай, жестокий перст судьбы, нежданно подкативший подсос. Alea jacta est!.
(…если бы Ольга достала косяк, то мне, как благородному человеку, осталось бы только сдержать своё слово. Нам пришлось бы жить дальше и теперь кто-то другой слагал бы это письмо. А может оно и вовсе бы не понадобилось, а были бы у тебя и папа, и мама, и всё такое прочее. Ведь изменение всего одной, казалось бы самой незначительной, детали влечёт неисчислимое множество совсем иных последствий…
Если, к примеру, скакнёшь машиной времени в Мезозойскую эру и там случайно ляпнешь-пришлёпнешь одного-единственного комарика – куснул гад, а по возвращении оказываешься в необратимо изменённом будущем – да, год тот же, откуда вылетал, но сам ты уже не вписываешься в текущие стандарты. А и некого винить, лучше надо было смотреть во что вляпываешься в том мезозойском прошлом…
Всего один косяк вернул бы мне семейную идиллию с идеальной женщиной. Она ведь не торговала собой, не обменивала себя на деньги или прочие выгоды, а изменяла мне ради личного удовольствия. Натуральный обмен утехами: ты – мне, я – тебе.
Факт, что обменивалась ещё там с кем-то, никак не сказывался на том, что мне с ней хорошо. Зачем я безмозгло отверг то, чего хотел и получал в полной мере? Моральные устои общества лишили меня всякого выбора, кроме как влиться в толпу тупорылых бурсаков…)
Она сделала мне бесподобный минет на прощанье и попросила назавтра придти к тёте Нине для чего-то важного… Так, по воле жестокого случая, я стал рогоносцем.
(…я долгое время не мог понять за что не люблю Лермонтова, но теперь знаю – это из-за его лжи. Лермонтов лгал с самого первого шага, со стихотворения на смерть Пушкина:
"…с свинцом в груди и с жаждой мести поник он гордой головой…”
Ну допустим, эта ложь случилась из-за слабого знакомства с анатомией. Гусар – не лекарь, в конце концов, ему что пах, куда, фактически, попала пуля, что грудь – всё едино. На полметра выше или ниже, какая разница? Но следующей лжи нет оправдания:
"…восстал он против мнений света…"
Ба, голубчик Лермонтуша! Не тупи! И близко он не восставал, а в точности исполнил предписания света на подобные случаи. Неукоснительно, с рабской верноподданностью исполнил. А коль скоро Пушкин не смел ослушаться морального устава, то нам, простым обывателям, и подавно сам бог Аполлон велел, в случае нарушения супружеской верности подавать на развод…
И всё ж любимым ищешь оправданья… А что если вдруг Пушкин вовсе и не подчинялся диктату обычаев и нравов, но наоборот – с умыслом использовал их в личных целях? Что если стареющий, истрёпанный поэтическими излишествами, он прицепился к залётному из Франции пацану Дантесу, за излишнее внимание к своей жене, и симулировал из себя шекспировского Отелло с единственной целью – красиво уйти?
Однако развитие такой гипотезы требует трёх докторских: по геронтологии, психологии и филологии, а у меня есть дело поважней – письмо к дочери, а посему поспешим вспять, с Варанды в Конотоп…)
На следующий день, на хате у тёти Нины, та повторила уже слышанное мною от Ольги, на тему нового старта нашей совместной жизни, которая наладится. Потом тётка ушла работать во вторую смену, а мы с Ольгой выпили по стакану самогона и около часа терзали друг друга в пустой гостиной с чёрным пианино и на кухне с ходиками на стене. Когда мы оделись, Ольга спросила, что теперь? Я ответил, что этот вопрос решён и, увы, не мною. Она заплакала и сказала, что знает что ей теперь делать, и начала глотать какие-то таблетки. Сколько-то из них мне удалось отнять, но не все.
Я выскочил из хаты, свернул на улицу Будённого и мимо заводского Парка побежал к базару, где рядом с перекрёстком висел телефон-автомат. К счастью, пацанва ещё не срезали трубку и я смог вызвать «скорую».
Наверное, у них не каждый день бывает вызов на глотание таблеток и машина «скорой» обогнала меня на обратном пути. В хате тёти Нины Ольга вяло, но самостоятельно сидела на табурете посреди кухни и нехотя отвечала на вопросы врача и медсестры в белых халатах. В руках у неё была большая кружка, а на полу возле ног – таз, куда производилось промывание желудка.
Кризис был явно позади и я ушёл не вдаваясь в детали. Вряд ли у неё найдётся вторая доза, а по личному опыту я знал, что эта процедура приводит к общей переоценке ценностей и дарит новый взгляд на вещи…
Через пару дней мне сказали, что Ольгу видели на вокзале. Она садилась на московский поезд с каким-то чернявым парнем. Скорее всего тот самый, кому она изменяла со мной двумя днями раньше…
~ ~ ~
Через неделю я поехал в Нежин на выпускной четвёртого курса, как обещал Наде. Вечер проходил в зале торжеств на первом этаже столовой. Надя была там самой красивой, в длинном платье из лёгкого шифона, словно невеста на своей свадьбе, только в розовом.
В конце, все вышли на берег Остра позади Общаги и разожгли костёр из толстых тетрадей с конспектами лекций, которые писали все эти четыре года. Фёдор с Яковом на вносили свой вклад в костёр, во-1-х, я никогда не замечал у них чего-то похожего на конспект, а к тому же на выпускной они не приехали.
Светила полная луна, костёр пожирал националистическими жовто-блакитними языками пламени страницы когда-то таких нужных записей. Бывшие студенты разобщённо и молча глазели в огонь, каждый уже сам по себе, без одногруппников и однокурсников. Охватывая костёр широкими кругами, в тёмных зарослях высокой травы, бродил преподаватель теоретической грамматики. Он был карлик, всем по пояс, но говорили, что очень умный. Одна из выпускниц, самая неказистая и, по сплетням, тупая и грубая, согласилась выйти за него замуж, чтобы не ехать в село, куда её распределили отрабатывать свой диплом. Она и сама была из села, так что знала от чего отказывается таким своим выбором…
Для нашей прощальной брачной ночи мы с Надей поднялись в её комнату, где были даже занавесочки на окнах. Мы прощались и засыпали, потом просыпались и снова прощались: и брассом, и кролем, и по-собачьи, и на спине, и вольным стилем… Когда бледный свет начинающегося утра начал просачиваться сквозь занавесочки, она потянулась за первым минетом в своей жизни, но я устало отстранился. Пусть её завтрашнему мужу хоть в чём-то достанется быть первым. Всем нам—компашке рогатиков—надо делиться друг с другом, по братски…
~ ~ ~
Когда мужику нехрен делать, он всегда найдёт во что впрячься. Хата на Декабристов 13 не скупясь давала чем заполнить досуг и отец напланировал реконструкцию инфраструктуры: выложить кирпичом земляной погреб под кухней, заменить забор и ворота, построить летний душ рядом с сараем, утеплить туалет в огороде, вымостить дорожки кирпичом, чтобы грязь не месить после каждого ливня. Летом мужик беспросветно занят…
Для заполнения своего культурного досуга я отправлялся к Ляльке. Он жил рядом с Площадью Мира в квартале пятиэтажек из красного кирпича между кинотеатром Мир и Универмагом, рядом со «Снежинкой», павильоном мороженого.
Отец его в годы молодости блатовал, а под старость стал идейным вдохновителем следующего поколения блатняков. Вернувшись с Зоны, они с умилением вспоминали как Лялькин стары́й являлся на их суд в пиджаке поверх майки, давал напутственные наставления и там держать хвост пистолетом, пререкался с судьёй и принудительно выводился ментурой из зала… Я его не застал. Но его тёща, мать Ляльки, всё ещё жила отшельницей в спальне с видом на руберойд в крыше «Снежинки». Вместе с дряхлой, но злобной болонкой Бебой и со своей дочерью Марией Антоновной, матерью Рабентуса и Ляльки.
Лялька сменил своего пахана насчёт моральной поддержки хлопцам, когда подзалетят. На суды он не ходил, но знал когда кого отправляют в места отбывания срока и приходил на вокзал попрощаться через решётку прицепного спецвагона, он же столыпин…
Балкон гостиной комнаты Лялькиной квартиры выходил в широкий тихий двор обставленный пятиэтажками, где изредка росли тенистые Яблони и стояла заколоченная хата-инкубатор подрастающих блатарей. В голубятне над хатой младший брат Ляльки, с двойной кликухой – Раб и Рабентус, держал голубей, когда не отдыхал на Зоне.
Их мать, Мария Антоновна, портниха из ателье позади Главной почты, когда-то мечтала, чтобы старшенький стал скрипачом и даже купила ему скрипку, которую Лялька прятал в заколоченной досками, крест-накрест, хате, когда как бы отправлялся на урок. Поэтому все, что она смогла привить, это любовь к хорошей одежде – рубашечки, джинсы, туфли Ляльки всегда смотрелись тип-топ. Правда, музыку он тоже любил, не то что Рабентус, у которого все интересы ограничены только голубями и насчёт пожрать, потому-то он в два раза толще шотландистого Ляльки…
На том балконе мы слушали пластинки Чеслава Немана, Slade, АС/DС… Когда начинал жужжать звонок, Лялька выходил в прихожую и отводил посетителей на кухню, толкнуть им шмотки по мелочам, какие-нибудь джинсы или рубашки с иностранными лейбами.
Иногда это оказывался не клиент, а кто-то из братанов его брата или городских резаков, типа Графа Младшего или Коня, или так далее, что продёргивал через двор и завернул на звук динамиков (хата Ляльки пользовалась династическим уважением), ну и, короче, типа, заскочил, да, побазарить по понятиями, что всё должно быть честно, и чтоб по справедливости.
Для таких случаев Лялька ставил совсем уже тяжёлый тяжёлый рок – Arrowsmith, или Black Sabath. Эти доморощенные натур-философы понятий справедливости больше одной песни не выдерживали и, вспомнив про какое-то неотложное дело в Городе, покидали диван покрытый жёстким негнущимся ковром. Лялька вздыхал им вслед и, подкатив глаза, качал головой, что это жлобьё вконец окабанели—но что поделаешь, традиции обязывают—приглаживал свою кардинальскую бородку и ставил Энгельберта Хампердинка….
Вообще-то, у него имелась тяга к знаниям, чего он не скрывал и не стыдился. Так, например, однажды Лялька попросил меня объяснить слово «эксцесс», которое только что услышал от меня же. Короче, я нужен был ему как оазис среди всех этих любителей справедливости местного разлива.
Безусловно, основным связующим нас звеном была дурь, а в период предсезонного подсоса колёса—ноксирон, седуксен, кодеин—главное, знать что с чем и в каких пропорциях…
В Лунатике на танцах он встречался со своей девушкой Валентиной, у которой были прекрасные Испанские глаза. Как выразился один резак, в виде комплимента: «Вот так бы взял, вырезал и – на стенку». В один из вечеров я танцевал с её подругой, Верой Яценко, хотя и знал, что Квэк не первый год по ней страдает, а Вера походит с ним неделю и после месяцами, да отстань ты.
После танцев Квэк остановил меня с Верой в аллее парка, попросил у неё извинений и позволения поговорить со мной. Она пошла дальше в толпе неспешно продвигавшейся на выход из парка. Мы с Квэком отодвинулись к постриженным кустам, чтоб не мешать течению. Я различал, что Квэк поддатый, не то чтобы в отрубе, но неслабо. Он облокотился лбом о моё плечо и, на всякий, подпёрся взглядом в землю: —«Сергей, я был с Ольгой».
Конечно, эта дружеская чистосердечность меня царапнула довольно глубоко, но вскрывать несостоятельность подобного воззрения я воздержался, что это не он был с ней, а она с ним, и что он не единственный кем она пользовалась. Во-1-х, такие тонкости он и по трезвянке не догонит, не то что под бухаловом, а во-2-х, мне ещё Веру Яценко догонять…
Я проводил её до одной из двухэтажек вдоль проспекта Мира, но когда мы стояли в тихом тёмном дворе, Квэк нарисовался в воротах и попёр вперёд с восклицаниями не вяжущимися с безмятежным покоем летней ночи. Не оставалась иного выбора, как сделать пару превентивных шагов навстречу и заткнуть его отрезвляющим в челюсть. Он упал на спину, но продолжал орать: —«Так вот как вы встречаете? Подготовились?»
Наверное, у пьяных и вправду есть ангел-хранитель, но тем упреждающим ударом я выбил себе палец на руке и больше бить не мог, а когда Квэк поднялся, наш поединок обернулся борцовским единоборством. Мы покатились по земле, а после громкого обещания Веры позвать отца и брата к месту разногласий, покинули двор.
Шагая в одинаковом направлении, мы постепенно восстановили общение, вкратце обсудили детали нашего недавнего противостояния, слегка коснулись неоспоримо сочных привлекательностей Веры Яценко. К теме Ольги мы никак не возвращались.
На Переезде-Путепроводе он сел в трамвай № 3 отправлявшийся на Посёлок, а я пошёл дальше, обогнул вокзал и вдоль железнодорожных путей пошагал на улицу Декабристов, поскольку моё плечо слегка кровоточило ободравшись о шлаковое покрытие дорожки во дворе двухэтажки. Шлак хорош от осенней слякоти, но на татáми он никак не тянет.… На следующее утро мне пришлось прогнать дуру родителям о своём падении с велосипеда – традиционная отмазка, что вызывает понимающую ухмылку спросившего.
(…наверное, ангелы-хранители тоже уходят на пенсию. Много лет спустя Квэк умер традиционной мужичьей смертью – уснул в сугробе и замёрз в паре метров от своей хаты… Иногда мне кажется, что единственное место, где он ещё существует – это мои воспоминания о нём…)
Вскоре меня вызвали в ментовку позади гастронома № 5 для объяснения моей роли в Ольгиной попытке самоубийства, о которой им сообщила «скорая». Я дал показания, что в данном правонарушении ни наводчиком, ни соучастником не был и мня отпустили.
Мать моя собрала оставшуюся в доме обувь и одежду Ольги: осеннюю, зимнюю – всю, на любой сезон. Получился изрядный тюк, который она обшила белой тканью для отправки почтовым вагоном. Я позвал Владю на помощь и мы потащили тот тюк вдоль железнодорожных путей на вокзал, в багажное отделение. Его мы несли продев никелированную трубу оконного карниза под верёвку, как доисторические охотники или Аборигены носят добычу в своё стойбище. Только мы тащили в обратном направлении, прочь, потому что это была не добыча, а утрата.
В багажном отделении я написал Феодосийский адрес по белой ткани и мне выдали квитанцию с указанием веса посылки. Когда мы вышли оттуда, Владя явно порывался что-то мне сказать, но сдержался. Я всегда знал, что он намного тактичнее Квэка.
…некоторые мысли лучше и думать не начинать…
Трубка от карниза прогнулась посредине от нагрузки пока несли, и я зашвырнул её в кусты позади первой платформы вокзала, не тащиться же с ней к Ляльке…
~ ~ ~
Первого сентября, на торжественной линейке вокруг унылого бюста Гоголя между Старым Зданием и Новым Корпусом, ректор института, как всегда, объявил, что занятия начинаются для всех, кроме студентов вторых и третьих курсов, которые поедут в сёла со своей шефской помощью. Студенты вторых и третьих курсов всех отделений, как всегда, прокричали «ура!»
На следующее утро колонна из двух больших автобусов повезла груз второкурсников по Московской трассе до райцентра Борзна, а оттуда свернула на ухабистую грунтовку в сторону села Большевик, но не смогла преодолеть заключительный километр непролазной грязи. Студенты и полдюжины преподавателей-надсмотрщиков выгрузились на обочину и друг за другом потянулись, не особо выдерживая какой-либо интервал, по мокрой после дождя тропе через зелёную, и тоже мокрую, чащу кукурузных стеблей в село, где им предстояло трудиться на уборке хмеля. Пешая колонна недовезенных тащили, практически, поголовно, неброские, но увесистые «торбы» – груботканые сумки с провизией прихваченной из дому.
Моя ноша не слишком напрягает – гитара, грифом поперёк плеча, да курево в кармане и незапланированная прогулка была бы в кайф, если бы не промокали кеды. А остальное всё ништяк, в натуре, хотя бы вон тот красный свитер, синие джинсы в чёрных резиновых сапогах и венец из козырька-косынки. Пыхтят, совместно волокут свою персональную «торбу». От сапог я бы не отказался, да и остальное по делу…
(…порою удивляюсь сам себе, чуть попадётся особь с волосами длинней, чем у меня, а бёдра шире и круглее и – всё, спёкся. Я побеждён, повержен, покорён, лапки кверху и – готов сдаться на милость победительницы…)
– Девушка! Сапоги у вас какой размер? 45?
Надменный взгляд через плечо: —«46-й».
Подкат, конечно, не ахти. Не клеится на этой сырости, но хотя бы ответила. Обгоняя, я обернулся улыбнуться неприступно недовольному лицу и пошёл дальше, потому что нет у меня привычки подмигивать девушкам, хоть, говорят, им это нравится…
Село Большевик оказалось одной широкой и пустой улицей из десятка хат и каких-то неразборчивых строений, что терялись в глубине промозгло серого тумана за спиной больших деревьев с тяжёлыми каплями, которые изредка роняла их листва. Все зашли в одноэтажную столовую и без того полную давящим сумраком ненастья за низкими окнами. Длинные столы в древней иссеченой клеёнке и заткнутое фанеркой окно раздатки подтверждали назначении комнаты.
После долгих переговоров преп-надсмотрщиков с местным руководством, студенты приступили к пребыванию в селе… Пара деревянных двухэтажек, поделённых внутри на четырёхкоечные пеналы, достались студенткам. Студентов же разместили в общем зале на втором этаже клуба, тоже деревянного. Каждому выдали матрас с подушкой, армейское одеяло, и пару простыней.
Со скаткой постельных принадлежностей под правою рукой и с гитарой в левой, я взошёл на второй этаж клуба, где и получил глубокое впечатление от дизайна общей спальни. Обширный настил из дощатых щитов создавал щемяще знакомый пейзаж вроде как загремел на переполненную «губу» на месяц. Около тридцати матрасов уже покрывали настил, бок о бок, так что в дальнейшем каждый шеф должен был вползать на четвереньках от узкого края матраса в изножье своего ложа отдохновения. К счастью, возле входной двери оставался высокий бильярдный стол, чьё неравномерно поблёкшее, но когда-то зелёное сукно орнаментировали ассиметричные ножевые раны. Заняв его под свою постель, я не блатовал и пахана из себя не строил, а просто обратил внимание, что буквально каждый бильярдный шар на полочках их сбора на стене, был жестоко выщерблен и это превращало весь набор в бесполезную коллекцию яблочных огрызков. Самое богатое воображение забуксует и откажется представлять возможность игры этим сбродом жадно надкусанных калек, что превращало стол в бесплодную часть унылой декорации.
На этом основании, около месяца я спал в четырёх метрах от коммунального лежбища на нарах, и на полметра выше привычного мне уровня залегания, зато никто не храпел мне в оба уха. Ширина стола позволяла поместить рядом с матрасом обломок лакированного кия из-за циркуляции в студенческой среде зловещих слухов про враждебные настроения местной молодёжи к понавезённым городским… Кормили нас трижды в день. Студенты воротили носы и издавали всхрюки отвращения, но мне их театральщина казалась слабой – хавка достаточно хавабельная, как и повсюду.
Утром следующего дня после завтрака мы вышли собирать хмель, чьи многостебельные жгуты взбирались на трёхметровую высоту к проволоке специально для них натянутой над полем.
Густые гирлянды переплетённых стеблей, подобные живым колоннам тёмно-зелёной листвы, следовало сдёрнуть наземь и обобрать гроздья мягких бледно-зелёных шишечек. Наполнив шишечками мелкую корзину с двумя ручками (да, как шайка в бане, но не жестяная) их высыпали в ящик на весах. Преп-надзиратель записывал в блокнот доставленные тобою килограммы для последующего начисления зарплаты, минус плата за ночлег и кормёжку. Но расценки на кило собранного урожая своею мизерностью сразу же укладывали весь трудовой энтузиазм наповал. Навыки элементарной арифметики иногда мешают чувствовать себя счастливым.
Конечно, оставалась ещё стимуляция из звонкой разноголосицы задорных молодых возгласов над полем и из таких разнообразных, но одинаково притягательных (каждая по своему) форм институток с разных факультетов. Однако пальцы мои привыкшие к металлу лома и гитарных струн тормозились на такой, по-Китайски кропотливо-крестьянской работе. Мой первый день на плантации хмеля стал также и последним, 2 в 1, если кто понимает. В дальнейшем, я исполнял различные работы: раза два ездил в райцентр на погрузку продовольствия для столовой, и настилал пол на ферме из всяких горбылей и прочих обрезков, и пилил дрова для местной жительницы в обмен на непроглядно мутный самогон… и я также… ещё… ну может, это и всё… но не так уж и мало, вообще-то.
Хмелеуборщики заработали по сорок рублей в тот месяц. Пара студентов, которые пристроились в сушилку, по сто с чем-то, а я за все свои шефские труды получил двенадцать рублей с копейками в кассе института, когда уже вернулись в Нежин. Скорее всего, деньги были заработаны в те три дня, что я пилил и приколачивал доски над навозными хлябями по земельному полу.
Один раз, от резкого удара молотком, навозная жижа цвиркнула в щель меж горбылей, прямо мне в лицо, а корова из соседнего стойла покосилась на меня левым глазом и ухмыльнулась с таким довольным видом, что теперь я точно знаю – эти скотины не настолько тупые, какими прикидываются. Фактически, основным моим занятие на ферме была игра в подкидного с тремя местными мужиками. Моя фотографическая колода карт (вполне пристойная чёрно-белая порнушка) приводила их в кататонический ступор, ну до того же ж они вникали шо за карта им пришла, невыносимо долго обдумывали каждый свой ход, и сокрушённо отрывали подбрасывая или отбиваясь, голую красотульку от корневища своего сердца.
(…нынче эра поменялась и такие же колоды карт, но уже в цвете, продаются в привокзальных киосках…)
Один из пристроившихся в сушилку студентов, рыжий Гриша с БиоФака, тоже играл со мной в подкидного, после работы. Он страстно хотел выиграть. Азартный парень нашёл даже обычную колоду карт вместо моей пегой галереи, но школа Якова Демьянко приносила свои плоды и под конец месяца он проиграл мне ящик водки, ровно двадцать пять бутылок. Однако помня детдомовскую мудрость Саши Остролуцкого, что синица в руке лучше неба в алмазах, в наш последний день в хмелесовхозе я сказал огненнокудрому Грише, что одна бутылка на месте спишет весь его долг, и он радостно побежал в сельский магазин, а то бы я и того не видел.
Не то чтобы водка или самогон и вправду так уж меня вставляли, нет, на безоглядное питиё меня толкало моё общественное положение и мнение окружающих.
(…окружающие держат нас узниками своего мнения о нас. Любой наш поступок (и неважно какого свойства) будет лишь чернить нашу и без того беспросветную репутацию либо же раздувать их безмерное восхищение нами. Смотря во что уже втянулись… Чаще всего, мы просто начинаем подстраиваться, послушно оправдывать возложенные на нас ожидания. И если мне скажут, что кто-то стал алкашом из-за того, что noblesse oblige, я поверю…)
Например, студент Филфака и пара девушек его курса зашли на ферму. Они тормознулись у стойла с быком на цепи. Этот умник подбросил исполину клок сена от коровы в соседнем стойле. Учуяв знакомый дух в подброшенном сене, бык начал яриться, реветь и заметно возбуждаться, несмотря на цепь в ноздрях.