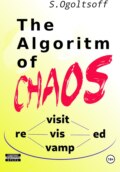Сергей Николаевич Огольцов
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Люда эту мою мысль прочитала и прямиком к холодильнику, ножки те зелёные сложить, а потом ещё меня таким выразительно-красноречивым взором одарила. Как бы а тебе какое дело до скелетов в нашем семейном шкафу?! И доедал он уже без рогов.
Ну в общем, когда Славик тот аэродром из половой доски к ним в комнату уволок для испытательных полётов, какая-то, видно, нестыковочка нарисовалась. Через три дня он эту взлётную полосу в бурьяне ножовкой укорачивал. Вот это и называется метод проб и ошибок в действии.
– А шо он ото клеплет? – спросил один махновец другого, когда проходили мимо.
– А то ж как будто бы не видно – станок ебальный.
– А-а…
А что ещё можно ждать от мужиков? Не умеют они изящно преподнести, нумерологически, нет, так и ляпнут навпрямки…
А когда его тёща приехала, он вообще звереть начал. Приходил ко мне в комнату и рожи корчил. Цель его гримас насквозь просматривалась, это он хотел меня до сумасшествия довести…
Один раз Иван, машинист машины № 1, позвал меня пообедать с ним и его помощником у них в штольне. Его жена в Одессе работала, в столовой какого-то военного училища, где обучались также Негры из стран пробудившейся Африки. Ну так эти Афро-Африканцы спросонок не очень-то и голодные, судя по количеству провизии, что она оттуда приносила. Иван как крышку снял с алюминиевой кастрюли, там там до краёв мяса на рёбрах, правда, без гарнира. Мы втроём—Иван, его помощник и я—насилу гекатомбу ту приговорили, костей получилась целая куча. На песке, рядом с опустошённой 5-литровой кастрюлей. А тут Славик за какой-то запчастью пришёл и как увидел тот обглоданный натюрморт каннибалов – аж затрясло его, рожу без симуляции перекосило, должно быть тёщин супчик вспомнился.
Возможно из-за этого, спустя несколько часов, когда жильцы общежития наслаждались прохладой позднего вечера на досках широкой скамьи у входа, он на меня буром попёр, даже один слиток из золотого запаса в бурьянах выхватил, двумя руками над головой вскинул и – в меня запустил. Красивое зрелище получилось – полная луна изливается ясным светом на дугообразную траекторию, по которой летит этот слиток и поблескивает белым, якобы, алюминиевым цветом на фоне бархатной темноты роскошной ночи. (Или я ошибся и шахта, всё же, добывала платину?)
Тут уже мне пришёл черёд убегать в стиле Алика Армянина. Жена Славика, Люда, увела домой Циклопа с арены показательных выступлений…
В следующее своё посещение Одессы, я зашёл в юридическую консультацию, чего совсем не планировал, всё так спонтанно получилось, просто вывеска на глаза подвернулась. Там я спросил, без обнародования имён и географических координат, рекомендаций на случай, если сосед по общежитию донимает.
– Обратитесь в комитет комсомола вашего предприятия.
Ну, блин, и эти из иного мира. Говорю ж – они уже повсюду.
Но если Главный главный это Яковлевич, то кто тогда, чёрт побери, главный инженер? Угадать несложно – кто антипод Творца? Князь тьмы и повелитель всех нечистых во всей его красе.
Это сразу замечалось даже по их отношениям – уважительный, но вооружённый нейтралитет. Вспоминаю как они стояли в стволовом тоннеле и говорили с глазу на глаз – воплощённая корректность! Мастер в его чёрной робе и главный инженер в летней рубашечке и широкий носовой платок вокруг воротничка заломил, чтобы пыль не садилась. Ему б ещё пробковый шлем вместо пластмассовой каски и – готовая картина «Я тут хозяин!» Хотя, конечно, мир подземный его вотчина.
(…ты можешь возразить: возможен ли контакт меж столь диаметральными противоположностями? Не забывай – шёл двадцатый век, когда все настолько переплелось и перепуталось, что элементарная Геометрия уже не помогала…)
Я занял позицию сочувствующего Мастеру. Он мне понравился просто так, без доказательств, в виде преумножения хлеба с рыбой и тому подобное. С меня, фактически, хватило одного чуда с омоложением паспорта.
Кстати, главный под Главным тоже предъявлял свои верительные грамоты. Однажды во время обеденного перерыва приехал проводить профсоюзное собрание трудового коллектива. (Ага! Какая преисподняя без профсоюза?)
Мы расположились под деревьями возле общежития. Он на стул уселся, снял туфли и носки тоже. Типа, ну не глупость разве все эти сплетни про мои копыта! Нетути!
Но мне-то баки не забьёшь всей этой мякиной иллюзорности.
Чертяки махновцы разлеглись на траве в тени деревьев в своих чёрных робах. Только я в белой нейлоновой рубахе, которую под спецовкой носил, а каждый вечер простирывал, когда в душе мылся.
(…нейлон для стирки идеален – шесть секунд потрёшь и чистый, а сохнет и того быстрей…)
В виде корректного, хоть и ехидного ответа, я каску снял. Типа, ты бескопытность тут демонстрируешь? Так полюбуйся на мою безрогость! А остальные, кто из шахты, все поголовно в касках, особенно Славик Аксянов.
И в таком раскладе минут десять попрофсоюзились, как вдруг петух кукарекнул. Батюшки-светы! Тут главный, который не Главный, носки – в карман, голые ноги в туфли вколотил и – ходу! И сразу же, как из под земли, выскакивает байкер в чёрном и в каске чёрной кожи, как на шахтёрах их кинохроники первых пятилеток. И усвистали в сторону Новой Дофиновки. Неясно разве? Кто когти рвёт при крике петуха?.
Не то, чтобы я конфронтовал с… ну, скажем… главным инженером, но некоторые трения случались. Как в тот раз, когда у заднего конца общежития самосвал ссыпал кучу угля на зиму, а я весь тот антрацит в кочегарку перелопатил. В конце дня, он заявился из Вапнярки и спрашивает, высокомерно так: —«Ну, что ты хочешь? Трёшки хватит?»
Меня заело: полдня на солнцепёке карячился, а он как типа подачки последнему ханыге. Ладно, ты – князь тьмы, но так и я ведь избранный, хотя и беспросветный.
– Нет! – грю. – Пусть мне заплатят по расценкам.
– Так ты и этого тогда не получишь.
Я ему не поверил, а на следующий день взял отгул и поехал в Одессу на Площадь Полярников. Мне в коридоре показали дверь главного бухгалтера, фамилия Вицман. И только я шагнул в тот кабинет, на столе главбуха телефон затрезвонил, тот снимает трубку: —«Вас слушают».
(…вот буквально так, слово в слово «Вас слушают». Чисто, гладко, безлично. Ни с какого боку не укулупнёшь. Ай, да Вицман!.)
Излагаю суть, мигом усекает и достаёт толстую книгу в мягкой серой обложке Единые Нормы и Расценки, отыскивает, что там насчёт погрузочно-разгрузочных работ сыпучего угля, и даёт прочесть. Так там, чёрным по белому стоит, что если бы я лопатил в Заполярье—для оплаты по наивысшим северным коэффициентам—и при этом каждый совок трижды обносил вокруг всего общежития, прежде чем швырну в окно кочегарки, чтобы накрутить расстояние перемещения груза, то и тогда по расценкам этой нормативной библии, мне полагается 1 руб. 20 коп.
(…и открылось мне, неведавшему истины дотоль, что мастерам, прорабам, инженерам и т. д. и т. п. в ножки кланяйся, работный люд, за туфту, которую они рисуют в нарядах на исполнение работ. Без тех приписок рабочий класс вымер бы давным-давно, совместно с семьями. Молись за благодетелей своих, хлеб твой насущный подающих, О, пролетариат!
Но какой па́дел гнусный все те расценки составлял? Я б с ним, по-братски, лопатой поделился…)
А в другой раз выплату аванса задержали и я к главному инженеру на дом пошёл, в Одессу. По случаю субботы отгул не понадобился. А окопался он возле Горбатого Моста. Жил в собственном доме с женой и сыном пятиклассником. Угостил меня стаканом томатного сока домашней выделки. (Ага!..) Всё как положено – красная такая, густая солоноватая жидкость. А как откажешься? Маргарита тоже пила, на ежегодном балу Воланда в Москве. Зато чай я до сих пор завариваю по его рецепту, как он поделился… В тот вечер он ещё делился воспоминаниями про трудовую деятельность в Арктике, где после работы клал пару кирпичей на электроплитку, а сверху жену сажал, для приведения в рабочее состояние на ночь…
Один раз нечистые затеяли попытку путча, хотели изменить расклад стратификаций мира. За день до этого инженер Пугачёв нарисовался в общежитии и открыл одну из запертых дверей коридора, под видом раздачи продовольственных продуктов до зарплаты.
Я по коридору проходил, мне Славик Аксянов из комнаты кричит: —«Иди, тоже получай!»
Пятёрка махновцев в пустой комнате и ящик с пачками Примы на столе без стула. Пугачёв им выдаёт по пять-десять пачек каждому.
Продукты питания, да? Боеприпасы! «Нет, спасибо, я Беломор курю.»
На выходе уже, слышу Славик чертей мотивирует: —«Не боись! Молодость всё спишет!»
На следующий день в Одессе не работал ни один светофор. Творился полный кавардак. Посторонние люди орали друг на друга. Троллейбусы прыгали как угорелые. Стрельбы, конечно, не слыхать, потому что путч проводился на другом уровне. Но, по моим оценкам, он провалился, поскольку я успел купить Атлас Мира, тонкий буклет в мягкой нежно-зелёной обложке.
В Одессе тех дней, самым устоявшемся и общеупотребительным выражением одобрения было «то, шо любишь!»
– И как вам последний Сонечкин жених?
– То, шо любишь!
А вместо «нет» говорили «хуй маме!»
– Так, шо? Черноморец выграл или шо?
– Хуй маме!
Но поскольку вокруг была Одесса-Мама, это звучало даже патриотично.
В скверу на Дерибасовской росли невиданные деревья, словно сбросившие собственную кору. Или, всё-таки, Платаны? Вечерами там играл духовой оркестр, почти как во времена Иоганна Штрауса, только реже. А в другом парке, в дневное время, я нырнул в бассейн с пятиметровой вышки, в полёте аж ветер свистел в ушах. Чуть позже два парня тоже спрыгнули держась за руки, но «бомбочкой», пятками вниз. На одном из них носки были, чёрные. Это так они мой след заметали от возможных хвостов…
В переговорном пункте междугородной телефонной связи на Пушкинской, меня однажды неслабо прикололи. Я заказ сделал и вышел за дверь распахнутую прямо на тротуар и только лишь папиросу закурил – внутри динамики орут «Нежин! Кто-нибудь ожидает Нежин?» Я папиросу – в урну. Заскакиваю: —«Я! Я ожидаю!» А телефонистка за барьером в свой микрофон: —«Ну так и ожидайте!» Весь зал прям грохнул… Это опять меня от чего-то спасали.
Один мужик там стоял. Его номер соединили. «Челябинск на линии! Кабина № 5!» А он, перед тем как идти куда сказано, разочарованно так: —«Э-э!» Вот это просвещённый! По одному номеру кабины уже знает наперёд чем разговор закончится.
С Одессой я познакомился довольно хорошо, в основном, пешком. Нашёл Публичную библиотеку № 2 и Привоз, где грузчики толкают перед собой вокзальные тележки и орут «Ноги! Ноги!», чтоб толпа им дорогу уступала. Там же на Привозе старая Цыганка на меня заклятье наложила по своим канонам, когда я ел гроздь винограда. Я даже и не понял за что, но ей виднее, а может просто под горячую руку подвернулся, не в ту долю секунды…
Фабрика Желудочного Сока. Кто бы мог представить что и такие предприятия бывают?!. Когда я проходил через дворы пятиэтажек, мужики, что «козла» забивают, начинали громче костями об столики трахать, чтоб кошек отпугнуть, что целились перебежать мне дорогу. Тоже союзники…
В Одессу я автобусом ездил, всего пару раз пешком. Там всего 20 км или около того. Один раз прогулялся от Вапнярки до Новой Дофиновки вдоль моря, по высокому берегу. В одном месте какая-то военная установка стояла, за забором из колючки. Часовой кричать начал, что мимо них нельзя ходить, подошёл, начал документы требовать. Я ему через проволоку свой платочек показал, с парусником. Он сразу понял, что уровень иной: —«Ладно, проходи по быстрому».
С той кручи вид очень красивый. Море спокойное, почти гладкое, но искрится и взблёскивает под солнцем. Иногда ветер набежит и ерошит воду, получается рисунок галактики. Спиральные, в основном. Ветер их с облаков срисовывал, что над морем висели…
В трамвае № 5 маршрута на пляж Аркадия, я Серого встретил, который в стройбате пахана из себя строил. Только удивительно малость – четыре года прошло, а он такой молоденький и, почему-то, в форме морского курсанта, бескозырка, ленточки на спине висят.
Я рядом стал, негромко так спрашиваю, ему на ухо: —«Серый, это ты?» Он никак не отреагировал, не шевельнулся даже, хотя меня наверняка услыхал, курсанты ж медкомиссию проходят… Может, решил затихариться в мичмана́х.
А в другой раз это отец мой оказался, возле газетного киоска. На отца совершенно не похож, я его только по голосу и узнал. Именно этим голосом он изображал душегуба, которого начальник лагеря до нового убийства довёл.
Когда он ко мне заговорил, я прикинулся, будто слишком углубился рассматривать портрет психиатра Бурденко на обложке журнала Огонёк, что за стеклом висел, в киоске, так что ему продавец отвечал.
(…такие встречи кого угодно доведут задаться вопросом: что происходит? Но тут без монады не разобраться.
Монада это такая прибамбаса Германского производства для содействия философам, которую всякий понимает по своему. Для кого-то это может быть единичностью из совокупной множественности, а для другого множественностью из совокупных единичностей.
Например, когда парень спрашивает девушку: —«Я для тебя один из многих или из многих один?» Тут вот второй «один» в его вопросе и есть та самая монада, хотя, возможно, и наоборот…
В одной Индийской библии, есть красочная картинка ребёнка, который ползёт по траве, а на шаг впереди него бежит пацанёнок, перед которым шагает мужчина, вот-вот нагонит согбенного старца, а дальше опять только зелень травы. Картинка называется Круг Жизни. В смысле, из ничего – в ничего.
Так вот вместе они составляют единую монаду, потому что это один и тот же человек.
Теперь остаётся лишь предположить, что монады способны составляться по каким-то другим признакам, например, по тембру голоса, и всё становится на свои места. Смотря каким концом к тебе монада развёрнута: отсюда – твой отец, оттуда – шаромыга к тебе обращается возле киоска с Бурденко.
Конечно, это малость сложнее, чем выучить наизусть: «если споткнулся на левую ногу – всё получится, если на правую – даже и не пробуй, сразу заворачивай оглобли», однако монада, в которой даже среднестатистический Немец ни уха, ни рыла, многое объясняет…)
~ ~ ~
Один Одесский преферансист был в молодости частью преступного мира. Затем он перековался и начал сотрудничать с Одесской телестудией в качестве комментатора свежих криминальных новостей. Он даже книжку написал о впечатлениях полученных в своём бандитском прошлом. И в ней он утверждает, будто год твоего рождения и особенно лето, отмечались критически бурной криминогенной обстановкой в Одессе.
Это редчайший случай, когда печатный текст не смог меня убедить, потом что в то лето я присутствовал там лично и ничего такого не заметил. Что говорит в пользу теории о существовании параллельных миров. Перекованный комментатор и я жили каждый в своём параллельном мире, от которого и получали свои несовпадающие впечатления. Общим оставался лишь номер текущего года. Но не исключено, что два раздельных мира, при всём своём параллелизме могли, время от времени, соприкасаться и это даёт объяснение паре эпизодов с криминальным оттенком в течение совершенно спокойного, в остальном, лета 79-го.
Да, за все мои обходы Одессы и проходы по ней же, мне довелось наблюдать два случая контакта и взаимопроникновения наших параллельных миров. Первый случай произошёл в утреннем автобусе Гвардейское-Одесса, когда молодой жлоб на втором сиденьи слева устроил выговор водителю за незначительное изменение маршрута на городской окраине.
По прибытии на автостанцию у Нового Базара, водитель прибежал из своей кабины в салон автобуса с извинениями и техническими (в какой-то мере чересчур подобострастными) объяснениями. Он был прощён, благодаря заступничеству молодой пассажирки с того же сиденья перед своим столь легко возбудимым спутником…
Второе взаимопроникновение имело место в здании железнодорожного вокзала, где я обратился к милиционеру с вопросом о количестве населения в городе Одессе. За ответом страж порядка послал меня в отделение милиции на первом этаже вокзала. Дежурный лейтенант, услыхав тот же вопрос, сказал мне подождать.
Исполняя его пожелание, я облокотился на разделявшую нас стойку и наблюдал как червячки его красных губ похотливо стискивают, ёлзают и ласкают фильтр его незажжённой сигареты, под аккомпанемент громких возгласов и тяжёлых ударов за моей спиной.
Беглым взглядом в том направлении, я отметил широко открытую дверь в соседнее помещение, где женщина в прозрачной косынке на волосах и в чёрном халате уборщицы умело применяла увесистый держак своей деревянной швабры, вырубая ханыгу задрапированного в одни лишь его красные трусы. Точно такие же красные трусы с узором из синих теннисных ракеток были и на мне, под штанами, разве что не такие линялые по причине приобретения всего пару месяцев назад. Поэтому меня не тянуло досматривать его неизбежное поражение в текущем матче. Обернувшись назад, я опустил свой взгляд в кротком созерцании поверхности высокой стойки, что разделяла меня и лейтенанта… Получив причитавшуюся ему—соответственно роду службы и ранга—квоту наслаждения, офицер всё-таки закурил и сказал, что миллиона пока что нет, но может, тысяч 600 наберётся…
Поэтому во время моего следующего визита в город и опоздав на последний автобус в Новую Дофиновку, я предпочёл провести ночь в скверике внутри кольца дороги перед железнодорожным вокзалом. Он оказался совершенно безлюдным из-за отсутствия освещения в подземном переходе под кольцом.
Избрав наиболее удалённую от фонарного столба скамейку, я лёг. Она оказалась настолько твёрдой, что мне вспомнился Эдгар По, зарезанный на скамейке в Балтиморе, штат Мэриленд, ради $40 литературного гонорара, который он перед этим получил, и поэтому частично вытащил из нагрудного кармана рубашки аванс, полученный мною в тот день на Площади Полярников, типа кокетливой бутоньерки из трёхрублёвок, в целях самовоспитания и развития моей личной храбрости. Движение по кольцу дороги почти прекратилось, а скамейка стала даже ещё твёрже. Но я держал глаза закрытыми из принципа, потому что ночь для сна. Поэтому я не спал, когда послышались тихие звуки осторожных шагов по асфальту.
Он подошёл и около минуты стоял надо мною, лежащим на скамейке, в усах Эдгара По, синей рубашке с коротким рукавом и частично торчащими из кармана банкнотами Советских денежных знаков. Затем он удалился, так же тихо, как и при появлении. Ради принципа и тренировки, я не открыл глаза посмотреть кто.
Утром, я очнулся на той же скамье порядком продрогший и крайне задубелый, но в отличие от великого Американского романтика, живой. Я встал и засунул деньги поглубже. Группа воронов, с карканьем и хлопаньем крыльями, пролетала в рассветном небе. По виду, те же самые, что парили над Нежином в день моего отъезда в Одессу. Сюда явно не по прямой летели. От крыла кого-то в их эскадрильи отделилось перо и, зигзагообразно кувыркаясь, падало в сквер.
Запрокинув лицо, я следил за траекторией пера и шёл на сближение, невзирая на плохо вскопанные грядки с чахлой календулой… Подставив ладонь под перо, я поймал его, вернулся обратно на тротуар аллеи и нежно опустил в урну со словами: —«Не при мне, пожалуйста».
(…не слишком широко известный Немецкий поэт первой половины ХХ-го века, однажды посетовал на свою бездарность, иначе бы не допустил самоубийственной мировой бойни.
Мало кто из маститых поднимается до столь глубокого понимания ответственности поэта за судьбы мира. Инертно цепляются они за общепринятые понятия и ритуалы своего времени, а ведь если внимательно вдуматься…)
Однако просто думать – мало, надо ещё и придумывать что-то, как выразился Валентин Батрак, он же Лялька, где-то…
Когда вышел условленный срок и настало время ехать за тобой и Ирой, то везти вас, фактически, было некуда. Но давши слово, мне не оставалось выбора, кроме как приехать и хотя бы объяснить причины задержки переезда. Денег на дорогу у меня не было как и у всех, кого я просил о займе. Крайняя надобность подкинула идею обмена обручального кольца на деньги в ломбарде.
Пока я нашёл его в городе, ломбард уже работал, а очередь начиналась на улице перед входом… Внутри он состоял из одной длинной комнаты с перегородками вдоль трёх стен. В перегородках из листового железа имелись окошечки, а в одном, в самом конце комнаты, даже решётка, и именно туда все толпились, потому что в стенах поверх других перегородок чернокудрый, но унылый юноша вёл косметический ремонт нитрокраской. Перед закрытием на обед, для чего всех попросили выйти, мне оставалось метра за четыре от финишного окошка.
В нагрудном кармане моей рубашки с коротким рукавом лежало кольцо, которое накануне вечером я насилу смог содрать с пальца. Даже мыло и вода из рукомойника на дереве рядом с общежитием мало чем помогли. По ходу самоистязания, я вспоминал кинобудку Парка КПВРЗ и в очередной раз сочувствовал Ольге.
Ломбард опять открылся и выстояв ещё час, я с тревогой протянул кольцо в окошко, потому что у той, что передо мной стояла, серьги оказались не золотыми и она ушла ни с чем. Мой заклад испытание выдержал, я получил 30 руб. и бумажку квитанции…
На следующее утро я приехал на Новый Базар и купил синюю пластмассовую кошёлку и четыре кило абрикосов для её заполнения, хотя ещё не слишком зрелые. Потом я подошёл к цветочной будке и сказал, что мне нужны три красные розы. Для цветочницы это прозвучало как условный пароль и из какого-то укромного места позади прилавка она достала некрупные розы, тёмно-красные, ровно три, на длинных крепких стеблях: —«Эти?»
– Да.
С Базара я поехал в аэропорт—немногим лучше Ставропольского—и простоял в очереди до обеденного перерыва. Когда касса закрылась, я так и остался стоять рядом, словно изваяние с тремя красными розами в руке, только кошёлку на пол опустил под окошечком. За час перерыва четыре кило и руки оборвут.
Когда я купил билет, до самолёта оставалось ещё часа четыре, а я уже устал от жизни с занятыми руками и понёс цветы с фруктами к автоматическим камерам хранения, но положить их внутрь не смог – задохнуться без воздуха и света в железной тесноте. Свернув за угол в небольшой коридор, я нашёл комнату уборщиц, они позволили оставить там цветы и абрикосы. В город я вышел имея полную свободу рук, но постарался не слишком отдаляться.
В шесть я пришёл за розами. Уборщицы как раз мыли полы в своём коридоре и одна из них сказала, что лучше подождать. Я проявил настойчивость, потому что у меня вылет через полчаса. Она усмехнулась и без дальнейших пререканий позволила забрать розы, которые торчали из жестяного ведра с водой в их комнате, только предупредила, что её коллеги и она немножко угостились абрикосами.
Я прошёл в длинную загородку с крышей на краю взлётной полосы и в группе других пассажиров с билетами на этот рейс прождал до полуночи, потому что репродуктор каждые полчаса объявлял задержку вылета на Киев. Мои попутчики тоже попробовали абрикосы и одобрили вкус.
После полуночи, в ярком свете дуговых ламп над взлётной полосой, две стюардессы пересчитали нас на ступеньках трапа, чтоб не получилось больше 27 пассажиров, потому что мы подсаживались на попутный рейс до Киева в маленький АН-24. Уже на борту, пришлось ждать пока согреюсь после пронзительного морского бриза сквозь летнюю рубашку при ночном ожидании… С тех пор, я стараюсь избегать разногласий с уборщицами…
При взлёте, я боролся с мыслями, что таки могут привезти асфальт за время моего отсутствия. В ходе уже помянутого собрания членов профсоюза валявшихся в траве, главный инженер проинформировал, что у бригады строителей начались диезы в партитуре. Для незнакомых с нотной грамотой, он приложил два пальца левой руки поперёк двух на правой, символизируя тюремную решётку. Поэтому заканчивать придётся тем, кто захочет жить. Аксяновы и я записались на переезд туда, а Бессарабская семья (в лице мужа) воздержалась.
Запланированное общежитие находилось за двадцать метров от старого и прежде тоже представляло собой животноводческую ферму. В каждой квартире, после реконструкции, получалось по две большие комнаты с одним стандартным окном на двоих. Я выбрал ту, что смотрит на лиман.
Однако стены ещё предстояло оштукатурить и застеклить окно, но мне всё равно нравилось наше будущее жильё, хотя пол в нём пока что тоже отсутствовал, как и входная дверь.
Для пола один раз привезли кучу чёрного горячего асфальта. Аксянов с помощником своей камнерезной машины возили асфальт в комнаты Аксяновых тачкой, а я носил в наши парой вёдер. Они успели покрыть пол в обеих комнатах, а я только в одной, наполовину, но намного качественнее, прежде чем та куча снаружи кончилась. Поэтому, пока самолёт набирал высоту, я не хотел, чтобы привезли асфальт, пока меня не будет.
Потом я начал смотреть в иллюминатор. Луна в безоблачном небе отсутствовала, но звёзды сияли отовсюду. А глубоко внизу светились фонари городов и посёлков, не крупнее, чем далёкие звёздочки. И я подумал, как бы пилот не заблудился среди такого повсеместного обилия. Но потом в темноте под крылом самолёта, я увидел группу огоньков, наверное, из какого-то села, которые сложились в абсолютную копию одного из двух известных мне созвездий ночного неба. Они повторяли расположение звёзд в Малой Медведице и я успокоился, потому что невозможно заблудиться, когда есть путеводная – Полярная Звезда…
~ ~ ~
В шесть утра я сошёл с поезда Киев-Москва на станции Нежин и первым утренним автобусом приехал на Красных Партизан. Дверь открыл Иван Алексеевич, который насилу меня узнал из-за того, что я такой исхудавший. Я отнёс синюю пластмассовую кошёлку с абрикосами на кухню, откуда с тёмно-красными розами пошёл в спальню мимо диван-кровати в гостиной, на котором начинала уже ворочаться тёща.
Вы обе ещё спали, я вставил длинные стебли роз в узкое горлышко небольшой фиолетовой вазы на столе с трюмо и заглянул за тюль на окне. Платочка с якорем на подоконнике не оказалось. Ладно, потом найду… Я разделся, лёг на кровать и обнял Иру в её длинной белой ночнушке.
– Ой! Это ты?
– Да.
– Ой! Ты что такой тощий?!
– Тихо! Ребёнка разбудишь.
Потом мне Ира рассказала, что её сестра Вита ездила в Одессу к родственникам и хотела повидать меня на шахте. Она доехала до Новой Дофиновки, но жительница посёлка, Наталья Курило, отсоветовала ехать дальше – дорога слишком непроходимая.
– Да, эта Наталья сидит в конторе шахты, наверху, в котловане.
– Она жаловалась, что ты вообще никого там не слушаешься, только мастера.
– Ей-то откуда знать? Она ж наверху сидит.
– Значит знает, раз говорит… А как там вообще?
– Там всё так… класс… море такое… вообще!. корабли над полем…
– Ну, ты и тощий… Ты там был с кем-нибудь?
– Ты что, сдурела?!
– Тихо! Ребёнка разбудишь… ну… ты сейчас что-то делал… ты раньше так никогда не делал.
– А… эт у камнерезной машин перенял… диски у неё так ходят.
– А какая тебя там должность?
– Уй, длинная – помощник машиниста камнерезной машины. Только сам про себя, я себя короче называю – фалличный ассоциатор.
– Это что?
– Это из древне-Греческого. Долго рассказывать…
– А жилищные условия там как?
– Две комнаты. Большие. Толик со второй машины говорит, они хорошо расположены. Зимой ветер задувать не будет, он там с другой стороны. А под окном – лиман.
– Ну, ты худющий!
– Тише! Ребёнка разбудишь!
Но ты всю равно проснулась…
– Слушай, а платочек где? Я на окне оставлял.
– Какой платочек? Я не видела.
В общем-то, правильно. Чтобы увидеть, надо знать что ищешь. Я вон сразу даже море не узнал.
(…так парусник и не нашёл своё пристанище, а потом и вовсе пропал. Как знать, может до сих пор бороздит просторы вселенной где-то…)
Конечно да, не очень-то приятно было услышать, когда Ира сказала, что в роддоме ей сказали, что её девственная плева до конца не была пробитой и тебе пришлось доканчивать начатое, но с обратной стороны… Хоть и пристыжённый, я не ощутил особой, да и вообще какой-то разницы, что моя жена утратила девственность в обратном направлении. Отчасти оставалось какое-то чувство вины за ту чересчур осторожную ночь в Большевике, но с тех пор я наяривал как мог, беззаветно. К тому же, истории известен по крайней мере один случай, когда рожала дева…
(…что касается случая в нашем, не Святом Семействе, то это результат программирования текстом посредством романа Эрве Базена, который я читал в своём отрочестве. Хотя там до родов у него дело не дошло, но всё равно, я бы не стал давать мне читать всё что ни попадя…)
Я поехал в Конотоп забрать тёплую одежду, полушубок, резиновые сапоги. Отец отдал мне свой чёрный матросский бушлат с медными пуговицами в два ряда. Я даже взял с собой гитару, потому что ехал обосновываться всерьёз и надолго.
В Конотопе все тоже ахали, что от меня только половина осталась, но чувствовал я себя как никогда великолепно… Моя мать обернула вещи белой холстиной и зашила, получился большой толстый тюк.
Однако, оставалось ещё кое-что сделать. Сделать и – рвать когти. Сделать и – залечь на дно в шахте «Дофиновка».
(…на протяжении всех этих пяти с чем-то лет я знал, что за всё нужно платить. Ничто не даётся за так. Речь идёт не про деньги за дурь, это само собой. Я имею в виду плату за «пушнину» по большому счёту, за все приходы и улёты. И чем ближе к финальной черте в корыте общего писсуара на Киевском вокзале междугородного сообщения, тем глубже я осознавал, что мне известно даже кто именно платит слишком высокую—дороже всяких денег—цену за мой кайф.
У меня не было ни желания, ни случая поделиться этим знанием хоть с кем-нибудь – настолько это полный бред и ахинея. Вот почему я глушил его и таил даже от самого себя, но оно неумолимым фактом всплывало снова и опять—причём не только по укýрке—что я в неоплатном долгу перед многострадальным народом Камбоджи, парящимся в субэкваториальном климате юго-восточной Азии. И нет мне прощения…
Ничто не берётся ниоткуда, это – непреложная истина. Тактильные ощущения моего первого улёта в кочегарке стройбата установили неразрывную связь между кайфом и получением по мозгам. Впоследствии эти ощущения сгладились, но кайф продолжал поступать.
Вопрос: если не я, то кто же получает по мозгам?
К концу 5-(с-чем-то) – летнего срока употребления пришёл ответ… Отряды красных кхмеров, захватывая очередную деревню, убивали жителей-крестьян, таких же камбоджийцев как и сами. Для экономии патронов они убивали их ударами бамбуковых палок по черепу. Затем переворачивали трупы на спину и фотографировали мёртвые лица, как для паспорта.
На этих снимках правый глаз зажмурен, а левый выпучен. Многорядные ленты таких снимков—мертвецы с кошачьим выражением лица—регулярно помещались на страницах центральных газет. Я их видел. Они походили на иную, чуждую расу людей с кожей ободранной с их лиц. Мне было за что чувствовать себя виноватым.
Конечно, с учётом событий сопровождавших мой первый вылет в Одессу, красные кхмеры уже не вышибали крестьянские мозги для меня, но продолжали вышибать их, чтоб кайфовал кто-то ещё, помимо.
В Одессе я угодил в самую гущу вселенской битвы неизвестно кого неизвестно с кем остальным. В ходе непостижимых перипетий я стал кому-то союзником, а кому-то остальному – врагом, оставаясь в полном неведении: кому?
Кристально ясно лишь одно – те, с кем я, волею судеб, оказался по разные стороны баррикад, не преминут выследить меня и свести счёты. Не случайно, сходя—ни свет, ни заря—в Нежине с поезда Киев-Москва, я видел как в одном из вагонов приоткрылось окно и стеклоглазый—по наружности явный член монады главного инженера—выплюнул длинную струю слюны на перрон. Это – несомненный знак для других боевиков их тёмного легиона, метка, где именно брать дальнейший след, а проследить мои последующие передвижения вплоть до Конотопа им особого труда не составит. Ну а там они неизбежно выйдут на плантацию конопли в конце огорода хаты моих родителей на Посёлке. С неисчислимыми и невообразимыми последствиями непоправимо ужасного свойства.
Мой долг перед неизвестными мне союзниками и недобитыми крестьянами жалких деревушек в мокрых джунглях юго-восточной Азии подсказывал единственно верное решение…)
В сарае на Декабристов 13 я взял штыковую лопату и направился к плантации на крайней