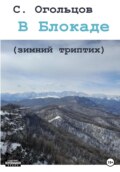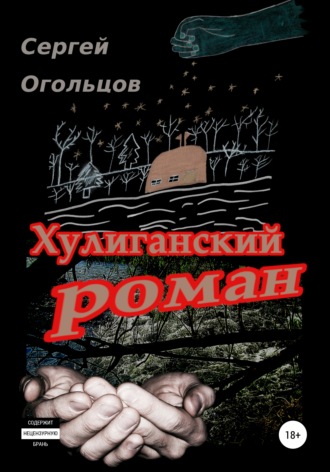
Сергей Николаевич Огольцов
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Однако ж для чего конкретно применить уютно уединённый уголок, созданный со столь завидной изобретательностью?
И тут я дал волю своему ещё одному (издавна зудящему) зуду – графомании. Не знаю как научным жаргоном классифицируется конкретно мой случай—латентная, или выраженная графомания? – однако я всегда испытывал страстное томление в присутствии нетронутых тетрадок, альбомов, блокнотов и прочих изделий писчебумажности. Так вот и тянет разложить пошире и покрывать их невинную чистоту судорожным подрыгиванием моего корявого почерка.
Так что, дело стояло за малым – найти контент для таких вот—ошалело скребущих—строк, а это чепуха для выраженного (или латентного?) графомана. Берёшь книжку про приключения цирковых артистов посреди бурных лет Гражданской войны, берёшь ручку, берёшь толстую тетрадь, что не успела кончиться на протяжении учебного года, и отправляешься в Спартанский как бы кабинет, куда вход сзади.
(…стоит отметить странный, но интересный с научной точки зрения, факт – как только в школе давали письменное задание на дом, моя графомания переживала резкий спад и напрочь испарялась…)
А там, над книгой и тетрадью разложенными на столе неполированной фанеры, я приступил к переписыванию содержания одной в другую. Меня не занимал вопрос целесообразности такой писанины. Какая разница? Тащишься от самого процесса, вот попробуй – приколешься…
Спустя неделю или около того, процесс достиг середины второй главы, когда нагрянувшее ненастье сделало мой кабинет слишком сырым и промозглым для самозабвенного наслаждения и печатная версия приключенческой повести осталась недопереписанной от руки….
А для хорошей погоды у меня имелся читальный зал на одну персону, но зал нерукотворный…
Земельные наделы, беря начало от стен общего сарая и погребников, подразделялись узкими межами, они же (по совместительству) дорожки меж кустов смородины всех трёх её цветов, оставляя основную площадь под грядки для садово-огородных культур. Однако грядки эти не сливались в массивы принадлежащие тому или иному землевладельцу из-за изменчивости исторических процессов и в результате использования земли в качестве платы за товары и услуги в отношениях между владельцами сопредельных наделов. Как следствие, землевладение превратилось в чересполосицу довольно сложной географической конфигурации.
Например, наша помидорная грядка, начинаясь под стеной общего сарая, два метра спустя граничила с грядкой Дузенко, а та, в свою очередь, сменялась снова нашей грядкой с огурцами и подсолнухами вокруг будки нашей уборной по соседству со сливной ямой, а картошку мы сажали после Пилютиной полосы, в заключительном из всех наделов хаты, под старой развесистой Яблоней.
По ту сторону нашей картофельной грядки начинался, а вернее заканчивался земельный надел хаты на улице Коцюбинского, которая шла параллельно Нежинской и, таким образом, земельные наделы позади хат трёх улиц и одного переулка составляли обширную площадь покрытую грядками и фруктовыми деревьями разных пород.
Яблоня, на чьих полого расходящихся ветвях я с книгой коротал дни напоённые солнцем в зените синего купола неба с недвижными глыбами белейших облаков по краю горизонта, называлась Антоновкой. Длина некоторых её ветвей позволяла вытянуться, лёжа, во весь рост и слегка покачиваться всем телом, пока из жарких далей не прибежит чуть слышный ветерок.
А если твёрдость гамака начинала донимать мои бока излишней монотонностью, я спускался на грешную землю со скромным вкрадчивым визитом на клубничную грядку, где-то между №№ 15 и 13. В попутных огородах встречались иногда обрывки ветхих заборов, служившие межевыми вехами владений, но не помехой тихому налёту…
И снова уносили меня прочь из окружающих просторов Межзвёздные Дневники Йона Тихого и Возвращение Со Звёзд Станислава Лема, Ходжа Насреддин Владимира Соловьёва, Одиссея Капитана Блада Рафаело Саббатини и масса прочего бессистемного чтива для подрастающих поколений.
Но затем, ни с того, ни с сего, я вдруг решил пойти навстречу требованиям школьной программы и принялся заучивать наизусть роман в стихах Пушкина, Евгений Онегин, хотя из него на Русской литературе не задают напамять больше начальных десять строк. Вопреки скромным предписаниям программы, вызубрив первую строфу, я перешёл к дальнейшим и день за днём бормотал Яблоне Антоновке про неусыпность часов фирмы Брегет, и про убыточность обмена товарами с щепетильным Лондоном, и про плачевный дефицит стройных женских ног в России целой…
Когда количество заученных строф перевалило за два десятка, я начал сбиваться в несчётных тропах строк при пересказе всех подряд, пока меня не выручила мать. Вернувшись с воскресного посещения Базара, она сказала, что встретила там Людмилу Константиновну, учительницу Русского языка и литературы из нашей школы, и та спросила, не захочу ли я поехать в Ленинград с экскурсией школьников за умеренную цену.
Ещё как захочу! Но откуда у меня деньги? Мать заплатила и ещё дала с собой в дорогу неслыханную сумму из 10 руб. Я принял твёрдое решение, потратить их ни на что другое, а только на покупку миниатюрного бильярда типа того как в Детском секторе, на котором мы играли разнокалиберными шариками из разломанных подшипников.
(…а теперь, не как последовательный повествователь, но в качестве профана от археологии, укутанного в мой спальный мешок тут, в утлой палатке посреди жутковатой симфонии разгульной жизни ночного леса – смогу ли я докопаться до причины самоистязательного запоминания шедевра Пушкина?
Похоже, что только теперь и именно отсюда таки смогу.
Начать с того, что парадигма «я решил и начал…» ко мне никак не применима. Нет, с ней всё в порядке, она модель полезная, но только в моём случае всё строится наоборот. Я сначала действую, а уж потом начинаю подводить како-нить логическое обоснование всем тем дровам, что наломал. То есть, вместо того, чтоб мотивироваться чётким решением, я поддаюсь влиянию порыва.
Но кто или что, в таком случае, подсовывает мне этот порыв? Какие такие тайные пружины-побудители? Ответ прост – это результат моей доверчивости и чрезмерной податливости воздействию печатного слова. Да, именно то, чего я начитаюсь, программирует мои последующие деяния.
Эпизод, когда Советский разведчик Александр Белов заставляет Дитриха, офицера Фашистской разведки, пролистать папку секретных документов перед его, Александра, сосредоточенным взглядом, а затем на явочной квартире диктует своему помощнику сотни адресов, имён и цифр по памяти, становится потаённой причиной моей попытки запомнить рифмованные строки Александра Пушкина.
Нет, я не купился на «слабó» и не устраивал проверку своих способностей, побудительный стимул заложен в голом факте моего доверчивого чтения Роман-Газеты с произведением Кожевникова, которое, по совести, и романом-то не назвать.
Или возьмём другой случай, когда—под впечатлением от книги Барон на Дереве, про аристократа, который отказался ходить по земле вообще и ушёл жить на деревьях—я взобрался на кучу кирпичей под неохватным Американским Клёном и уже с такого возвышения перебрался на менее недоступную часть ствола.
Затем я стал подниматься всё выше и выше, к самым облакам, которые плыли довольно низко в тот день, почти что цеплялись за крону. При взгляде с тонких верхних ветвей, хаты на далёкой земле под деревом казались не крупнее спичечных коробков. Сдерживая страх и головокружение, обозревал я с высоты птичьего полёта Базар и Завод, который не могла уже загородить бетонная стена вдоль улицы Профессийная, а также Вокзал по ту сторону Завода.
Волшебная сила печатного слова Итало Кальвино сделала меня податливым как воск, начала вить из меня верёвки и вознесла на макушку Американского Клёна…
Конечно, тайные пружины порою холостят, ну как, чёрт побери, могу угнаться я за Д’Артаньяном и проскакать двадцать лье за один день, уморив трёх лошадей, когда у меня и одной-то нет? Как говорится – по одёжке протягивай ножки.
Вот за что я люблю этот спальный мешок. Он такой безразмерный…)
~ ~ ~
В Ленинград мы поехали через Москву. Помимо меня и Людмилы Константиновны школу № 13 в экскурсии представляли две девочки из моего класса—Лариса и Таня—а из параллельного, 7 А, Вера Литвинова и Толик Судак. Экскурсантов из остальных школ города оказалось больше, потому что за ними присматривали два педагога.
Поезд прибыл в Мокву утром и мы провели там целый день, которого мне хватило на три крупных открытия.
Сначала мне открылось, что случаются вещие сны. Существование таких снов было неоспоримо доказано, когда нас возили по городу на автобусе—посмотрите налево! посмотрите направо! – а в одном месте вообще попросили выйти, чтобы посмотреть на что-то сблизи.
Наша группа потянулась за экскурсоводом, а я замешкался, приотстал и тут, нежданно, всё вокруг показалось мне таким знакомым – и тот мост без речки под ним, и далёкая башня Московского Университета, и даже запертый киоск на тротуаре, мимо которого я проходил.
Кто-то из нашей группы обернулся и позвал: —«Не отставай, а то без тебя уедем!», а я ответил: —«Повернёте обратно, и я буду первым!» И тут мне сразу вспомнилось, что всё вокруг я уже видел, в мельчайших подробностях, и даже слова эти уже произнёс во сне, что приснился мне в то лето, а наутро был забыт. От неожиданности я остановился, но долго изумляться не пришлось – наша группа и впрямь топала вспять к автобусу.
(…в последующей жизни, мне не раз случалось оказаться в когда-то уже виденных снах. Иногда припоминание сна на долю секунды опережает реальное развитие событий и я знаю кто и что сейчас скажет, какой жест сделает через секунду, потому что происходящее – это как бы эхо, отражение моего давнего сна. Протяжённость таких моментов невелика, а между сном и его эхом иногда могут пройти годы.
Своим открытием я так ни с кем и не поделился, а через много лет—с облегчением, но и разочарованием—узнал, что такое случается не только со мной и что у шотландцев есть даже особый термин этому явлению: «повторный просмотр», second sight…)
За вторым открытием пришлось ехать на Выставку Достижений Народного Хозяйства, она же ВДНХ. Там нас повели в Павильон Астронавтики с гигантской белой стрелой корабля Восток перед входом, из одной серии с тем, на котором Гагарин облетел Землю. По просторам павильона бродили сразу несколько экскурсий между стендов и манекенов облачённых в красные космические скафандры с головастыми шлемами.
Не знаю о чём рассказывали другие гиды своим группам, но наш жевал давно известную всем жвачку, так что я то отставал, то забегал вперёд от группы, пока не свернул в широкую боковую дверь. Стрелка над каменными ступенями манила вверх надписью «Павильон Оптики».
Я поднялся на площадку, где лестничные марши делали окончательный поворот к Павильону и зачаровано застыл на месте пред яркой феерией цвета и воздушности. Кубометр пространства заполненный семейством мыльных пузырей—от совсем крохотуль до громадин—застыли в своей невесомости, переливались цветами всевозможно радостных оттенков радуги. Ух, ты!.
Моё отклонение от запрограммированного курса было замечено кем-то в группе и меня громко одёрнули снизу: —«Огольцов! Уходим!» Бросив прощальный взгляд на недостижимый уже вход в Павильон на верхней площадке, присоединяюсь к экскурсии.
(…что осталось за недостигнутой дверью не знаю, открытие же заключается вот в чём: порой один лишь шаг в сторону от торной колеи ведёт к новым блистающим мирам, но, как гласит народная мудрость в стране первой вставшей на путь строительства социализма: —«шаг вправо, шаг влево расценивается как попытка к бегству, предупреждать не станут, откроют огонь на поражение»…)
Заключительное, третье, открытие того дня подстерегало меня в Государственном Универсальном Магазине, он же ГУМ, на Красной Площади, куда мы прибыли уже без экскурсовода. Там я узнал, что мечты сбываются, но только нужно быть готовым к их исполнению…
У входа в ГУМ нам сказали собраться на этом самом месте через полчаса и экскурсия была распущена в свободный поиск.
Изнутри ГУМ похож на просторный трюм океанского сухогруза – колодцы пустоты, а вокруг них многоэтажные переходы и торговые секции вдоль бортов.
В одном из отсеков на третьем этаже продавали бильярд моей мечты и именно за десять рублей. Как я проклинал своё обжорство! Из выданной матерью суммы я уже заплатил за два мороженых – одно утром на вокзале и ещё одно на ВДНХ. Пришлось сказать мечте «прощай» и, чтобы хоть как-то подсластить горечь разочарования, я съел ещё одно, прямо в ГУМе.
Вечером, усталые, но, в общем, довольные (если не вспоминать осечку с бильярдом) мы выехали из Москвы в Ленинград…
В Городе на Неве нас определили на постой в какую-то школе на Васильевском острове, недалеко от Зоосада. А в самой школе нам выделили спортзал, половину которого успела уже занять экскурсия из Полтавы. Мы их совсем не стеснили—это был просторный спортзал—и только перенесли несколько из чёрных спортивных матов из их угла в противоположный. Вдобавок, нам выдали казарменные одеяла, чтоб завернуться в них и спать с бóльшим удобством, чем королевский двор Франции при бегстве из восставшего Парижа в книге Александра Дюма Двадцать Лет Спустя, где бедным аристократам приходилось спать на голой соломе.
Для трёхразового питания, мы трижды в день шагали пару кварталов до столовой по ту сторону горбатого моста над рекой Мойкой. Очень тихое место, ни малейшего уличного движения вдоль набережной. Наши старшие платили вперёд бумажными талонами и девочки экскурсии накрывали квадратные столы для нас, ожидавших снаружи. Ждать иногда приходилось долго, потому что кроме нашей и Полтавской там столовались и другие группы, но не из нашего спортзала. В таком случае, мы отходили постоять на арочном мосту над узкой речкой с неприметным течением тёмной воды меж высоких берегов в гранитной облицовке.
“На берегу Мойки
Ели мы помойки”
Такую эпиграмму сложил кто-то из нашей группы.
(…рифма, что и говорить, безупречна, но лично я без претензий к тамошней пище – всё как всегда в любой столовой, что подворачивалась на моём жизненном пути…)
Для белых ночей мы малость припоздали, но всё остальное было на месте – и Невский Проспект, и Дворцовый мост, и пробежка рысью по залам Эрмитажа с многометровым разрушением Помпеи Карла Брюллова и с мирными, но маломерными картинами Голландских мастеров.
В Исакиевском Соборе для нас даже запустили Маятник Фуко свисавший с высот главного купола. Тот поболтался, рассекая воздух в гулком просторе храма, пред насупленными ликами настенных икон, а потом вышиб из ряда высоких деревянных кеглей одну, которую сперва как бы и не замечал.
– Вот видите? – радостно вскричал экскурсовод при Соборе. – Земля, всё-таки вертится! Маятник Фуко только что доказал это с научной достоверностью.
Революционный крейсер Аврора, почему-то не позволил нам подняться к нему на палубу, зато мы послушали выстрел пушки Адмиралтейства, которым каждый день там отмечают полдень. Посетили Пискарёвское кладбище с ровными зелёными газонами поверх братских могил людей умерших от голода во время Фашистской Блокады, с тёмной стеной, и неглубоким бассейном для мелочи, что набросали посетители на его дно.
День посещения Петергофа выдался пасмурным и, пересекая Финский залив, мы не видели моря, а только близкую пелену тумана над кругом желтоватой воды с мелкими волнами, по которым катер шёл как по озеру с песчаным дном. Было скучно и сыро, а когда я вышел из зала для пассажиров и спустился по короткой лесенке на корму, совсем близко к бурлящей мутно-жёлтой массе взбитой винтом воды, явился корабельный юнга сказать, что пассажирам тут нельзя находиться. Я взобрался по лесенке обратно, а он повесил поперёк неё железную цепь и начал мыть палубу кормы верёвчатой шваброй.
Зато вода петергофских фонтанов рвалась вверх высокими колоннами белопенных струй, наполняя канал под дворцом на взгорке, хотя он был закрыт на реставрацию…
Всё в Ленинграде оказалось прекрасным, как и положено Колыбели Революции. Погода снова наладилась и на первом этаже Морского Музея стоял Ботик Петра Великого, размером почти с бригантину, а на втором висели картины полные воды и дыма славных побед Русского Флота, начиная с битвы в Синопской бухте.
На первом этаже Зоологического Музея громадился скелет из костей кита, а на втором раскинулась панорамная композиция про жизнь в Антарктиде, за стеклянной перегородкой. На заднике вырисовывались снега в белом поле, а ближе к стеклу стояли несколько взрослых пингвинов задрав клювы в воздух. Их окружал детский сад пингвинят различных размеров, чтобы показать как они меняются по мере роста.
Сначала они мне очень понравились – такие пушистые милашки, но всё испортила мысль, что они ведь чучела. Три дюжины живых птиц убиты в образовательных целях. Мне перехотелось смотреть дальше и я спустился к скелету кита, тоже обглоданного ни за что. Пришлось покинуть музей.
В остеклённом киоске рядом с Зоологическим Музеем я купил шариковую ручку—в Конотопе они ещё не продавались—и пару запасных ампул, поговаривали, будто с одной можешь писать целый месяц…
В тот день я первым поел в столовой и вышел на соседний мост над Мойкой дожидаться остальных. Меж высоких стен реки осторожно пробирался белый катерок раздвигая чёрную воду на две длинные бугристые волны. Пожилой человек поднялся в центр моста, где я стоял, и предупредил, что мои штаны сзади выпачканы. Меня он не удивил, потому что за пару дней до этого я где-то сел на скамейку, которая оставила на заднице штанов беловатое пятно, как от Сосновой смолы. Неприятно носить такую метку сзади, но сколько я не скрёб пятно, оно не сходило, так что я старался просто про него не думать.
Он спросил откуда я.
– Мы на экскурсию приехали. С Украины.
Лицо его поугрюмело и осунулось: —«Украина», – сказал он. – «Мне там в войну паяльной лампой бок сожгли».
Мне вспомнился истошный визг Машки, когда пришли её резать, гуденье синего пламени из сопла паяльной лампы, трещины в почернелой шкуре неподвижной туши.
Он умолк, и я тоже, чувствуя себя виноватым, что приехал оттуда, где его пытали. Хорошо хоть наша группа вывалила, наконец-то, из столовой.
Полтавская группа уехала на два дня раньше нас. В наш последний Ленинградский вечер мы посещали цирк-шапито. Места оказались на самом верху, под колыханьем брезентовой крыши… Это было совместное представление цирковых артистов из братских стран социализма. На арену вытащили как бы детсадовские качели. Пара Монгольских акробатов дружно прыгали на конец доски, чтобы подкинуть третьего другим концом. Запущенный артист делал сальто в полёте и приземлялся на плечи силача-акробата, что дожидался на арене. Потом толкачи запускали ещё одного, а вслед ему третьего – три человека навалены на нижнего, точь-в-точь как после битвы при Калке.
Гимнасты из ГДР выступали на четырёх турниках расставленных квадратом, крутили «солнце» и перелетали на турник напротив. Потом Чешские дрессировщики вывели группу шимпанзе, которые начали вертеться на турниках оставшихся после Немцев, только куда смешнее.
На следующий день мы уехали не заходя в столовую, наверное проели уже все свои талоны. Был очень удобный поезд без пересадок, через Оршу и Конотоп. Только он отправлялся вечером, а у меня после всего съеденного за экскурсию мороженого, покупки шариковой ручки и платы за цирковой билет, от десяти рублей, что выдала мать, осталось 20 коп.
В обед я съел пару пончиков с повидлом, но к пяти часам, когда мы сидели уже на вокзале в зале ожидания, Людмила Константиновна заметила моё уныние и спросила в чём дело. Я признался, что голоден, а деньги кончились, и она одолжила мне один рубль.
В гастрономе недалеко от вокзала я купил хлеба и рыбину в коричневато жирной чешуе, а вся обвязана тонкими бечёвками. Схватив завёрнутую в бумагу провизию, я поспешил на вокзал, где наш поезд уже подавали на посадку. Зайдя в вагон, я тут же сел за столик под окном и начал есть. Очень вкусная оказалась рыба, легко крошится, но не такая жирная как ожидаешь глядя на промасленную чешую, суховата. Половину я съел, а что осталось завернул в бумагу и положил на третью полку. Она всё равно не предусмотрена для пассажиров, а только для багажа.
Какой-то одиночный попутчик, с виду на пару лет старше меня, достал колоду карт и предложил сыграть с ним в подкидного дурака. Я пару раз выиграл, а когда он в очередной раз тасовал карты, я блеснул одной из расхожих Кандыбинских прибауток в эту тему. «Не умеешь работать головой, работай руками». Он оглянулся на пару девочек из нашей экскурсионной группы, что сидели в купе через проход и раздражённо отвечал: —«Меньше транди, целее будешь». Я заметил явную злость в его взгляде, а когда снова выиграл, то отказался продолжать игру, да он и не настаивал…
Мы прибыли в Конотоп утром следующего дня после небывало проливного дождя. Всю ночь он лил и лил за окнами вагона. Возможно, это сказалось на моих туфлях, но размер их явно уменьшился. Я их насилу натянул и то не до конца, часть пяток осталась свисать снаружи.
Болезненно ковыляя, спустился я крутыми ступенями вагона на перрон и там дождался пока экскурсанты скроются в подземном переходе к Вокзалу. Потом я снял туфли и в одних носках пошлёпал по мокрой Четвёртой Платформе до самого её конца, к знакомому пролому в привокзальной ограде. Пролом выходил к Железнодорожному Техникуму, который я обогнул и очень скоро зашёл на Базар.
По пути никто не пялился на мои мокрые как хлющ носки, потому что не было ни пешеходов, ни транспорта, а только лужи расстилались повсеместно. За Базаром, земля совершенно исчезла под водной гладью объединившихся луж. Я плюхал вперёд по головке рельс трамвайного пути, что чуть выступала над поверхностью для канатоходца-одиночки, а когда дошёл до Нежинской – попёр вброд, что уж там оставалось…
Позднее мать посмеивалась, делясь с соседками, что из двух столиц я заявился с туфлями в руках, и те на один сантиметр короче… Никогда я не слышал и не читал нигде, что можно нарастить своей ступне один сантиметр всего за одну ночь…
Первого сентября мать дала мне один рубль, вернуть долг. Однако на торжественной линейке в школьном дворе Людмилу Константиновну не было видно, а в Учительской мне сказали, что она болеет и объяснили как найти её квартиру в двухэтажке рядом с Базаром, куда я и отправился.
У себя в квартире, она всё повторяла, ах, да зачем такая спешка. Мне как-то даже показалось, что ей не хочется, чтоб я вернул этот долг вообще. А потом в комнату вошёл её отец и я очень удивился, увидев, что это Константин Борисович, киномеханик Клуба. Вот до чего мир тесен.
(…а если бы меня сейчас спросили: что стало самым ярким из всех впечатлений полученных в Культурной Столице России, то—не колеблясь и секунды—вот оно: вечерний светлый сумрак вдоль каменного парапета с проёмом спуска по каменным ступеням к неохватной шири течения Невы возле Дворцового моста, о нижнюю ступень вдруг хлюпает случайная волна, взлетают высокие брызги и визги девочек нашей экскурсии, что стоят у воды…)
~ ~ ~
Нет, но до чего же прав был Ленин в одном из своих томов: нет силы мощнее силы привычки… Взять, к примеру, альбомы светских барышень XIX века, куда Евгений Онегин небрежным росчерком пера врисовывал бакенбардистый профиль своего автора на странице следующей за автографом какого-нибудь поручика Ржевского. Менялись моды, поколения, но всякая мало-мальски приличная девица держала—в качестве сосуда для слива излияний несмелой девичьей души и сокровенных её мечт, и для экспромтных творческих секреций своих гостей и визитёров—такой альбом. Нет, не довелось мне прикоснуться к увядшим, но исполненным невинного очарования страницам, и тем не менее, у большинства девиц из одного со мною класса альбомчики имелись. Неистребимые как тараканы. А всё почему? Читай по губам: при! – выч! – ка!
Конечно, после массы войн, трёх революций и радикальных перемен в укладе общественной жизни, борьба за существование обучила этих сентиментальных наперсников HDD (=непостижимая девичья душа) хитро́ маскироваться – никаких шёлковых бантиков на обложке, никаких кремовых страниц. Толстая тетрадь из 48 страниц линованной бумаги общего назначения в дерматиновой обложке за 38 коп. – таким был среднестатистический внешний облик альбома HDD в нашем классе. На смену длинноносым автопортретам светских щёголей пришли вырезки из цветных иллюстраций журнала Огонёк, посаженные, для надёжности, на щедрую смазку из канцелярского клея… А вот стихи сумели сохраниться:
Зачем, зачем? Я не знаю
Нужны так рельсы трамваю…
Зачем, зачем? Я не знаю – зачем?
Зачем, зачем? Я не знаю
Зачем кричат попугаи…
Зачем, зачем? Я не знаю – зачем?
И, конечно же, всякие, изукрашенные завитушками глубокие мысли и крылатые выражения доказали свою бессмертность:
“Кто любит – всё простит”
“Измена убивает любовь”
Когда такой HDD альбом, случайно забытый на парте, попадал в руки кого-то из ребят, тот, пролистав пару страниц, шлёпал его назад – ОДХ (=обычная девчачья херня). Но для меня, не знаю уж зачем, эти альбомы были интересны и я погружался в глубокое их созерцание.
В результате, среди школьных товарищей мне досталась обидная кличка «бабочка». Никто ни разу не назвал меня этим словом в глаза, хотя при построении ребят на уроке Физкультуры я стоял лишь четвёртым, но, впрочем, замыкающий, Витя Маленко, мог побороть меня на матах под презрительные хаханьки девчонок. Нет, услышать эту кличку мне не довелось, но если твои брат и сестра ходят в одну с тобой школу, нет в ней секретов для тебя про тебя же, о которых бы ты не знал…
Директор школы № 13, Пётр Иванович Быковский, в отличие от своего однофамильца, космонавта Быковского, сложение имел былинно богатырское. Когда вся школа выстраивалась в длинном—от Учительской и аж до спортзала—коридоре, то доски пола под красной краской жалобно вспискивали под под его мерными шагами вдоль построения учеников. Мощный купол черепной коробки с парой длинных, но редких прядей поперёк необъятной лысины, возвышался на полголовы над самым рослым, выпускным, классом. А полусонный взгляд тяжеловеких глаз, скользнув по твоему, окаменелому в общем строю лицу, заставлял стиснуться всё нутро, хотя оно и знало наверняка, что полученное школой письмо из Детской Комнаты милиции – не про тебя, и не тебе сейчас скажет Директор выйти вперёд и обернуться ко всем, чтобы возложить отечески увещевательную руку на загривок, хотя выражение обёрнутого лица не оставляет сомнений, что туда опустилась шпала и похлопывает.
И не удивительно, что когда наша Классная, Альбина Григорьевна, сказала мне остаться после уроков и зайти в кабинет Директора, сердце моё ёкнуло… В таком невыносимо стиснутом состоянии—с ёкнутым сердцем и поджавшейся селезёнкой—кротко постучал я в белую краску высокой двери его кабинета сопровождаемый непонимающими, но явно прощальными взглядами Кубы и Чепы… Подвела тебя твоя карма, братан, свидимся в будущей жизни, возможно…
В длинной узкой комнате с единственным окном в дальней стене, Пётр Иванович сидел за столом, что стоял в профиль к двери и малость не доставал до пояса Директора в сидячей позе. Лёгким движением подбородка он отослал меня на стул в рядочке выстроенных под стеной, лицом к его столу.
Я исполнил немой приказ, а он поднял тонкую тетрадку со своего стола и застыл в угрожающем сверлении страниц хмурым взором. Время от времени, тик раздражённости вздёргивал его толстые, чётко очерченные, губы.
– Это твоё сочинение по Русской литературе, – объявил он наконец, – и ты тут вот пишешь, будто летом небо не такое, как осенью. – Он проконсультировался с тетрадкой и вычитал, – …летом оно как бы пропылённое по краям… Хмм… Где это ты видел такое небо, вообще?
Я опознал неполную цитату из первого предложения в моём сочинении на вольную тему «Я сижу у окна и думаю…», что нам задали на дом неделю назад.
– На Нежинской, – сказал я.
Он начал мне втолковывать, что абсолютно не имеет значения на Нежинской это или на Профессийной, да хоть даже и на Деповской, но небо всегда остаётся одинаково голубого цвета, как в центре, так и по краям. А голубой, он всегда голубой и летом он голубой, и осенью тоже голубой, потому что голубой он и есть голубой.
На мою робкую попытку поиметь несколько иной взгляд на возможность градации голубизны, он заново выкатил свои увесистые аргументы, и я сдался.
– Да, одинаковый, – сказал я.
– Вот и хорошо, значит мы согласились, что это предложение у тебя неправильное.
И тем же неукоснительным образом, мы продолжили утверждать ошибочность моих воззрений. С неоспоримой неуклонностью, он вдрызг разносил каждое из предложений в моём сочинении, не упуская ни единого, одно за другим и, после непродолжительного, заранее обречённого сопротивления, я сдавал их, одно за другим…
Из левого нижнего угла в окне, тонкие прутья железной решётки в белом веерно расходились кверху, стены стискивали высокий потолок коридорообразного кабинета, тумбовый стол нависал над строем стоящих стульев и сидящего меня, выпуклолобая сфера Директорской головы парила над столом и пряди зачёса не могли скрыть, а лишь облепляли лысину, как пропылённая паутина поверх неподвижного глобуса под замком в комнате Завхоза школы.
И я отрёкся, строка за строкой, от самого начала сочинения и до последней точки, от всех и каждого из слов, что казались такими верными и правильными мне, когда писал. Да, Пётр Иванович, вы правы, а я совершенно наоборот…
Я неправильно отказался от шаблона, предложенного нашей учительницей для плавного начала сочинения: «Идя по улице, я услышал детей споривших о Татьяне Лариной из бессмертной поэмы Пушкина “Евгений Онегин”, а придя домой, я сел у окна и снова стал думать о Татьяне, анализировать её социальное происхождение и её любовь к Русской природе…» Да, и совершенно неправильным было утверждать, будто школьники будут спорить о мотоциклах, каратэ и рыбалке, но только не о характерных чертах Татьяны Лариной. Это совершенно необдуманно и ошибочно…
Когда я согласился с ним по всем пунктам, он отдал мне мою тетрадь и сказал, что я могу идти, но должен ещё раз подумать.
Я вышел в опустевшую школу. От входной двери доносилось звяканье жестяных вёдер о железо раковин и шум воды из испускавших её кранов—уборщицы уже начали мыть полы. Я оглаушенно прошёл мимо всех пяти кранов, не взглядывая на своё отражение поочерёдно проходящее через пять зеркал над пятью раковинами.
С высокого крыльца, спускался с незнакомым ощущения круженья головы из-за того, что я был как бы не совсем я и не знал теперь что, и как, и вообще куда. Должно быть Галилео испытывал нечто подобное, только что предав своё открытие.