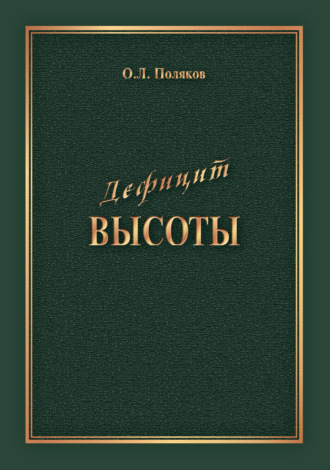
Олег Поляков
Дефицит Высоты. Человек между разрушением и созиданием
По видимому, чтобы избежать уравнивания в сознании людей «культур» хороших и плохих, А. Асмолов построил теорию, в которой «культура достоинства» противопоставляется «культуре полезности». Действующие в рамках последней ориентированы на адаптацию, безопасность и выгоду, что ведёт к уменьшению разнообразия и стагнации в системе. Этим деятелям поступки достойных, ориентирующихся на более высокие ценности, постоянно ищущих наилучшие варианты, представляются иррациональными. Понятно, что первые – это деятели ур. 1, вторые – ур. 4 ÷ 6, при этом полностью отсутствуют все «суб-» со знаком «минус». То есть по сути речь идёт о деятельности на различных уровнях, а при чём здесь культура?
Конечно, надо самым решительным образом остановить процесс превращения негатива в культуры. Подлинная культура – это культ совершенства, одной из форм которого является прекрасное. Культура – это деятельность, сутью которой является культивирование Высоты. Если социология правильно поняла, что причина многого происходящего в разности групп людей, но ошиблась в выборе этих групп, то культурология свела на нет вертикальную разность, тем самым упразднив Высоту. Этим она совершила преступление против человечества. Процесс образования всё новых «культур» стал одним из самых распространённых приёмов разрушения Высоты. Так культурологи мостят дорогу в бездну бескультурья. А одна из самых пагубных культур, получивших повсеместное распространение, именуется массовой культурой. Изобретательности культурологов достало и на то, чтобы тому, что совсем скверно, и никак не тянет на культуру, сделать приставку «суб-». Это «суб-» сыграло роль троянского коня, на котором всякую мерзость втащили в культуру. И теперь, пусть и суб-, но культура уголовного мира внедряет в наше сознание представление о знаке равенства между уголовным миром и нами: они такие же, как и мы, просто у них немного другая культура.
В Москве культурологи насчитали 178 субкультур. Самая безобидная из них, пожалуй, субкультура пикаперов (это те, кто укладывает девушек «на время»). У руферов и зацеперов своя специфика: их деятельность более опасна, там можно и шею сломать. Большинство же остальных субкультур представляют собой откровенную дрянь. И куда нам теперь деться от всяких готов, эмо, хиппи, панков, сатанистов, скинхедов, неоязычников? Культуролог объяснит вам, что всё это субкультуры, части более крупной и основательной «молодёжной культуры». Ну и что из того, что они борются с общественным контролем, цензурой, вообще с любыми проявлениями ограничения, регулирования, упорядочивания, стремясь к (новое понятие!) беспределу. Как сказал один умник: «Суверенны проявления личности, какими бы экстравагантными они ни были», (Ф. фон Хайек). Чувствуется, его дочка не появлялась дома наголо обритой, в шнурованных сапогах на трёхсантиметровой подошве и чёрном наряде, утыканном металлическими шипами. Да ещё и под кайфом.
Экспансия молодёжных «субкультур» буквально захлестнула современное общество. «Если ты хочешь изменить ценности в обществе, легче всего это сделать, сконцентрировавшись на молодёжи, чем навязывать всему обществу», (Вульф). Так разрушители и делают. Вместо того, чтобы молодёжь воспитывать, разумно ограничивая её, ей предоставляются безграничные возможности проявлять всё худшее, что существует в человеческой природе. Навязываемая массовой культурой, современным искусством, электронными СМИ психология потребления и вседозволенности привела к тому, что «молодёжная культура», её ориентиры и идеалы всё более обособляются от укоренённых цивилизационных норм, традиционных, классических образцов. Поп-культура родилась не сама по себе, она контролируется крупными корпорациями и сфабрикована их главными идейными центрами, фондами и организациями, связанными с Бильдербергским клубом, Советом по международным отношениям (СМО) и Тавистокским институтом. Трогательное в своей искренности, не лишённое наивности своеобразие молодых превращается в зловещее паясничание недоумков, которое, получив статус культуры, на все лады «исследуется» культурологами. Театр абсурда!
Проблемы, созданные культурологией, намного серьёзнее, чем может показаться поверхностному взгляду неспециалиста. У культурологов существует тайное убеждение в позитивности культуры, несмотря на её негативность. А, значит, всё будет хорошо. Ведь у нас есть культура, и бояться нам нечего. Но внесённая ими относительность представлений о ней очень удобна для разрушителей. Это позволяет им понизить её статус и устранить со своего пути, как помеху. Скверно то, что уравниловка, введённая идеей всеобщей культурности, упразднила оценку «культурно – не культурно». Но без неё невозможно нормально организовать процесс человеческой жизни. Поэтому её место безусловно займёт научно обоснованный фундаментальный критерий человеческой деятельности – К1. А принадлежность какого-либо явления к культуре будет определяться исходя из уровневых представлений.
Вот пример того, как последние позволяют объяснить хитросплетения человечьей жизни. Э. Тайлор не может объяснить, почему культура, которая в соответствии с издавна сложившимися представлениями, есть явление безусловно положительное, имеет столько «теневых сторон» [38]. Почему «малокультурные» папуасы Новой Каледонии смотрятся выигрышно в сравнении с такими представителями европейской культуры, как лондонские нищие и воры. Культурология «объясняет» подобные явления принадлежностью одних к субкультуре лондонских воров (об этих субкультурных тонкостях Тайлор ещё не подозревал!), а папуасов к субкультуре, которая, не будучи европейской, всё-таки лучше этой воровской, поэтому они и смотрятся лучше.
Понять этот метод объяснения всего можно на примере того же платоновского дворника: дворник хорошо метёт улицу, потому что у него высокая производственная культура, а по воскресеньям, напившись, бьёт жену, потому что у него низкая культура пития, да и бытовая тоже. С позиции уровневых представлений всё озадачившее Тайлора объясняется ясно и непротиворечиво. Теневые стороны, это работа разрушителей (–1 ÷ –6), они к культуре (5) не имеют никакого отношения. Лондонские воры, которых Тайлор включает в «великую европейскую культуру» никакого отношения к ней тоже не имеют. Их уровень деятельности (–2), а у нормального папуаса (1, 2), естественно, он смотрится лучше.
Вердикт, выносимый здравым смыслом всей этой псевдокультурной фантасмагории очевиден: культурологическая относительность, ведущая к вседозволенности, должна быть самым решительным образом изгнана из науки и общества. То уровневое неразличение, к которому так настойчиво склоняет нас культурология, грозит нам полным обескультуриванием. Так что же: «Культурология – убийца культуры»? Звучит обескураживающе, но это так
Теоретически подкованный журналист, освещающий проблему АУЕ, называет эту организацию, признанную законом экстремистской, субкультурой. Вопрос, почему причастность к культуре карается заключением сроком до пяти лет? Ответ очевиден: потому, что эта «культура» пропагандирует среди подростков криминальный образ жизни. Ну тогда возникает следующий вопрос: зачем культурология пропагандирует воровство и убийство как культуру? И не признать ли это псевдонаучное течение, именуемое культурологией, разрушительным (что очевидно так и есть), и не карать ли за участие в нём в уголовном порядке? Кому то эти меры покажутся чрезмерными, но это совсем не так. Как через АУЕ разрушение проникает в молодёжную среду, так через культурологию оно проникает в наши представления о мире, в котором мы живём. Оно разрушает основы нашего бытия, потому что в нашем мировоззрении понятие культуры наполнено исключительно позитивным смыслом. Для нас она, как для утопающего соломинка. И что же? эту нашу позитивную культуру культурология нагружает таким количеством «культур», от которых так и разит разложением, что это хоронит нашу последнюю надежду на спасение.
1. Для возвращения культуре её статуса и внесения порядка в состояние умов, запутавшихся в противоречивой терминологии, предлагается следующая её ревизия:
2. Сложившиеся формы деятельности вкупе с результатами, характерные для самых различных сообществ, организованных по географическому, этническому и прочим принципам – именовать впредь не культурой, а укладом. У первобытных племён и уголовников нет культуры, но есть уклад. Уклад представляет собой комплекс способов и форм деятельности. Уклад есть у всех живых систем.
3. «Культуры» родов деятельности: производственной, хозяйственной, научно- технической, политической, и всех других – называть формами деятельности или просто деятельностью.
4. Способность ловко и умело действовать руками, красиво двигаться, поступать с умом, объясняться с толком, вообще делать хорошо своё дело – ладностью.
5. От «культур» обозначающих элемент (уровень, этап, звено, результат) деятельности оставить наименование элемента. Не «материальная культура», а в зависимости от контекста: товар, продукт, арт-объект, в конце концов кувшин, горшок.
6. Термины типа «культура» производства, поведения, пития, бритья, означающие: «правильно делать так» – не применять и пользоваться литературным русским языком. Нет нужды всуе упоминать культуру там, где надо просто делать то, что предусмотрено условиями эксплуатации, технологическими картами, правилами техники безопасности, нормами поведения.
Термины – уродцы: «культуры» материальная, массовая, войны, ненависти, преступного мира, духовная – исключить и навсегда забыть.
В результате проведенного упорядочивания терминологии следует, что у каждой живой системы свой уклад. Укладов много, а тот уровень деятельности человека, который мы определяем как культура, – един для всего человечества. Он определяется функциональными возможностями человека как вида. Так же один на всё человечество Эверест. Одни поднялись на него, другие (их большинство) нет. Но разве кто-то упрекает их за это?
Для суммарного обозначения различий в приёмах деятельности различных индивидуумов автор предлагает структурно подобный «менталитету» термин виталитет (от латинского vitalis – жизненный). Если первый означает как думает, то второй как действует, живёт. Подобное тянется к подобному, и поэтому деятели, обладающие сходными виталитетами, естественным образом объединяются в группы. В этом случае мы имеем дело с виталитетом, принявшим коллективную форму, но отнюдь не с культурами или классами.
Эти предложения были опубликованы автором в его докладах на Третьем и Четвёртом Российских культурологических конгрессах [38], состоявшихся в 2010 и 2013 годах. Более того, на Втором конгрессе автору удалось их озвучить на заключительном пленарном заседании. А происходило оно в знаковом месте, в Главном здании Академии наук по Университетской набережной, 5. Непривычная для этой среды критика и столь радикальные предложения вызвали большое оживление в зале. Было очевидно, что среди присутствующих немало тех, кто сочувствует этим идеям и радуется подувшему свежему ветру. Но председательствующая, представитель догматического крыла, сочла ведущие к столь кардинальному пересмотру устоев культурологии идеи, да ещё отечественного производства, неуместными, и попросту не дала автору закончить выступление. А на следующем конгрессе, чтобы исключить бунт в зародыше, подача записок с просьбами дать слово была отменена. Таким образом приведенное выше, является вторым серьёзным предложением, обращённым к относительно широкой аудитории. Посмотрим, какая у него будет судьба.
6.10. Вернуть культуру
Из уровневой модели следует, что культура – это высокий уровень созидательной и преимущественно творческой деятельности. Но путь к этому пониманию оказался довольно тернистым и до конца так и не пройденным. Борьба на нём развернулась нешуточная, одним из забавных примеров её является почти анекдотический, но имевший место на самом деле, случай. На одной из конференций, проходившей в Эрмитажном театре тогда ещё Ленинграда, спорили два мэтра, стоявших у основания зарождавшейся в СССР культурологии: М. Каган и Э. Маркарян. Первый был известен своей эрудицией и фундаментальным подходом, но исключительно в рамках, указанных классиками Марксизма-Ленинизма. Второй – некоторыми вольностями, которые он мог себе позволить, работая в удалённой от центра республике, будучи родственником кого то из республиканской партноменклатуры, полагавшей, что древняя армянская культура просто обязывает иметь своего сказителя культурных мифов. Сказитель оказался косноязычным, и сегодня его труды более всего озадачивают своей невразумительностью [40]. Как бы то ни было, гуманитарно-научному благополучию спорящих в то непростое время мог позавидовать любой из представителей этого цеха.
Дискуссия в кулуарах была очень жаркой, если не сказать яростной, и собрала много заинтересованных лиц, наблюдавших за ней. Пикантность ситуации заключалась в том, что оба спорящих принадлежали к одному лагерю, понимавших культуру как деятельность. Их оппонентами была московская группа культурологов, которые понимали культуру как ценность. У первых позиция была более выигрышной, ведь деятельностью мог быть и труд, может быть даже героический труд строителей коммунизма. А у ценностей был какой-то сомнительный душок: кто знает, что это за ценности, может по какому-то недосмотру недоэкспроприированные у эксплуататоров?
Так что же не поделили эти по сути два соратника? Первый утверждал, что культура это способ и результаты деятельности, а второй категорически с этим не соглашался, утверждая, что культура – это только способ. Из двух спорящих несколько ближе к истине был первый, обладавший большим кругозором и понимавший, что без таких результатов деятельности как шедевры искусства культура будет какой-то куцей. Ну не можем мы исключить из культуры Реквием Моцарта или «Медного всадника» Пушкина лишь на том основании, что это результаты.
Но Кагана подводит столь милый сердцу русского человека размах. Под культурой он понимает ВСЮ деятельность человека. И, если встать на его точку зрения, в деятельности нацистов в Освенциме, сжигавших в печах евреев, налицо и способ, и результат. Следовательно, это культура. Но кто же из находящихся в здравом уме назовёт это культурой? Или Нюренбергский трибунал совершил ошибку, осудив нацизм, и не понимая, что он по сути осудил культуру, не приняв в качестве смягчающих обстоятельств то, что нацистские главари были носителями культуры. Пусть и весьма своеобразной, но в культурологии каких только культур нет.
Эту путаницу в понимании культуры в принципе невозможно распутать без уровневых представлений о деятельности. Потому что, культура – это высокая деятельность. В этом её суть! Из уровневой модели так же следует, что культура не просто способ, но деятельность со всеми её компонентами. То есть категориально это неуловимое «нечто» есть деятельность. При этом правы, но отчасти, представители обоих лагерей: и деятельностного, и аксиологического. Культура – это деятельность, но не вся, а представляющая особую ценность. Уровневая модель объясняет, в чём заключается эта особая ценность. Особая ценность культуры в том, что эта деятельность осуществляется на одном из самых высоких уровней, а именно пятом. Культура – это то, что думают и делают деятели пятого уровня. Это определение культуры разрешает одну из самых запутанных проблем, с которой долгое время думающая часть человечества не могла разобраться.
Итак, в рамках уровневой модели понимание культуры обретает, наконец определённость и однозначность, от отсутствия которых оно так страдало. Культура – это деятельность, осуществляемая на пятом уровне. Оба варианта определения непривычны по форме. Чтобы осознать, что такое пятый уровень, надо возвращаться к уровневой модели и заново осмысливать её. А что такое пятый уровень вполне объяснить можно лишь через сравнение с другими. Это системное свойство культуры: её место и роль в деятельности невозможно понять изолированно от других уровней деятельности, и поэтому нельзя объяснить в одном предложении. Конечно, номер уровня носит достаточно условный характер, он относится к данной модели, в другой уровневой модели он вполне может быть другим, но в любом случае это будет один из самых высоких уровней. И что принципиально важно, полноценное определение культуры вне уровневой модели дать в принципе невозможно. Только исходя из уровневой модели можно понять исключительную ценность культуры. В дополнение к приведенным возможны и даже полезны короткие, не столько определения, сколько означения культуры. Таковы: «Культура – деятельность, создающая высшие ценности», или ещё короче: «Культура – это Высота». Они являются своего рода метками в сознании, помечающими и закрепляющими понятое сложное.
«Ложное направление ума заключается в привычке рассуждать из плохо определённых принципов» – вывод этой формулы является заслугой Кондильяка. Определите верно культуру, и тогда культурология перестанет быть «ложным направлением ума». Изложенное научно обоснованное понимание по существу является результатом системного анализа феномена культуры. Это понимание культуры, введённое в уровневой модели совпадает с первоначально введённым литературой и публицистикой в 18 в., затем оно было искажено, неправомерно расширено, в результате чего почти утратило первоначальный смысл.
Человек «делается» снизу вверх не Богом, не культурой, а в ходе эволюционного процесса. Возникновение культуры – это свидетельство уже очень высокого уровня развития. Её далёкими предтечами являются обычаи и традиции дикарей, затем законы для удержания в рамках современных дикарей (3), и только выше закон утверждается в сердце человека (4), а ещё выше деятель начинает выходить за рамки норм, но выходит он вверх! Это область творчества, уровень подлинной культуры (5). Уровневая модель является реальным препятствием на пути смешения понятий. Соблюдающий правила поведения, принятые в хорошем обществе, это ещё не культурный, а просто приличный человек (ур. 3). Культурный человек – это деятель ур. 5.
Если проводить аналогию с географическим ландшафтом, то в «ландшафте» деятельности человека явления культуры – это вершины. Таковыми являются, например, исполнение Д. Липатти двенадцатой сонаты В. А. Моцарта, В. Фуртвенглером моцартовской тридцать девятой симфонии, всё без исключения искусство Ф. Шаляпина, представляющее одну мегавершину. Возможно, когда-нибудь появится пианист, который превзойдёт это исполнение Д. Липатти, почти невозможно представить себе дирижёра, который когда-нибудь смог бы превзойти эту знаменитую запись В. Фуртвенглера с Берлинским симфоническим оркестром, и совершенно очевидно, что никогда уже не появится певец и артист масштаба Ф. Шаляпина. Культурность – это единичность, вершинность. Но каким-то непостижимым образом при устранении этого малого бытие системы утрачивает и своё очарование, и свою силу.
Самым важным в этом, обрётшим наконец окончательную определённость понимании культуры, является её исключительно созидательная роль. Культура в принципе созидательна. Конечно, это представление, пусть и в недооформленном виде, давно возникло и легло в основание мировоззрения лучшей части человечества. Но никогда не заявлялось в столь однозначном, исключающем другие толкования, виде. Хотя оснований для этого было более, чем достаточно, всегда. Ведь человек занят выращиванием культурных растений. Нет смысла культивировать сорняки, они сами растут. Точно так же он культивирует созидание, а разрушение растёт само. И в этой парадигме культура может находиться только в области созидания, всё остальное очевидно разрушительное и не столь очевидное, маскирующееся, например, под искусство, – не культура. Уклад жизни, склад мыслей, привычки, миродеяние, бесцельная активность – все эти явления от вполне созидательного до разрушительного характера не являются культурой. К культуре также не относятся множество подобий культуры и искусства, для наименования которых нужны новые термины.
Упоминавшееся выше не самое плохое определение «хорошее образование плюс вкус равняются культуре» всё-таки неточно. Хорошее образование является прочной основой для деятельности на ур. 3, но в принципе возможны случаи, когда у деятеля высокой культуры нет хорошего образования, как, например, у Р. Бернса. Но вот что у него должно быть, это высокая степень порядочности, качество, свойственное деятелям ур. 4. Выше приводился пример того, как Лотман в поиске более сущностного, чем семиотическое, определения культуры приравнял её к деятельности четвёртого уровня. Но культура ещё выше, для неё требуется развитый тонкий вкус. Без вкуса не может быть подлинной культуры, а это очень редкое качество. Настолько редкое, что у директоров трёх ведущих российских музеев его нет!
Вот пример разницы в представлениях о культуре, к которой пришли в двух странах, наиболее основательно потрёпанных революциями. Но, видимо, эти революции в чём то существенно отличались друг от друга. Судите сами. Хранитель Лувра, Жожар, предвидя сдачу Парижа, возможные боевые действия в его центре, организовал масштабный вывоз произведений искусства. У него был уже был опыт проведенной им эвакуации Прадо в Швейцарию во время войны в Испании. Новая операция была закончена в день вступления Франции в войну. Все перевозки осуществлялись грузовиками, и в их процессе пришлось решить множество технических, и, как сейчас бы сказали, логистических проблем. Часть самых больших картин, которые из за хрупкости лака не могли быть намотаны на валы, перевозили в рамах. Особой проблемой была «Ника Самофракийская» со своими хрупкими мраморными крыльями. Первоначальным хранилищем был замок Шамбор в долине Луары, но по мере приближения военных действий произведения отвозили далее на Юг, затем в зону, контролируемую правительством Петэна. При этом отдельные части коллекции снова делились, неоднократно передислоцировались. Почти всегда это были замки, построенные целиком из каменных блоков, что уменьшало риск пожаров. За всё время ни в одном хранилище не пострадала ни одна вещь. И всем этим руководил из Парижа Жожар. Он был участником Сопротивления, в конце войны сведения о местах хранения были переданы союзникам во избежание бомбардировок. Немцам не удалось установить большинство мест хранения, не было ни одного случая выдачи сведений работниками музея. А среди того, что немцам удалось награбить в государственных музеях и частных собраниях в Париже, почти не было вещей, по своей ценности равнявшимся луврским. Лувр в это время работал, там были выставлены второстепенные вещи, проводились экскурсии для немецких солдат и офицеров.
Большие проблемы Жожару создавали чиновники коллаборационистского правительства в Виши, а тайного союзника он нашёл в лице генерального комиссара оккупационных войск, в чьём ведении находились вопросы учёта, изъятия, вывоза произведений искусства. Они до конца совместной работы находились в холодных официальных отношениях, но хорошо понимали друг друга без слов. Комиссар удовлетворялся отписками Жожара и как будто бы верил, что тот ничего не знает о местонахождении картин. Генерала В. фон-Меттерниха, посчитав его франкофилом, сняли и – нет, не судили за вредительство, не расстреляли, – а направили на прежнее место работы профессором искусствоведения в Боннский университет. Вняв просьбам Жожара в 1953 году де Голль во время своего визита в Германию лично вручил В. Меттерниху орден Почётного Легиона за заслуги в спасении национальных сокровищ Франции.
Директор Воронцовского дворца-музея в Алупке С. Г. Щеколдин тоже спас его от разграбления и вывоза в Германию. После начала немецкой оккупации он разыскал в порту так и не отправленные в эвакуацию ящики с экспонатами, вернул их в музей. Он сумел поладить и с оккупационными властями, и с комиссией по изъятию произведений искусства, организовав в музее культурную программу для лечившихся в Крыму немецких офицеров и солдат. Самые ценные вещи он спрятал в тайнике внутри дворца, который немцы так и не обнаружили, и проявлял чудеса изобретательности, чтобы спасти от разграбления то, что не удалось спрятать. После войны его за сотрудничество с оккупантами осудили на десять лет, прокурор ему сказал: «Чем возиться с вашим музеем, лучше бы одного немца задушили». После освобождения дворец превратили в госдачу НКВД, затем санаторий ВЦСПС. Результаты следующие: в 1944 году после освобождения от немецкой оккупации 44 000 экспонатов, после возвращения статуса музея через несколько десятков лет – 27 000.
Жожар впоследствии стал генеральным директором по делам искусств в министерстве культуры Франции, а Щеколдину после выхода на свободу запретили работать в музеях, жить в Крыму, и он, будучи пожилым человеком с подорванным здоровьем, на жизнь зарабатывал чернорабочим на металлургическом заводе. В 1985 году он был реабилитирован.
Интересны дневники Жожара, где он описал свою эпопею и наблюдения, касающиеся людей, действовавших в экстремальных условиях. «Люди делятся на две категории: тех, кто думает о себе, и тех, кто думает о других, больше, чем о себе. Нормальная жизнь поверхностна. Величие человека в готовности пойти на жертву». «Мы думаем, что герои находятся с одной стороны, а предатели – с другой. На самом деле герои и предатели есть с обоих сторон». Не правда ли, он говорит о разнице в уровнях.
Как следует из теории систем, развитие системы определяется её способностью к самоорганизации. Всё, что способно подниматься на более высокий уровень самоорганизации, продолжает существовать. При этом верхним уровням, где осуществляется самая сложная работа создания нового, принадлежит главенствующая роль. Н. Рерих отводил её культуре. И к такому же пониманию нас приводит анализ системы «всего человеческого».
По воспоминаниям современников, самыми интересными периодами в культурной истории СССР были конец 20‑х годов и 60‑е годы. Первый потому, что жизнь стала возрождаться после ужасов Гражданской войны, второй потому, что страна стала приходить в себя после ужаса сталинизма. И тот, и другой имели место при весьма ограниченных свободах, и прекращены они были дальнейшим удушением свобод, осуществлённым соответственно Джугашвили и старческим ареопагом Политбюро КПСС. И вот наступили самые свободные в истории России 1990‑е, и что? Искусство мертво. Нет значительных фигур ни в литературе, ни в изобразительном искусстве. Куда делись остатки былого цветения, которое имело место в, казалось бы, гораздо худшие периоды истории страны? Два периода частичного возрождения культурной жизни при советской власти оказались возможны только потому, что были живы остатки старой элиты, которые получили образование, а отчасти достигли зрелости до трагедии 1917 года. А уже в 1990‑е «шестидесятники», бывшие ещё вполне дееспособными шестидесятилетними не имели уже никакого влияния на новых тридцатилетних, и на события в целом. Качество их было низким, им в сравнении с их отцами и дедами существенно недоставало Высоты.
Констатируя далеко зашедший процесс деградации культуры, З. Прилепин считает единственным выходом из создавшейся ситуации культурную диктатуру и просвещённый абсолютизм. Что то похожее на спортивную диктатуру в стране получилось, ведь столько стадионов понастроено, но для культурной нужно большое количество не просто умных, но ещё обладающих высокой культурой деятелей. А чтобы осуществлять диктатуру, они должны обладать немалой властью. Да где же их столько взять, и кто им даст власть? Вот так мы и перебиваемся несформулированными на уровне культуры.
При таком состоянии дел уровневая модель приобретает особую ценность, потому что она «формулирует» нас сразу на всех уровнях. Она многими нитями связана с представлениями, которые отбирались и проверялись веками. Слово «культура» традиционно служило маркером процесса высокого уровня. Уровневая модель восстанавливает высокий статус культуры. Она препятствует легализации и поощрению процессов деградации, возводя их в ранг каких-то мутных культур. С их навозным роем мы неизбежно пропадём. Если вернуть культуре её высокое звание, у нас появится если не шанс на спасение, то хотя бы повод уважать себя.


