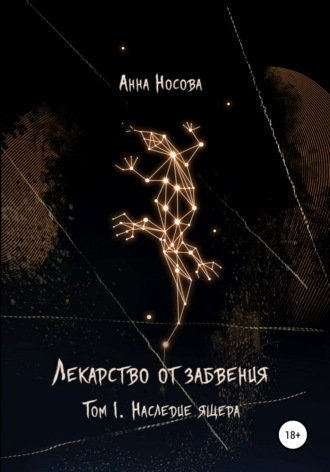
Анна Владимировна Носова
Лекарство от забвения. Том 1. Наследие Ящера
«Юнец стал не торговцем, но воином…»
Нет! Нет! И еще раз нет! Нельзя поддаваться соблазнам, что таит в себе способность видеть! Младшая зажмурилась, прогоняя заманчивые образы. Она не пойдет на зов их дудочки! «Я, по крайней мере, не должна уподобляться старшим…»
Тем более что роль Обещанного совершенно иная. Слова Пастухов до сих пор отзывались набатом в пустотах памяти Младшей: «У Обещанного множество лиц. Он – вестник. Он – посланник. Он – гонец. Он – мост между водой и огнем. Он – указующий перст».
Но он точно не воин! И ни в коем случае не должен им стать! Ибо тогда мир действительно рухнет, не снеся сам своих различий, как поется в балладе-пророчестве древних.
Как уже однажды случилось.
Впервые за всю свою бытность изгнанницы, Младшая исполнилась искреннего негодования на их с сестрами физическую слепоту. Впервые с тех пор, как хранитель Одраэ лишил их зрения, она почувствовала, каково это – по-настоящему блуждать в потемках и принимать одно за другое. Что и говорить, она сама ведь едва не польстилась на искаженные приметы лже-Обещанного… Сама была готова подтасовать карты в их, гурилий, пользу, чтобы потом презрительно швырнуть их в лицо нынешнему хранителю и наконец вернуть себе былое! Столько лет влачить жалкое существование на задворках Вига в телах немощных образин, окопавшихся в морском подземелье!.. «Покажите мне того, кто не искусился бы примерить этот ключ к заветной скважине? – вопрошала Младшая смыкающееся над ней травяное густолесье. – Тем более если дверь приведет к нашему выстраданному возрождению…»
Так, стало быть, какое право она имеет винить старших? Они – всего лишь слепые старухи.
И все же Младшая не удержалась. Ибо была уверена: нужно хотя бы попытаться вразумить двух изгнанниц, очарованных своей иллюзией. Да так, чтобы могущий разразиться из-за этого спор ни в коем случае не стал достоянием пришлых. Никто – ни единая душа на всей Сфере – и краем уха не должен услышать ни о каких Обещанных, пророчествах и возрождениях! Что-что, а уж это Пастухи им в свое время дали понять.
Окажется ли усмирен голос совести Младшей тем оправданием, что она действительно пыталась? Весьма притом настойчиво. А как, позвольте, еще можно было действовать, если ускользающее из пальцев время и стремительно редеющая чащоба отчаянно работали против нее?!
Собрав волю в кулак, она произвела энергичный ментальный пасс, целясь в набухшее от восторгов веретено. «Он – не Обещанный! – с надрывом кричала она в никуда. – Слышите?! Время еще не пришло! Это ошибка!»
Все без толку. Ее посылы, слишком слабые, звонко отскакивали от веретена, не в силах сплестись с ним.
Тогда Младшая пошла на риск. С каким-то ярым полубезумным отчаянием она принялась набрасывать на веретено нити своих признаний, которыми, откровенно говоря, изначально вовсе не была намерена делиться. Она понимала: нужно любой ценой привлечь их внимание – и сделать это за спиной у пришлых. Это ее долг – и Младшая его оплатит. А потом… Потом пусть сколько угодно обвиняют ее в отречении от пророчества Пастухов! Да хоть в потере рассудка! Лишь бы отвлеклись от пьянящего ликования и от намерения поскорее приступить к инициации «Обещанного».
Обряд, к слову, должен был стать совершенно особым. Обещанный – это ведь не очередной купеческий пилигрим, коих они со старшими уже немало слепили за свой долгий и мучительный век. С ним все должно быть иначе. Вместе с даром дыхания на суше посланнику надлежит вручить его «весть», которую он вначале глубоко осознает сам, а затем доставит на огненную землю… Но вверять столь ценную криптограмму можно только истинному Обещанному, сотканному мирозданием для этой исторической роли – роли, что предопределит будущность всей Сферы. «И стряхнет пыль с архивов прошлого… – добавила про себя Младшая. – Эти двое, чай, уже строят мысленный план, как бы получше да подоходчивей всучить несчастному «чужое письмо»!..»
И тут ей сделалось по-настоящему жутко. А что, если вот прямо здесь и сейчас – в эти ничтожные мгновения – и вершится то будущее, о котором они, точно три няньки, так заботливо пекутся?! Что, если недостаточная убедительность ее, Младшей, попыток достучаться до сестер-гурилий будет стоить Сфере мирного существования? У нее закружилась голова, а вдыхаемые струи соленой воды будто намертво застряли в наспинных плавниках, не желая превращаться в кислородные пузырьки. На какое-то мгновение ей показалось, что она выросла до размеров десятка Сфер и теперь играючи перекатывает их мир в своей исполинской ладони. Сфера – крошечная мерцающая бусина – опасно балансирует и того и гляди соскользнет в бездонную глотку черного космоса. А Пастухи, вшестером пристроившись на ее бугристых плечах, во весь голос смеются над неуклюжестью младшей сестры нижней границы миров…
И делают ставки.
Подводное густолесье успело расступиться перед небольшой процессией, а значит, до гиблых марей рукой подать. Остается преодолеть широкую полосу валежника, выложенную гниющими стволами и сучьями черных ив – и, считай, прибыли. Мутноватая водица недвусмысленно намекала на потревоженные губки ползучего древесного мха: торопливые ноги заставляли их взметаться вверх грязно-коричневым фейерверком. Впереди, сквозь пелену вечернего сумрака, просматривались всполохи хоровода белесых теней. Сердце Младшей зашлось тонкой вибрирующей струной: «Почти пришли». Ибо те отсветы оказались не чем иным, как неверными огнями подводного заболоченного леса – места назначения их пешего маршрута. И днем, и ночью они вьюжили над донными топями рваным мертвенно-бледным маревом, словно призраки, не нашедшие себе пристанища ни в одном из миров. Именно там, в скособоченной плетеной лачуге с перетянутыми рыбьей кожей окнами-щелками, и должно было свершиться нечто.
«Свершиться, чтобы стать величайшим благодеянием или непоправимой роковой ошибкой», – беспрестанно билось в голове у Младшей.
«Скорее – ошибкой».
Ни время, ни обстоятельства не желали идти на уступки. Руины поваленного леса под ногами податливо открывали внутри себя знакомую тропку. Узкую – двоим не разойтись, – но вытоптанную на славу. Настолько хорошо проторенную, что, скажем, какой-нибудь коряге, которая могла бы стать подножкой и выиграть Младшей хоть несколько мгновений, попросту неоткуда было взяться. Нет, можно было, конечно, и просто выколдовать ее. Делов-то… Но сработать подобное, во-первых, не позволял запрет на любую, кроме обрядной, магию в присутствии пришлых; во-вторых, Младшая что было сил старалась сосредоточиться на своем истошном зове и никак не могла отвлекаться.
Она взывала к Старшим. К их благоразумию, к интуиции… К их верности пророчеству Пастухов.
Старшие оставались глухи. Им уже было невмоготу от нетерпения. Они налились таким волнением, что оно почти ощутимо пенилось и захлестывало последние отчаянные призывы Младшей.
«Он – не вестник!» – позабыв о всякой осторожности, немо надрывалась она в своем одиночестве на краю равнодушной бездны. Нельзя, никак нельзя было сознаваться, что она, Младшая, уже дерзнула прощупать его нутро и увидела там иное. Как и нельзя было признаваться в одной ей слышимых голосах…
Тем временем бурелом лесного кладбища – последнего бастиона между их процессией и гиблой марью – мало-помалу редел и сначала неохотно, а потом, словно сдавшись, начал уступать характерно чавкающей топи. Тут и там она перемежалась с травянистыми кочками, подбитыми по краям траурной каймой черных щупалец актинии-кровохлебки. Сквозь лохмотья теней, что с упоением скользили над марью, уже угадывались очертания лачуги.
В ее тесноте давно все готово к выплате оброка. Прохлада камня семпау уже ожидает нового гостя. Она за милую душу вберет в себя все его страдания, страхи, терзания и боль, чтобы в ее продолговатом углублении «родился» на свет новый пилигрим. Но более всего она ждет Обещанного, чтобы вместе с гурилиями вживить в него весть, которую он осознает как свою собственную и понесет туда – наверх… Туда, где дышится совсем иначе. Где огненные варвары все еще спят мирным сном, не слыша, как над их головами уже скрипят перепончатые крылья, а черные клыки вспарывают ночной воздух. Пока что только воздух. Тугры – вовсе не травоядные…
«Тугры!» – словно ледяным душем окатило Младшую.
И в ход пошло все…
С каждым шагом, приближающим их к плетеной ивовой лачуге, изгнанница набрасывала на веретено все более сокровенные тайны. Отчаяние придало ей смелости и «развязало язык» так, словно на него щедро плеснули сыворотки правды. Пришлось не только поведать им о «своих» голосах, но и признаться-таки, что она вообще не особенно верила в правдивость их общего сновидения о грядущей войне…
Проще говоря – выставить себя предательницей. Да еще какой… Это же двойное изменничество: публично отречься от пророчества Пастухов, которое ни много ни мало составляло смысл их существования в изгнании, да к тому же самовольно общаться с посторонними голосами. Вообще с кем-то общаться «вне веретена»!
«Плевать».
Младшая обреченно махнула рукой – не иначе как на саму себя – и раскрыла карты. В общий мыслительный котел полетело признание за признанием. В иной светокруг подобные откровения стали бы ей прямой дорогой на судилище по заветам прародительниц. И была бы та дорога в один конец – в пустоту сумрачного безвременья. Да за такое сестры могли не только испепелить ее, но и предать забвению даже сами воспоминания о ней! Что ж, Младшая, в отличие от них, не строила иллюзий. Она прекрасно понимала, что делает. Во всяком случае, в тот безнадежный миг ей действительно так казалось. Изгнанница на всякий случай мысленно попрощалась со Сферой – возможно, лучшим из миров. Он и без того слишком долго терпел ее присутствие на своем пышном балу… Пора, видимо, и честь знать!..
Как о стенку горох.
«Да они издеваются?!» Эти две развалины что же, намеренно оградили ее от веретена, чтобы она не нарушила их намечающуюся идиллию с Обещанным? Может, они прекрасно слышат, да только отмахиваются, как от назойливой, но совершенно безобидного для них паука-серебрянки? «И, возможно, вообще слышали с самого начала», – запоздало озарило Младшую.
Опустошающая мысль о том, что старшие действительно все – абсолютно все – для себя решили, привела изгнанницу в полное исступление. Ее залихорадило. Под сморщенной кожей беспорядочно закольцовывались тонкие ледяные нити. Они брали свое начало где-то внизу живота и угрожающе конвульсировали, выпуская пучки своих ядовитых лучей прямо в сердце Младшей. Странное, уже давно позабытое ощущение «из той жизни» – той, что была до Расщелины. Эхо былого могущества. Разбуженный громом каменный великан.
Не поздновато ли он пробудился?
В любом случае он возьмет свое – рано или поздно. Она, Младшая, нипочем не позволит нарушить сценарий будущего, предписанный Пастухами миров. Костьми ляжет. Она знала, что не даст лже-Обещанному вывернуть мир Сферы наизнанку. Он не получит никакой вести и не отправится с нею на Харх, чтобы раньше времени схлестнуть огонь и воду. И тем самым развязать войну, в которой гурилии уже не смогут никому помочь. И раз старшие – в такой-то момент! – вдруг оглохли и отшвыривают ее, как назойливое насекомое, демонстрируя, что они «все уже решили»…
Коли так, то и Младшая все для себя решила.
Вот уж бельмом на глазу маячит знакомый вековой пень. Трухлявый страж, подбоченясь, выпирает из затравелого буро-зеленого киселя и с некоторым презрением поскрипывает над его чавкающей топью. Против раскидистого ивового молодняка он не более чем отживший свое древесный мертвец. А все туда же… С заносчивым достоинством старого слуги он снисходительно соседствует с прочей болотной растительностью. Слои известковых домиков моллюсков не раз успели смениться на его осклизлой коре, а донные черви-точильцы – превратить ее в образчик барельефов древних времен. Может, потому-то гурилии тогда и облюбовали этот пень, чтобы выстроить на его дряхлом фундаменте пристанище для своих чернокнижных деяний… Что ж, в любом случае дело вовсе не в том, что его широченные древесные кольца, вздымающиеся над мутной трясиной, показались им таким уж надежным укреплением для будущей плетеной постройки. Нет. Истинная причина была запрятана куда глубже и обвита скрытыми смыслами не хуже, чем веретено изгнанниц их разрозненными думами. И Трухлявый знал. За мучительно долгие световехи бдения в самой темной и безнадежной глуби Вигари он вобрал в поры своей коры столько испарений древней магии, что осознание самого себя стало для него зауряднейшей гранью бытия. Уж он-то хорошо знал свое назначение, выходящее далеко за рамки фундамента жалкой лачуги трех безобразных старух, присутствие которых столь сильно оскорбляло верхние воды Вига.
И, правду молвить, Трухлявый весьма гордился собой. Гордился знанием, что, во-первых, никакие это на самом деле не старухи, а во-вторых, тем, что он волей-неволей стал частью их мира. Прирос к ним. Или они к нему – теперь уж не разберешь. Над его плешивой головой знай мелькали светокруги, травная кашица гиблой мари быстро линяла, еще быстрее обрастая затем новой щетиной путанных побегов, а Трухлявый непоколебимо царил над каскадом их коротеньких жизней. Царил в своем сакральном единении с изгнанницами и всем тем, что с самого начала эпохи оброка вершилось в плетеных стенах их лачуги.
Выходит, он такой же пережиток прошлого, закосневший в своих болотных кандалах, как и гурилии – его бессменные обитательницы…
Однако не сказать, что этот древесный реликт так уж терзался своим одиночеством, перебиваясь рваными воспоминаниями и путаными мыслями в отсутствии обитательниц. Нет, Трухлявому определенно было не на что жаловаться. Он всегда знал, чем занять себя между представлениями, которые с завидной регулярностью проходили в той скорлупке из ивовых прутьев, переложенных сфагновой дерновиной, что он носил на своей голове… Чего стоит один его излюбленный эликсир – вытяжка из эмоций, страхов, усилий воли пришлых! С тех пор как Трухлявый обрел нечто вроде разума и восприятия, он только и ждал начала представления. Ведь ему обязательно перепадет несколько капель эссенции из верхних вод… Оттуда, где кипела совершенно иная – пусть и такая скоротечная, зато беззаботная – жизнь. Когда пришлые ложились в каменную ложбинку семпау и волей обитательниц временно теряли связь с реальностью, тут-то старый страж и получал свое долгожданное угощение. Иногда попадались подлинные деликатесы: ужас, отчаяние, желание бежать без оглядки и рвать на себе волосы за неуемные амбиции, требующие такой нешуточной платы за претворение их в жизнь. Тогда Трухлявый упивался, как упиваются чужими страданиями глубоко несчастные одинокие существа с искалеченными телами и судьбами.
Таким оживший фундамент лачуги гурилий, по сути, и был. Застрял между неодушевленным миром обрубка исполинского дерева щелгун и миром бушующих страстей. И не просто застрял, но еще и постоянно питался темными колдовскими токами. Низвергаясь откуда-то сверху, они легко просачивались сквозь плесневелые древесные волокна – пол плетеной скорлупки, – чтобы навсегда осесть в сердцевине Трухлявого. Некоторые – те, что умудрились проскочить слишком быстро, – попросту застревали в его корневой путанице. Ничего в сути не меняя, эхо могущественного колдовства все же наделило пень каким-никаким зрением и очень бледным, полуживым ощущением собственного физического состояния. Довольствовался ли он этим? И да и нет. Получая свой эликсир, Трухлявый на время приобщался к миру, выстроенному силами природы и чьим-то высшим замыслом вокруг его дряхлеющего тела. Страхи или отчаяние, ярость или остервенение – это было в целом неважно. Лишь бы эликсир становился позабористей и глубже всасывался в струпья полуразложившейся коры, наполняя пустоту.
Хоть чем-то…
Еще одно преимущество таких сильных, на грани помешательства, эмоций – их восхитительные субстанции. Они попадали в тело Трухлявого не едва уловимыми ниточками, а в виде сгустков. Это уже что-то. Ими, по крайне мере, можно запастись на случай долгой разлуки с обитательницами и их живительной магией!.. Если не поглощать сразу – еще живыми и трепыхающимися, – а равномерно распределить по древесным кольцам, то они будут отдавать свой нектар замшелому стражу гиблой мари постепенно. Да, они, понятное дело, утратят живость и свежесть только-только сорванного плода и, уж конечно, не пронзят толщу гниющей древесины сиюминутным пьянящим чувством полноты жизни…
Но зато их медленное таяние в дуплах коры Трухлявого станет для него ощутимым отзвуком внешнего мира. Ну, того, что «выстроен вокруг». Он точно есть.
«Не может ведь вокруг быть одна бесконечная гиблая марь? – порой дремотно бормотал про себя Трухлявый. – Наверно, там, наверху, мир полон живых пришлых. Только там они не пришлые, а вполне себе обитатели. И живые!» – мысленно настаивал он. А потом, как водится, скорбно вздыхал: «Не такие, как мертвецы, запутавшиеся у меня в корнях…»
Те, чьи тела и души оказались слишком слабы для дара инициации. Несчастливцы, неспособные стать достойным вместилищем древней магии обитательниц. Так и им и надо!
«Я вон и то смог!»
Дорога вплелась обратно в сознание еще одним жгучим следом, оставленным одновременно и снаружи, и изнутри. Мучительное путешествие – то на плечах собратьев, то в рыбьем желудке – не воспринималось разумом как что-то отдельное, самостоятельное. Обратная дорога казалась продолжением кошмара, втравленного в сознание чужой злой волей. Словно Елуам так и не пришел в себя, вопреки уверениям гурилий, что он якобы в полном порядке. Но, как говорится, сделанного не воротишь. Стоит ли вменять собратьям в вину то, что те поверили слепым образинам? Что, как и положено, вдавили в черный воск потрескавшейся плиты печатку с Яллирова перстня? Как ни крути, гурилии потрудились на славу. Ребра юноши уверенно сходились и расходились, а расширившаяся грудная клетка, казалось, была готова хоть сейчас втянуть порцию «сухого» наземного воздуха. Такого, каким дышат огненные варвары и искусники знают, кто еще из обитающих там – над зеркалом водного купола Вигари. Посланники Черторга получили то, зачем пришли и, засвидетельствовав сие печатным оттиском, отправились восвояси.
Что поделаешь, если один из них возвращался обратно не на собственных ногах!..
Елуам частично осознавал физическое перемещение своего тела в пространстве, но не более того. Редкими всполохами перед ним проносились отдельные клочки окружающего ландшафта, и – удивительное дело! – всякий раз они были новыми. Такими вот урывками и грубыми, размашистыми мазками мимо него мелькали целые климатические зоны его бескрайней подводной родины.
Именно что мимо!
Внутренний взор юноши обозревал совершенно иное. То были существа, пейзажи и сцены, не имеющие никакого отношения к безмятежной пелене лимонно-зеленого шелка, которым утренние эфимиры любовно окутывают морскую толщу Вигари.
Не было там и самого моря, равно как и подводного государства Вигари. По крайней мере, в том их виде, к которому с рождения привык Елуам. Потому-то он и не мог взять в толк, с какой стати его эти двое куда-то тащат…
«Вряд ли в плен, – туго соображал юноша, периодически выныривая из омута видений. – Они вроде как из моей расы…»
Он силился сфокусироваться на собратьях, чтобы в их лицах или обрывках фраз отыскать хоть какое-то объяснение происходящему. О том, чтобы одеревеневшим языком связать хоть пару слов и задать им вопрос, не могло быть и речи. Все, что красноречивый и обходительный юноша теперь мог, – это издавать невнятное мычание в промежутках между страшными удушливыми сновидениями.
«Может, мы спасаемся бегством, а я ранен и меня подобрали из жалости?» – бился в поисках ответов воспаленный разум.
Но стоило видениям взять верх над проблесками сознания, как из глубины поднялся тот ответ, которого Елуам боялся больше всего.
Он гласил, что бежать им некуда.
В самом деле, куда бежать, если от некогда процветавшей цивилизации, полной небывалых архитектурных диковин, не осталось ничего?.. Повсюду голые камни вперемешку с раздробленными черепами и обломками нездешнего оружия. Вся соленая бездна – от пенной накипи волн до самого дна – напоена кровью. Густо-синей и багряно-красной. Сквозь искажающую линзу подводных течений она больше похожа на клубы дыма. Эти двухцветные клубы взметаются неупокоенными душами после недавнего побоища, усеявшего еще один подводный город новыми мертвецами. Многие из них – вовсе не воины. Среди «не воинов» – много детей.
«Повзрослеть они уже не успеют…» – подсказывал Елуаму страшную правду его истощенный разум.
Тем не менее движение продолжалось. Юношу упорно тащили вперед «двое из его расы». Тащили так, словно стремились достичь какой-то там цели. Бестолковое, заведомо обреченное на погибель движение! Оно мучило Елуама. За каждым рывком следовала такая болезненная отдача в самое его нутро, что, будь его воля, он бы просто рухнул на колени в эпицентре своих видений. Лучше пусть сразу, на месте пожрут его своими щелкающими клыкастыми пастями, чем заставят дальше продираться сквозь полчища мертвецов!.. Или, что еще хуже, топтаться на пепелище своей поруганной родины.
Так нет же, чтоб их семеро искусников драли! «Двое» словно бы и вовсе ничего не замечали!.. Знай тащились себе сквозь самое горнило войны с лицами удачно поторговавших купцов. Старый лишь изредка сварливо поскрипывал на коренастого, постоянно чего-то от него требуя. То ли «пошибче шевелить ластами», то ли «прекратить бабьи причитания»… Тогда коренастый лишь протяжно вздыхал.
Это плохо, очень плохо, что язык перестал слушаться Елуама. Будь оно иначе, он всенепременно потребовал бы от своих носильщиков объяснений. Он нашел бы аргументы, чтобы убедить их, что сейчас, мягко говоря, не лучшее время для путешествий. Или нет, не так! Лучше всего было бы схватить их обоих за грудки и заорать что есть мочи: «Вы что, ослепли?!» А затем развернуть их лицом к, скажем… А хоть бы вот к этому!
Превеликие искусники!..
Елуам зажмурился. Сквозь него просвистел целый сноп стрел животного страха, оставив знобяще-тревожную рябь. Вот теперь, судя по всему, и впрямь настало время сдаться. Что-то настойчиво подсказывало пилигриму, что продолжать сопротивление, пусть даже и духовное, – совершенно бесполезно. Это только лишь продлит его агонию.
Ибо очень близко, на расстоянии вытянутой руки, от парализованного юноши по дну вальяжно струилось гигантское чешуйчатое нечто. Поле зрения Елуама выхватило лишь фрагмент необъятной твари, и это был ее хвост. Плоский, похожий на ремень из расплавленного обсидиана, он не полз, а будто бы тек, прорубая себе дорогу сквозь руины былой подводной цивилизации. Одно мышечное сокращение – и по сторонам разлетаются обломки, черепки, кости, опутанные сорняковыми водорослями. Обломки чьих-то жизней… Изгибы этого гладкого чернильного хвоста одновременно слепили глаза – его чешуйки буквально пожирали свет эфимиров – и являли миру ядовито-желтое брюхо неведомой твари. На него успел налипнуть щедрый слой спутанной сорной травы. Местами виднелись более крупные нашлепки из плоских камней или пучков когтей угундра ползучего. Они, впечатавшись в эластичное брюхо, напоминали кусочки мозаики, неаккуратно уложенные в глиняном растворе.
Судя по царственному скольжению твари в очаге кромешного ада, ей определенно не было дела до подобных мелочей. Она с гордостью любовалась своим творением. Обходила владения.
«Мелочей» этих Елуам, по счастью, тоже не увидел. Мутноватая толща воды оказала ему услугу, милосердно скрыв от неподготовленного взора пилигрима все прочие части твари. Ну а дальше он помог себе сам – думал, что помог! – и крепко зажмурил глаза. Оказалось, что возможность прикрыться детским «не вижу тебя – значит, тебя нет» стала последним щитом между юношей и ползучим палачом.
Между Обещанным и его горьким посланием миру.
Разумеется, у хвоста имелось продолжение. А коль увиденное Елуамом нечто и было именно хвостом, то об истинных размерах и формах палача оставалось лишь строить догадки – одна страшней другой. Он медленно отдалялся от юноши и его «носильщиков», величественно волоча по развороченному городу свой хвост, словно длинный черный плащ с грязно-желтой мясистой подкладкой. Взбаламученные недавним побоищем воды скрадывали туловище твари и растворяли в своей багряно-синей мути очертания нового хозяина Вигари. Оно было где-то там – туго вплетенное в канву разрухи и смерти. Оно ползло, чтобы прошить собой все Вига, не оставив ни единого пробела.
«Носильщики» как ни в чем не бывало тащили Елуама к одним им ведомой цели. Прямо за хвостом твари – за хвостом, легчайший взмах которого способен размозжить им головы.
К вящему удивлению Елуама, его закрытые глаза – видели. Хоть картина, которую тот имел несчастье наблюдать, была слегка затемнена, но все же даже более контрастна, чем обычно. Окружающий мир словно норовил забраться ему под кожу, оттиснуть себя в памяти, смешаться с его кровью. Кажется, жуткая реальность даже пыталась оставить свой вкус на языке юноши. И ведь оставила!
Горькая полынь с комьями земли… И, кажется, зола. И железо…
Там, под веками, не было убежища, даже временного избавления от чудовищных пейзажей, которые рисовал и рисовал в некогда кристальном Вигари страшный черный хвост. В мире «за закрытыми глазами» все было искусно подсвечено и окрашено в мрачные тона. Крики умирающих насквозь пронзали Елуама и вылетали из его наспинных плавников. С каждым вдохом их агония передавалась ему, заставляя еще сильней биться в лихорадке. Стараться не дышать…
Не дышать! Ведь вместе с растворенным кислородом в тело вливается новая порция чужого ужаса! Свежая доза страха и агонии! Вот они уже часть Елуама, такая же как, например, сердце или мизинец ноги. Слишком много для него одного… Кажется, эта чужая боль разорвет его на части, и тогда им, пожалуй, полакомится палач!..
Что это еще такое?! К боли примешалось крошево руин – песок, раздробленные камни, обломки статуй, квадратики настенных мозаик. Некоторые – до основания напитавшиеся кровью и чем-то еще… Все это тоже безо всякой меры втравлялось, просачивалось в само естество Елуама. Он чувствовал на зубах песок, известку и кровь.
Свою или чужую?
Надо стараться не дышать. Может, тогда он наглотается меньше? Может, тогда останется хоть что-то от него самого?
Нет.
Кто-то властный незримо держал его за шкирку и не давал закрыть глаза. Не давал закрыть рот. Видимо, хочет сделать его призраком этой страшной войны – ее тенью, уменьшенной копией.
Тайной сущностью.
Будто этот кто-то хочет накормить его до отвала побоищем и первобытным варварством, чтобы носить потом на поясе, как скрытное оружие. Ложка за ложкой. Похоже, он и без того уже почти призрак, сотканный из пепла, крови и слез.
Горькая полынь, земля, железо, зола…
Сколько он еще выдержит?.. Светошаг-другой?
Пока внимание Елуама было отвлечено попытками «не дышать» и бороться с кормлением, он и не заметил, как на авансцену вышел палач. Ползучая тварь передумала виться дальше вперед и, изогнувшись исполинской чешуйчатой петлей, круто развернулась.
Хвост поменялся местами с головой.
В этот миг все вокруг наконец действительно почернело. Оставались ли глаза юноши закрытыми или открылись? Это уже не имело значения. На одно-единственное мгновение резкой вспышкой молнии в грозовом облаке взору Елуама открылась личина твари. Молодой вига рефлексивно задрал голову, потому как голова чудища была на такой высоте, что взгляд вообще едва до нее дотягивался. Все, что юноша успел выхватить зрением из глухой черноты, оказалось довольно узким черепом, обрамленным трепыхающимся капюшоном и парой бесконечных, загнутых книзу клыков. Кажется, были еще шершавые перепончатые крылья? Или это уже плод воспаленного воображения?
Клыки медленно поползли из черепа-башни вниз, целясь в сердце Елуама. Ближе и ближе… Они несли в себе обещание наконец избавить его от мучений. Избавить от чужой боли и агонии.
И от будущего в мире, охваченном войной.
Он распластался на плечах «носильщиков», выпятив грудь, словно подставляя себя под удар. Не дышать, кажется, уже получалось…
Удара не последовало. Не было ни рассечения кожи, ни онемения от яда. Клыки остановились на полпути, словно встретив неожиданную преграду. Голова твари отшатнулась куда-то вбок, а чуть позже и вовсе скрылась в черноте обступивших ее волн.
Голос будто бы внутри самого юноши, слегка подрагивая, прошелестел: «Я избавлю тебя».
Грудная клетка замерла. Глаза остекленели, а зрачки уставились в одну точку. Когда Елуам окончательно перестал осознавать происходящее, певучий женский голос все же дотянулся до него еще раз и тихо-тихо всхлипнул: «Прости… Ты не виноват, что старшие ошиблись насчет тебя».
…Очень далеко, на невообразимой глубине Расщелины, угрюмая болотная хмарь омылась прозрачной слезой. Так Младшая венчала свою скорбную мессу по лже-Обещанному.
Глава 19 Не то, чем кажется
– Да ну тебя! – разочарованно махнул рукой Дримгур. Легкое касание хлопковой ткани вновь пробудило боль от еще не зажившего ожога. – Вечно тебе не угодишь!
Сквозь прямоугольные окошки казарменного домика в комнату пробивались первые лучи рассеянного утреннего света. Они рождались там – в лоне далекого горизонта, где Огненный бог уже летел на своем крылатом скакуне, чтобы пробудить Матерь звезд. Не иначе как ее веки уже затрепетали, а ресницы дрогнули: ведь лазурное зеркало Вигари плавно колыхнулось и тотчас подернулось зыбью, словно гусиной кожей. Светило еще не явило себя миру, но его слепящие клинки из рубинов и белого золота уже изрезали горизонт. Они кружили и кружили по арене небосклона, прославляя Матерь звезд и возвещая о том, что новый день вступает в свои права.
Огненные опаловые горы первыми встречали отблески небесных клинков – это было отчетливо видно сквозь казарменные оконца. Еще бы! Исстари вся воинская часть королевской стражи Харх примыкала к Ладони замка-горы плотным полукольцом деревянных казарменных домиков. Расположение столь стратегически удачное, что ни один подлинный носитель опалового венца – будь он молодым амбициозным регентом Радху при незрелом принце Наддахе или безумным дряхлым Гимеоном – не внес в него ровным счетом никаких изменений. И, воистину, их можно было понять! Легко представить, как каждый из них в свое время бросал с обзорной площадки замка критический взгляд на казарменную постройку, затем переводил взор на обрамляющую ее горную панораму… Крутил и так и эдак, пытаясь мысленно перенести воинскую часть куда-нибудь еще. Скажем, ниже – к подножию опалового «трехгорья», под стены Перстня или, наоборот, расположить стражей своего покоя под хвойными зарослями вершины замка-горы.



