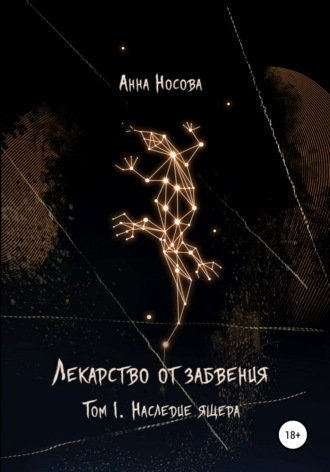
Анна Владимировна Носова
Лекарство от забвения. Том 1. Наследие Ящера
Кап!
Здоровенная капля тяжелой прозрачной бусиной шлепнула Дримгура по низкому лбу, чтобы отскочить неприятной мыслью о скользких холодных обитателях подземелий. Рука машинально потянулась к тому месту, куда упала эта «бусина». И уж только потом стражник с видимым удовольствием приложился всей пятерней к прохладной отметине, которую та оставила.
Вынужденная остановка оказалась не случайной, а капля – не просто скопившимися у потолка испарениями. Это был знак. Дримгура явно приглашали войти. Железное кольцо коснулось руки стражника, и он, не раздумывая, потянул бронзовую скобу на себя. Тяжесть массивной двери, больше похожей на створку ворот, заставила ухватиться за кольцо обеими руками и хорошенько поднажать. Ее сопротивление, однако, нисколько не смутило Дримгура, а только распалило юношеский азарт.
Во всем его существе пробудилось нечто такое, что сложно было остановить, – будто с древнего клинка слетела вековая пыль и его сталь хрипло, но уверенно запела на поле брани. Едва тлевшие в самых отдаленных закоулках души угли разгорелись страстным пламенем. Буйному цветению дикого кустарника стало тесно в тепле и уюте оранжереи, и его тянущиеся к свету стебли проломили стеклянный потолок.
Воодушевление, что поднялось из самых глубин души Дримгура, метнулось слепящим языком священного пламени. Он чувствовал, что уже приблизился к Огненному богу, что сумел донести до него свой порыв прозрения. Чувствовал всем телом сошедшую с небес благодать Матери звезд, узревшей праведные устремления своего будущего сына.
А если так, то какое ему теперь дело до боли, что вот-вот должна хладными иглами впиться в его плечо? А грозящая и вовсе исчезнуть татуировка – да кому она такая нужна? «Придет время – выжгут мне новую. Настоящую. И, клянусь Семью наставлениями, своими деяниями я отращу ее до самых пальцев! А потом еще одну – на другой руке! О Прародитель, прошу тебя лишь об одном: даруй мне время, дабы успел я вместить деяния эти в срок своей жизни!»
И услышана была молитва, ибо дверь наконец поддалась, став, на Дримгуров взгляд, «легче перышка», и без единого скрипа мягко отворилась.
Убранство покоев, в которые привели юношу голос, лестница и капли, не содержало в себе ни намека на тот исход скитания по Святилищу, которого он ожидал, к которому был уже всецело готов. Первым, что зацепило рассеянное внимание Дримгура, оказался резко изменившийся запах. Не то чтобы к нему примешались какие-либо новые оттенки или он преобразился до неузнаваемости – ничего подобного. Поначалу юноша не сразу понял, что произошло и как так получилось, что удушающее амбре тления вдруг стало ему по нраву. Он принюхался, силясь разгадать приготовленную Святилищем головоломку. Ничего не шло на ум, переполненный вытесняющими друг друга впечатлениями, эмоциями и мыслями. Собственная голова начала напоминать стражнику растревоженный муравейник, в котором копошились тысячи суетливых насекомых, спасающих своих куколок и личинок.
– Засахаренная роза, Дримгур, – внезапно раздалось из левого угла покоев.
На обитой шафрановым бархатом кушетке с закругленными бронзовыми подлокотниками, из центра которых расходились металлические лучи, сидела Йанги. Ее длинные белые руки покоились на бордовой ткани туники. Верховная жрица, хоть и была хозяйкой положения, ничем не выдавала этого – ни обликом, ни позой, ни выражением лица. Более того, она казалась смиренней и покорней самого Дримгура.
Сверху лился все тот же свет без видимого источника, наделяя кожу Йанги теплым оттенком пчелиного воска, а ее обычно серебристо-пепельные волосы теперь казались персиковыми. Стоило жрице чуть шевельнуть головой, увенчанной тонким обручем с иссиня-черными перьями, в ее прямых прядях вместо холодных отблесков играли жизнерадостные золотинки.
Только слепцу это не внушило бы робкой надежды на безболезненность грядущего наказания! Дримгур же, с его острым зрением, перестал ждать уступок от судьбы. Более того, теперь стражник готов был поклясться: он буквально жаждал боли – этой обещанной расплаты за нарушение караульного кодекса. Боли, пронзительного холода, любых иных испытаний тела и духа, чтобы снискать хоть крошечную толику милосердия Огненного бога. Чтобы ощутить себя истинным сыном огненной земли Харх, наследником его великих воинов и, в конце концов, мужчиной… А не «куклой в блестящих доспехах», как жалкий карлик называл за глаза королевских стражников.
Дримгур-то всегда знал – догадывался, – что отчасти характеристика Эббиха справедлива.
– Роза, Сиятельная? – Юноша послушно оглянулся по сторонам в поисках цветка, о котором говорила Йанги.
Обстановка покоев была аскетичной: две кушетки с бархатными сиденьями, каменный стол с разложенными на нем пузатыми колбочками и черными перьями (такими же, как в головном уборе жрицы), причудливо изогнутые напольные подставки с незажженными свечами, белая медвежья шкура на холодных плитах пола… Что угодно, но не розы. Не говоря уж о засахаренных экземплярах.
– О да, воин, – спокойно молвила Йанги. – Но ты их не увидишь, если будешь искать взглядом.
Полуулыбка? Или стражнику померещилось?
– Закрой глаза, – мягко сказала жрица, – и услышь ее. Не используй зрение, откажись от привычных усилий разума, и образ прекрасного цветка предстанет перед тобой. Столь же ясно, как сейчас передо мной, – добавила Йанги, глядя куда-то мимо Дримгура.
«Началось», – решил стражник и поспешно выполнил то, что только что коснулось его слуха. Приказ – не приказ, совершенно неважно.
Он постарался сделать ровно так, как велела жрица. Изо всех сил он зажмурил глаза и заставил себя остановить поток мыслей, скачущих диким степным табуном по просторам разума. Вопреки надеждам юноши, взнуздать этих ретивых жеребцов оказалось не так-то просто. Выяснилось, что там, внутри, все устроено с точностью до наоборот: теперь он уже не бравый наездник, управляющий своим резвым скакуном, он сам оказался под чьей-то властной плетью. Эта плеть хлестала Дримгура свежими переживаниями, поднимала с пола осадок впечатлений и швыряла ему в закрытые глаза; не успевала чуть остыть полоска боли от удара одной мысли, следом обрушивалась новая, наполняя гудящей резью уже другую часть тела.
Какие тут могут быть розы? Эта плеть попросту рассекла бы шелк нежных лепестков в багряную пыль и развеяла по ветру над морем Вигари.
И все же это духовное испытание не могло превратить в пыль настрой, подаренный Дримгуру его новыми открытиями. Дары Стены отверженных все так же поблескивали древним золотом на костяных блюдах. Он просто стоял, не говоря ни слова. Просто отдался испытанию – именно так он воспринимал происходящее.
Йанги, чего давным-давно с ней не случалось, искренне восхитилась. Реакция Дримгура превзошла все ожидания.
Королевский воин, позволив снять с себя первую метафизическую пробу, предстал перед ней в наилучшем свете. «Разум – это первое, – подняв глаза к потолку, загибала жрица свои тонкие пальцы. – Разум не замутнен влиятельными энергиями: отец рано умер, мать не властна, а окружение нейтрально. Прекрасная ничейная территория. Истовая жажда, которая юноше кажется примитивной потребностью его земного тела, на деле – жажда пересохшего честолюбия. Захлестывающие страсти по свершениям, подвигам. О, неужто?» На мгновение Йанги по-кошачьи прищурилась, словно сверяясь с неким незримым механизмом. «Да, воин, – томно изогнувшись, будто от наслаждения, закивала она, – это страсти по крови! И с какой силой вытесняют они прочие притязания души! Сколько вообще здесь силы – истинной силы, закипающей в сонном котле бездействия, противного их Прародителю. Я чую, как лопаются его пузырьки, как пляшет на котле крышка!» Жрица медленно втянула ноздрями воздух. С длинным, таким же чувственным выдохом ее лицо утратило негу и стало слегка озабоченным: «Слишком, слишком хорош для своей роли… Пешка оказалась ладьей. Хот, кто знает. Может, так и должно было случиться… Может, это единственно верный путь. – Йанги пристально посмотрела на Дримгура. – Но вот переживет ли ладья рокировку?..»
Что ж, каким бы ни оказался ответ на этот вопрос, медлить не стоило. Йанги грациозно соскользнула со своего мягкого ложа и, неслышно ступая босыми ногами, подошла к каменному столу, притаившемуся в другом углу жреческих покоев. Высвободила из плена туники длинный шнур, свитый плотным жгутом. На нем свободно болтался миниатюрный резной ключик, больше похожий на игрушечный рыболовный крючок. Этим «крючком», повернув его пять раз, Йанги отперла нижний ящик стола и извлекла на свет шкатулку из непрозрачного черного кварца – мориона. Изделие имело несколько отделений, каждое из которых располагало своей собственной крохотной замочной скважиной из необычного сплава, соединившего все оттенки морской волны. Поставив шкатулку на стол, жрица слегка прикусила основание своего нагрудного ключа – тот послушно раскрылся. Внутри него оказался точно такой же «крючок», только миниатюрнее. Легким жестом, в котором сквозила многолетняя (или многовековая?) привычка, жрица подцепила иглой «крючка» какую-то деталь в глубине скважины левого нижнего ящичка шкатулки и несколько раз провернула его, крепко зажав между большим и указательным пальцами. Раздался сухой щелчок. Ящичек избавился от своего хитроумного запора, приглашая взглянуть на содержимое черной глянцевой ячейки.
Йанги взялась за крохотную темно-зеленую скобу, расположенную чуть выше скважины, и осторожно потянула кварцевую выемку на себя. Цвет лица жрицы потеплел еще больше, а ее глаза, и без того ярко-желтые, превратились в звезды. Это сияние вырвалось из шкатулочного заточения – и мгновенно отразилось всей силой накопленного света на коже и в глазах Йанги. Ничего в целом удивительного. Ведь даже одна-единственная золотая песчинка пыльцы гаудра желтолистого способна поспорить блеском с любым источником света, встретившемся на ее пути. О том, какое торжество сияния несет в себе целая горсть пыльцы, пожалуй, не стоит и говорить.
Верховная жрица замерла, словно греясь в мерцающих золотых переливах. Она почувствовала себя «пылинкой на щедрой длани Прародителя». Вернее, в который раз заставила почувствовать. Каждодневный терпеливый труд. Год за годом.
Иного выбора не было.
Йанги, получив свою меру тепла, с благодарностью наклонилась к щедрой горсти пыльцы и легонько дотронулась до нее плотно сжатыми губами. Их покрыл тончайший слой золотистой пудры. И сделано это было вовсе не из самолюбования. Верховная жрица, совершив причудливый ритуал и спрятав шкатулку обратно в стол, наконец удостоила Дримгура близостью своего присутствия. Тот, в свою очередь, продолжал, зажмурив глаза и замерев, стоять посреди покоев, будто бронзовая скульптура. Выражение лица юноши красноречиво отражало напряженную, но пока бесплодную работу мыслей и органов чувств. Йанги прекрасно понимала, что ее загадка о розе оставалась неразгаданной.
Однако это нисколько ее не расстраивало. Скорее, наоборот: к чему пешке, пусть даже и примерившей на себя королевскую шелковую тунику, богато расшитую золоченой нитью, излишняя прозорливость? Недогадливый разум, дремлющая интуиция, притупленное чутье – это ведь идеальный минеральный состав глины, из которой будет слеплена прекрасная шахматная фигурка. Эти компоненты, помимо прочего, обеспечат пластичность и вязкость, необходимые для успешной гончарной обработки. Йанги довольно улыбнулась. Воистину, это была не та загадка, которую стражнику следовало отгадать, а значит, его замешательство стало единственно правильным ответом. А то чудесное обстоятельство, что он не принялся перебирать приходящие в голову варианты, бросившись в пучину ощущений, только прибавляло Дримгуру ценности. Ведь он как бы оставил свою ладонь раскрытой в поисках помощи, а ум – готовым услышать «правильный» ответ и принять его как данность.
И помощь, само собой, была оказана.
Жрица, слегка склонившись над королевским стражником, вытянула губы трубочкой и дунула, словно гася свечу. С губ невесомым облаком слетела золотая пыльца, окутав юношу драгоценной вуалью. Она не осела ни на курчавых волосах Дримгура, ни на его загорелом лице, ни на одежде. Просто окружила сиянием ослепительных танцующих частиц. Пыльца одарила юношу отблесками того же нестерпимо яркого света, что несколько мгновений назад озарял Йанги, когда та отперла потайное отделение шкатулки из мориона. У любого взглянувшего на эту картину со стороны, возникло бы впечатление, что этот свет исходит не от иллюминирующей пыльцы, а от самого Дримгура. Что он проглотил крупный слиток искраита и теперь может смело бросить вызов любому сумраку, не заботясь о таких мелочах, как факел или свеча.
Разумеется, Дримгур и не догадывался, что верховная жрица накинула на него полупрозрачную вуаль с мириадами искр-золотинок. Он даже не осознавал степень ее близости, измеряемую легким выдохом, который позволил блестящей пыли слететь с красивых губ и запеленать силуэт Дримгура. Все, что он поначалу почувствовал, – это легкое дуновение, ненароком коснувшееся открытых участков тела. Было приятно. Каждое прикосновение этого «ветра» вместе с росистой свежестью раннего утра дарило обещание скорого облегчения. Прорезав послегрозовым дыханием гнетущую колодезную духоту, чудесный ветер унес всю ее затхлость, не оставив и следа от былого сладковато-гнилостного душка. По покоям разлилась живительная прохлада, и в игру вступило знакомое цветочное благоухание. Отдельные дуновения долетали до ноздрей Дримгура отзвуками жженого сахара, неизменно витавшими над ярмарочными лотками Подгорья.
Какое-то время юноша просто наслаждался резко изменившейся атмосферой, не пытаясь ухватиться за подсказку, скрытую в этом переплетении ароматов. Не сразу сбитый с толку стражник признал в нем розу, отороченную каемкой сахарной глазури, словно прихваченную первым заморозком. Бутон выглядел куда реальней любого настоящего цветка: в каждом плавном изгибе, в каждом движении, вторящем прихоти ветра, и в каждой молочной прожилке, что разбегались из темной глубины цветочного сердца.
– Роза! – одними губами прошептал потрясенный Дримгур.
Он боялся, что от громкого голоса или, не приведи Огненный, неосторожного движения явившийся ему образ постигнет участь миража в пустыне. И все же не мог молчать:
– Я вижу… Я ее вижу!
Восторг победоносно воссиял над иными чувствами юноши и выгадал для себя две непрошеные слезы. Быстро скатившись по щекам стражника, они отразили в себе все золото уцепившейся за воздух драгоценной пыли.
– Это лучшее, что я видел… – Признание было обращено не к Йанги и даже не к самому себе – казалось, Дримгур говорил с кем-то третьим.
Йанги окинула взглядом свое творение. Ее янтарные кошачьи глаза светились вполне объяснимой гордостью. Эта гордость несла в себе не удовлетворение победителя у финишной черты, она не была похожа на восхищение матери, взирающей, как делает первые шаги ее обожаемое чадо. Удивительно, но гордость верховной жрицы была словно позаимствована у далеких-далеких предков этого чада, со сдержанным умилением наблюдающих с высоты своего небесного обиталища. Такой взгляд, ограненный вековой мудростью, вместивший в себя знания и опыт десятков поколений, был крайне странен на гладком, почти юном лице Йанги. Излучины морщин и потускневший цвет глаз были бы здесь куда уместней – правильней.
– Не лучшее, стражник. Обещаю тебе, что это будет не лучшее, что ты увидишь здесь, – прозвучал ее приглушенный хрипловатый голос прямо над ухом Дримгура. – Не открывай глаза – и ты увидишь, ибо слепы зрячие в заблуждениях своих. А в беззащитности и мраке дремлет исполинская мощь, копя в груди священное пламя, что озарит путь их к свету! И придет Скарабей. И да затмит это пламя ничтожные лучины зрячих! – Проповедь приняла гипнотический облик заклинания. Пыльца взметнулась столпами огненных искр под самый потолок. – И пожрет огонь всех его презирающих!
Кровавая роза зашелестела ворохом гладких лепестков, словно складками коричнево-малинового занавеса. Они, дрогнув в последний раз, обрушились на пол, со скрежетом расколов свою хрупкую сахарную оболочку. Прозрачное крошево разбежалось по плитам, словно просыпанный мелкий бисер, дыхнув на прощание густой медовой патокой, приторной до тошноты. Покои вновь заполнились удушающим запахом тлена. Звучал он еще настойчивей, уверенно возвращая свои права.
Однако Дримгур был ему рад. Ибо для него этот запах перестал быть скорбным, угнетающим эфиром. Юноша вдохнул его всей грудью, дал задержаться в легких, чтобы напиться дьявольским нектаром – яростью, предсмертными стенаниями, многоголосыми мольбами о пощаде, сладостным мщением, опьяняющей властью, близостью к Огненному богу… И выдохнул скопившуюся на королевской службе горечь, болезненное разочарование и зачатки малодушного смирения перед судьбой потомственного стражника.
В сиянии огненных искр уже стоял совершенно другой Дримгур. Выглядел он словно каменный великан, готовый сбросить с себя глыбовую чешую, что веками сковывала его, защищая тем самым местное население от смертельной опасности. За занавесом бордовых лепестков ему открылось действительно «лучшее, что он мог увидеть». И жадно вдыхаемый Дримгуром запах был лишь частью развернутой перед ним сцены.
Она представляла собой поле битвы, усеянное мертвыми телами в поломанных, искореженных доспехах. Над телами пировали клекочущие стервятники, скрежеща когтями по бронзе этих доспехов. Дримгур тоже был там. Только вместо бронзы он увидел на своем возмужавшем теле черные пластины с полустершимися росчерками золота. На груди красовался перевернутый треугольник. В черной железной перчатке он сжимал чей-то ярко-рыжий вихор, на котором болталась отрубленная голова, волоча за собой по вытоптанному полю тонкий кровавый след. Вот рука воина высоко подняла эту голову. Сочащаяся из перерезанного горла кровь, подобно смоле из древесного сруба, тяжелыми каплями окропила запрокинутый блестящий от пота лоб Дримгура. Свободной рукой он, сбросив латы на землю, начертил на своем лбу размашистый треугольник и воздел к небу теперь уже обе руки, не выпуская отрубленной головы.
Бескрайнее войско, закрывавшее собой границы поля брани, замкнуло его в кольцо нестройного громогласного «ХА – Р-РХ-Х!», заглушив стоны умирающих. После все как один рухнули перед ним на колени. Судя по наконец открывшемуся над их спинами пейзажу, это было очень, очень далеко от родного Подгорья.
Глава 12 Испытание. Дух
– Поступающие могут по своему разумению использовать весь набор лекарских принадлежностей, который найдут в верхнем ящике стола.
Мастер Мофф, бессменный глава отделения лекарского дела естественно-научного факультета, не изменяя старой привычке, обращался к созреванцам в третьем лице. Надтреснутая хрипотца, сухое покашливание (якобы для смыслового разделения фраз) выдавали почтенный возраст мастера. Однако сопоставление голоса с внешностью его обладателя повергало в недоумение: облик ученого не имел ничего общего с этим старческим дребезжанием. Плотный шелк кимоно цвета сливок спускался с плеч строгими вертикальными линиями, подчеркивая идеальную осанку. Густота серо-бежевых волос была отчасти скрадена прической – низким хвостом, перехваченным черной ленточкой и доходящим до лопаток. Морщины не пролегали уродливыми бороздами, говорящими о бессилии науки над временем. Нет, узкому светлокожему лицу с высоким лбом и скулами дорожки морщин лишь придавали благородства. Тонкие лучи в уголках глаз казались предусмотренными самой природой линиями, с рождения прочерченными на коже ученого. Что до светло-сиреневых глаз, глубина и особое выражение их взгляда безошибочно указывали на тесную связь Моффа с лекарским делом – пожалуй, самым осознанным ремеслом (истинные лекари на Вига упорно отказываются именовать его искусством), требующим сострадания и твердости, жертвенности и хладнокровия, философской мудрости и аптекарской точности. И если в этом ремесле, как любят говаривать на Вига, нет случайных лиц, то мастер Мофф был, пожалуй, самым неслучайным из них. Чего стоит одна его легендарная родословная, со времен седой старины состоящая сплошь из талантливых лекарей.
Неторопливая жестикуляция Моффа сообщила эту мысль Илари, которая, не замешкавшись при входе в аудиторию, успела занять ближайший к преподавательскому кругу стол. Взмах широкого бежевого рукава – и открывшийся участок руки мастера сверкнул серебряным узором. Перед глазами Илари в тот же миг стройными рядами выстроилась вся плеяда заслуженных лекарей Вига, опыт, знания и секреты которой вобрал в себя этот пожилой, но прекрасно сохранившийся ученый. Теперь не только он сам, но и все поколения его благородных пращуров строго взирали на нее – дочь «государственного изменника», ютившуюся с обезумевшей матерью за чертой блестящего Нуа. Возомнившей себя если не прирожденным лекарем, то по меньшей мере сестрой милосердия. «А есть ли в тебе это милосердие, самозванка? – будто хором вопрошали они. – С чего ты взяла, что достойна стать одной из нас?»
Илари, на всякий случай поправив длинные рукава платья (в который раз за этот день!), оглянулась по сторонам. И вмиг почувствовала себя ничтожно маленькой. Еще более беззащитной, чем когда пробиралась в поздний час к их с матерью хижине, затерянной на краю неблагополучного Зачерновичья. Да что там – такое напряжение (Илари отказывалась признать это чувство испугом) ни разу не нависало над ней даже теми темными ночами, когда приходилось засыпать одной. Когда Наида не являлась ночевать домой, чтобы уберечь дочь от зловещего танца теней, что отбрасывал на стены бурый лес непроходимых водорослей.
Дело в том, что Илари ни разу в жизни не оказывалась в таких огромных помещениях. Архитектурная стройность и симметрия буквально давили на голову, внушали безотчетное благоговение и заставляли девушку усомниться в собственных достоинствах, да и вообще в уместности нахождения в этих стенах.
Засомневаешься тут, когда вместо тесной рабочей каморки Черновика окажешься вдруг под высоченным куполом главной аудитории лекарского отделения, занимающей внушительную часть фиолетовой стеклянной башни Университета! Задерешь голову так, что шею аж заломит, а потолок так и не увидишь: стекло хоть и толстое, но просвечивает не хуже прозрачной фицци. Вот и убегают витые изогнутые колонны будто бы в никуда, притворяясь, что вовсе не служат для поддержки конструкции здания. Этого мало, подножие снежно-белых колонн разверзается внизу обширным амфитеатром, позволяя мягким подводным лучам свободно играть в открывающемся пространстве. На широких полукольцах амфитеатра стройными рядами расставлены высокие столы с выдвижными ящиками. Скамьи сегодня отсутствуют, ведь записывать будет нечего. От будущих студентов-лекарей на вступительном испытании ждут иного.
Каждому из них предстоит вылечить живое существо. На глазах именитых представителей лекарского мастерства.
Илари ощутила, как дно Вигари предательски уходит из-под ног, когда неожиданные условия испытания равнодушными скрипучими фразами вылетели из уст Моффа.
В эти слова вместилась вся академическая сухость мастера, сдобренная многолетним участием в университетской рутине. И ежегодный прием новой порции созреванцев в цитадель наук был, пожалуй, наиболее утомительным делом для пожилого мэтра. Не раз он в редкие минуты откровений с коллегами признавался, что раздражен «поисками юных умов, идущих по зову призвания». И заодно выражал нетерпимость относительно тех молодых вига, что являлись на испытания не по собственной воле, а по наущению недальновидных родителей. И особенно сурово высказывался о тех, кто смел притащиться неведомо откуда, пытаясь скрывать свою бесславную родословную. «Лоб готовы расшибить, лишь бы прорваться в мир науки и воспарить над нищетой», – так обычно отзывался о них мастер.
И, увы, неповинны в том ни старческая сварливость, ни аристократическая претенциозность.
Много – слишком много – повидал Мофф на своем веку. В том числе печальные, непоправимые последствия лекарской практики тех, кто занимался ею без призвания. Ибо, сколь высоким ни был барьер вступительных испытаний, они всегда имели одинаковый исход: каждый светооборот ряды новоприбывших студентов-лекарей пестрели такими вот «паршивыми овцами».
Большинство преподавателей – хоть, к примеру, сидящий по правую руку Моффа моложавый магистр Эсопп – в целом смирились с этой неизбежной погрешностью и отказались от излишнего перфекционизма. Дошли до того, что, по словам самого Эсоппа, «сумели усмотреть в этой категории обучающихся зачатки оригинального лекарского мышления».
Вторивший и где-то подражающий Эсоппу магистр Гифу на одном из кафедральных советов присовокупил, что-де новой задачей факультета видится ему активное развитие такого мышления. Все это, очевидно, оттого, что сам Гифу во времена молодости не слишком прислушивался к шепоту призвания и знатно потрепал нервы своим наставникам и родителям, стабильно раз в светооборот перебегая с факультета тонких материй на естественно-научный. Оправдывают ли его два свитка с золотой печатью отличия от обоих факультетов, ставшие итогом этих метаний? А может, чернильные знаки научных званий и на безымянном пальце, и на мизинце, которые он с тех пор как бы ненароком старался держать на уровне глаз консервативного Моффа? Тот, хоть и добрюзжался аж до мастера, тем не менее отмечен скромнее – темно-синие знаки коснулись лишь одного его пальца.
Результат, как говорится, налицо. Все дискуссии о неоднозначной научной карьере Гифу разлетелись в мелкие щепки, натолкнувшись на неопровержимые доказательства его успеха. Пять соединенных между собой точек на мизинце гордо указывали на филигранное владение искусством защиты от одержимостей; перечеркнутый треугольник на безымянном персте говорил о неоспоримых достижениях в искусстве анальгезии, об умении унять даже самую острую физическую боль. К чести магистра Гифу, он действительно умудрялся сочетать в себе эту противоречивую, не дающую покоя тягу к двум искусствам одновременно. И, стоит заметить, немало преуспел на обоих поприщах, виртуозно совмещая научные изыскания с наставничеством и участием в жизни Университета. «Живой пример победы над закоснелостью предрассудков», – так с определенного момента принялись отзываться о Гифу коллеги. Мофф же со своей категоричной позицией остался в меньшинстве.
И все бы ничего. Но беда заключалась в том, что далеко не все студенты с раздвоенным призванием в конечном итоге становились такими Гифу или Офлианами.
Мастер Мофф с тревогой оглядывал лица претендентов на чернильные знаки за успехи в лекарском ремесле. Со стороны казалось, что он производит строгий досмотр на предмет шпаргалок и вырванных книжных страниц, запрятанных в рукава или искусники еще знают куда.
Какая глупость! Это было последним, что заботило опытного мастера в те волнующие минуты перед экзаменом. Как же быстро таяли суетливые мгновения… Удастся ли чутью мастера, натренированному годами практики, и на сей раз отделить зерна от плевел? Сколько «раздвоенных» и «искаженных» соискателей стоят сейчас перед ним, опираясь на белоснежные столешницы? Кому вновь суждено проскочить мимо прицела испытания? Мофф, как бы в подтверждение внутренней мобилизации, еще туже затянул широкий пояс своего халата-кимоно, встретившись пальцами с тонким узором его набивной вышивки и по привычке погладив его. Причудливая ассоциативная цепочка навеяла мысль об объемных изгибах головного мозга в заспиртованных колбах Лабораториума. Мастер удивленно хмыкнул себе под нос: хоть что-то. Изворотливый разум зацепился за эту залетную мыслишку и отвлек нехитрым трюком безжалостную память. Никуда старому Моффу не укрыться от ее всевидящего ока.
Да, он помнит все неисправимые, непростительные ошибки, которые допускали его подопечные, помнит и то, как стояли они, беспомощно разводя руками с окровавленным инструментом, над телами своих пациентов. Обычно подобный жест приходился на тот черный миг, когда из спинных плавников больного уже прекращали виться слабые струйки кислородных пузырьков, но родные почившего еще не осознавали, что же произошло.
При любых обстоятельствах Мофф неизменно брал ошибку выпускника на себя. И все эти профессиональные грехи преследовали мастера по ночам, а сны все больше походили на удавшийся спиритический сеанс. Ибо все те ошибки до единой, взявшись за мертвенно-белые руки, водили колдовской хоровод вокруг его ложа. Иногда они тихо смеялись над ним, тыкая прозрачными перстами в его чернильный знак.
Мастеру очень не хотелось, чтобы этот хоровод ширился.
Илари взялась за прохладный металл квадратной ручки ящика и осторожно – как бы чего раньше времени не испортить! – отперла его. К слову, сам стол был, на вкус Илари, очень красив. Роль столешницы играл цельный спил снежного корня33, накрепко прикрученный к тяжелому кованому основанию, в котором друг под другом вмещались три неглубоких ящика. Аккуратно погладив атласную поверхность крышки стола, девушка признала в ней защитное масляное покрытие, схватывающееся на древесине при низких температурах. Его же использовали для рабочих столов в алхимических лабораториях Черновика, дабы защитить столешницы от ядовитых смесей. «Кто бы так же беспокоился о подмастерьях…» – вздохнула про себя Илари, скользнув взглядом по темно-карминным следам, которыми были усеяны ее руки. Отметины на память о жгучих поцелуях ядов и полуядов, от которых не всегда спасали самодельные перчатки из кожи рыбы-щелкуна.
На фоне снежно-белой столешницы, плетущей клубок годичных колец под льдистой масляной корочкой, эти руки выглядели еще более изувеченными…
«Нет, так не пойдет! – мысленно одернула себя Илари, убрав левую кисть от заносчивой белизны снежного корня. – Лекарь имеет право на некрасивые руки! – вложила она в эту мысль все имевшееся в ней достоинство. – И алхимик – тоже! И зодчий!» Уверенность постепенно восстанавливала свои позиции, стремясь подавить ростки смущения и стыда.
Бедное дитя! Она думала, что все дело в этих отметинах…
Ржжрржрж-ж-ж. Проскрипев железом по железу, навстречу Илари выкатился круглый ящик с низкими бортиками, больше напоминающий массивный серо-коричневый поднос с шероховатым дном. Оно неплохо магнитилось. Девушка с удивлением обнаружила это, когда попыталась взяться за один из стеклянных пузырьков, чтобы разобрать надпись на его этикетке. Как это понимать?! Бутылочка, на которую нацелилась Илари, принялась сопротивляться, не желая расставаться с «насиженным» местом в родном ящике, и что было сил цеплялась за зернистое дно. Естественно, для Илари это было не наглядным примером действия магнитного поля «подноса», а проявлением откровенного недружелюбия.



