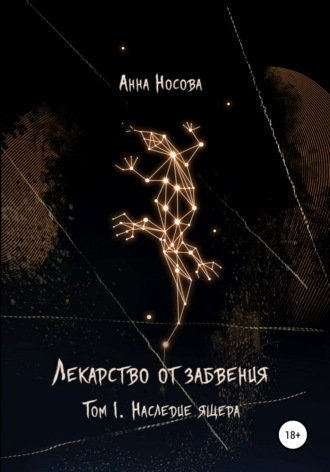
Анна Владимировна Носова
Лекарство от забвения. Том 1. Наследие Ящера
От стен пошел глухой утробный гул. Трещины глубоко врезались в их глиняную плоть, из них водопадными струйками засочился сухой белесый песок. К треску дружного горения примешался незнакомый уху скрежет.
И впервые за ту страшную ночь разума Бехима коснулась мысль: все кончено.
«Ты!..» Леденящее жжение от горящего хитона и кровоточащие раны обратили его в исступленного зверя. Загнанного в угол, но продолжающего скалиться и рычать. «Это ты лишил меня сына! Ты искусил его баснями о воинской доблести и священной ярости хархи! Ты напустил дурмана на его голову и увел от родного дома! Будто мало тебе других воинов! Что, они плохо прославляют твой хищный образ? Плохо служат?! Зачем тебе понадобился мой сын – отпрыск простого землепашца? Что он сможет сделать для тебя?!»
В общем гуле и треске вдруг раздался оглушительный хлопок, прервавший отчаянное святотатство Бехима: стена ровнехонько позади землепашца сдалась первой. Ей суждено было рухнуть и остаться погребенной под тем, что еще недавно составляло маленький мир Бехима и его семьи. Судя по тому, как истекали песком и угрожающе подрагивали другие стены, их ожидала та же участь.
Двигаться Бехим уже не мог – так и замер на полпути к лестнице, охваченный пламенем и окончательно помутившийся рассудком. Он оставил попытки спасти жену с Нерожденным и себя самого. Не потому, что смирился. Не с тем, чтобы снискать милосердие богов, вверив свою судьбу их «щедрой длани». И не потому, что сдался.
Он действительно не мог больше сделать ни шага. На то он и простой смертный – уязвимый, хрупкий, как любой житель Харх, будь он воином или землепашцем.
Бехим лишился сознания на пепелище собственного очага под грохот рассыпающихся родных стен, намертво вцепившись в последнюю свою мысль:
«Я отрекаюсь от тебя, мстительный, ненасытный бог! Ты отнял у меня все! Твои огненные приспешники пожрали все, что было мне дорого, а тех, кого оставили в живых, – обрекли на полную лишений жизнь!»
В глазах землепашца потемнело, усилия разума сошли на нет, уступив беспамятству. Вместо клубов дыма и россыпи искр Бехим видел обращенное к нему Огненное око. Оно застилало весь небосвод своим слепящим полыханием и, казалось, готово было испепелить мир. Бехим словно ждал этого. Он подставил лицо дыханию дьявольского жара и взревел: «Я закладываю собственную душу во имя того, что я тебе более не подданный! Я не отдам тебе младшего сына, моего Умма-сорванца! Если он и вздумает служить тебе – не принесет тебе это ни славы, ни почета! Не воспоет он деяниями своими твое мнимое величие! Я ухожу и посылаю ему свое родительское прощение за побег из отчего дома. Но вместе с прощением я заклинаю своего сына не сгибать колена ни пред твоим взором, ни пред твоими жреческими прихлебателями! Ибо сущность твоя жестока и уродлива – рано или поздно узрит он это, и тогда я вздохну спокойно, в какой из миров ты бы меня не отправил! Делай со мной что хочешь, огненный кровопийца! Мидра, Умм, Заккир, Дамра, Нерожденный, простите меня!»
Одна Матерь звезд ведает, где витала душа Бехима, пока подоспевшие соседи не уняли пламя и не извлекли его почти бездыханное тело из груды углей, головешек и обломков почерневшей глины.
Извлекли они и Мидру.
Вернее, то, что осталось от нее и Нерожденного после «огненной жатвы»… И если жене Бехима хоть в чем-то повезло в ту роковую ночь, так это в том, что ее сознание быстро погасил поднявшийся снизу дым. Он же в конечном счете избавил несчастную от жестоких страданий.
«Потому, – повторял спустя время Бехим своим сочувствующим собутыльникам, – она, сердешная, и не кричала вовсе…»
Землепашец разлепил красные глаза, покосился на лежащее рядом обугленное тело Мидры, уже накрытое грубой лыковой рогожей, и тупо на него уставился, не в силах связать увиденное с тем, что случилось с его женой. Отмахнулся от склонившейся над ним знахарки, вызванной по такому случаю с самой околицы Овиона, и чуть не выбил из ее сморщенных рук плошку какой-то густой вонючей мази. Слух к нему еще не вернулся, и, может, оно к лучшему: соседские увещевания не вызывали раздражения.
Слез не было.
Они были выплаканы там, в горниле гнева «мстительного» бога, и больше никогда к Бехиму не возвращались, поэтому он, не принятый в мир иной, вынужденный заново впрячься в ярмо судьбы, не мог рассчитывать даже на это облегчение…
Не заплакал и, что уж там, даже не поморщился Бехим-землепашец и тогда, когда настало время встретиться с младшеньким. Пусть и незримо. Пусть вовсе не так, как он представлял себе все те долгие звездные обороты, что сменялись безликими фигурами над его хмельной головой…
Самообладание изменчиво. Оно оставило Умма, как только отец выломал амбарную дверь, ворвался в укрытие Дамры и потянулся обожженными ручищами к ней и новорожденному. Потянулся явно не для того, чтобы обнять. Тронувшийся умом отец имел иную цель: придушить обоих. И еще одну, затаенную. Та цель ждала своего часа, вскипая яростью в помутненном рассудке.
«Горидукх. Свадьба. Ужо повеселюсь я на свадьбе твоего милого, Дамра!»
Умм этого не знал. Ему было достаточно, что сестра и племянник – в смертельной опасности. Пока входная дверь сотрясалась от тяжелых ударов, юноша отчаянно надеялся на силу молитвы и ритуального знака. На что еще мог сгодиться он, сторонний наблюдатель, заброшенный в родной амбар, словно в дурной сон, волей нездешней жрицы-чернокнижницы?
Все изменилось в тот самый миг, когда в чулане материализовался отец. Вернее, какой-то жестокий и страшный хархи, лишь отдаленно похожий на Уммова отца. Тогда юноша осознал: прямо сейчас (если только Йанги не дразнится и все это происходит на самом деле) вот-вот свершится непоправимое. Ничего уже нельзя будет вернуть, переделать, переписать заново. Фатальная угроза зловеще маячила на горизонте черным флагом. Именно она заставила молодого стражника, презрев беспомощность, пересмотреть границы своей власти. Границы воображаемого и реального, сна и яви, осязаемого и незримого. «Их, видно, никогда и не существовало, коли такие дела творятся под сенью Матери звезд…»
Движением, полным осторожности и опаски, юноша скользнул правой рукой за голенище своего сапога. Полностью осознавая собственную невидимость, он все же предпочел снизить риск быть замеченным. Умму вовсе не хотелось, чтобы его наспех сложенный план рассыпался карточным домиком.
Руки коснулась отрезвляющая прохлада стали. Большой палец аккуратно прошелся по лезвию: привычка, над коей не властно ни место, ни время. «Не зря с Дримгуром навестили точильню перед всей этой бесовщиной, – с готовностью отозвался разум. – Как знали, что добром эти шашни с Нездешней не кончатся!»
То было лишь минутное промедление – непозволительная роскошь в ситуации, когда нужно действовать быстро и решительно.
Отец двумя пальцами, словно новорожденного щенка, схватил младенца за слабенькую шею с засохшим белым налетом и кровяными пятнами, а второй рукой уже примерял удар. Умм понял, что Бехим намерен свершить свое «правосудие» одним точным, смертельным движением. Отец тяжело дышал, собираясь с силами. Было заметно, что для него все это – не что иное как горькая обязанность. В его взгляде не читалась месть. Скорее, долг, от тяжкого ярма которого он вот-вот избавится. «Что или кто управляет им?.. Как он дошел до этого?» – ужаснулся Умм.
Наконец отец умолк. Череда бессвязных ругательств, которыми он сопровождал удары в дверь, иссякла, как только он ворвался внутрь. Дамра, на удивление, тоже не издавала больше ни звука. «Она что же, лишилась чувств? Немудрено!..» Кричал только новорожденный – кричал, приветствуя огненный остров Харх и возвещая богов о своем появлении.
«Дитя Ящера… – словно молитву, оправдывающую его дальнейшие действия, твердил про себя Умм, замахиваясь своим острым ножом. – Наш небесный Ящер – мертв. Он сдался, пал пред лицом наползающего с востока Скарабея…»
Умм, так же как и отец, изо всех сил старался свершить задуманное одним ударом. Один меткий, точный, глубокий удар в сердце. Чтобы наверняка. Чтобы не мучился.
Чтобы уже не проснулся…
Отец же, как на грех, держал новорожденного у самого сердца: не подступиться. Он медлил, разглядывал младенца, крутил его перед собой, точно кошка пойманного мышонка. У самого сердца… Может, одумается?..
Нет, уповать на пробудившиеся светлые чувства не приходилось. Если у отца и были какие-то сомнения, то они, очевидно, улеглись. Канули на дно его искалеченной души и больше не мешали творить темный замысел, неизвестно как родившийся в его голове. Секундное промедление – и невинная кровь зальет пыльный амбарный пол…
Что поделаешь! Значит, нужно целиться не в сердце, ведь так можно и в новорожденного попасть… Прости, отец! Значит, так суждено…
«Наш звездный Ящер сдался. Но не ты! Ты будешь жить!»
Сам не веря в то, что делает, Умм вложил все силы в первый удар: он пришелся аккурат в отцово плечо. Бил он не на авось, не наугад – так, словно полноценно присутствовал в амбаре. Делал все в точности, как многократно отрабатывал на учениях и тренировках: равномерный перенос тяжести от плеча в локоть и дальше – в запястье точным, выверенным движением. «И крученым резким махом извлечь меч из тела противника…» – подсказывала память.
Только никто не предупреждал, что будет стоять такой омерзительный хруст и что сила, вложенная в «резкий мах» вернется ватной слабостью, растекающейся от локтевого сгиба прямо в побелевшие пальцы!.. И что потом к горлу подступит такая невыносимая тошнота, а горизонт пьяно запляшет перед мутнеющими глазами…
«Получилось…» Умм настолько ослабел, что у него попросту не осталось сил на удивление. «Да! Ты будешь жить, дитя Ящера!..»
К пляшущему горизонту примешались частые вспышки ярко-кровавого цвета: то ли шок, то ли брызнувшая во все стороны кровь отца, то ли очередное лиходейство Йанги… Умм старался об этом не думать. Он почувствовал, как чулан и все, кто в нем находился, медленно уплывают. Картинки стали растворяться, теряя четкость контуров, путая свои краски и текстуры. Все словно отдалилось, уменьшилось в несколько раз. Тошнота и потрясение проходили по мере того, как редела темнота чулана и становились едва различимыми фигуры – так, словно вязкий плен ночного кошмара постепенно уступал права утренней заре. Не ее ли отблески отражались в пурпурных вспышках, пульсировавших в краешках глаз?.. Облегчения, однако, это не приносило. Куда там! Умм, силясь ухватиться за невидимые нити, изо всех сил старался не отпускать свое видение – каким ужасающим и леденящим оно бы ни было. Нужно непременно убедиться, что дело сделано. Пришла ли в себя сестра? Выжило ли дитя Ящера после мертвой хватки своего деда? Стал ли удар Умма смертельным?
Или, может, он вложил в него недостаточно сил – недостаточно, чтобы предстать перед Огненным в новом амплуа отцеубийцы?..
Амбар превратился в едва различимую точку на темной карте Вселенной. Умму казалось, что эта точка застыла где-то в середине зрачка полузакрытого глаза мертвого Ящера, мерцавшего дымчато-белыми бисеринами на небесном холсте. А оставшиеся без ответа вопросы назойливо кружили и кружили стаей огромных черных воронов над головой Умма. Все расплывалось и хаотично вибрировало. Хотя и не настолько, чтобы от юноши ускользнула очередная диковина.
Крылья воронов. Они – Умм был готов биться об заклад – состояли не из перьев, а размах их был в несколько раз шире, чем у самых крупных птиц. Удлиненные когти чудищ начинались от самого предплечья и заканчивались загнутыми книзу острыми крючьями. На когтях, точно темно-бурые паруса на реях, были натянуты шершавые кожные перепонки. Хлопанье этих мрачных «вееров» порождало воздушные потоки, достойные небольшого смерча. Взмокшая рубаха Умма мгновенно превратилась в ледяной панцирь; волосы развевались. Странные вороны, видать, собрались на пир: в каждом их движении было зловещее предвкушение.
Умм с некоторой оторопью обнаружил, что не испытывает страха перед мракобесными созданиями. Даже если они и явились за ним – что с того? Кой черт себя обманывать: отныне жизнь не будет прежней! Если все увиденное в чулане – правда, то как ему, распоследнему безбожнику, придавленному тяжким камнем вины, теперь разогнуться? До чего он довел семью… Как вышло, что пролитая кровь родного отца стала единственным выходом? Что сталось с матушкой и старшим братом Заккиром? Юноша не ожидал, что его побег и жизненный план обернутся для всех таким невыносимым горем. Что его неуемное честолюбие отразится эхом рыданий на Пепелище… Он-то наивно полагал, что с его исчезновением жизнь семьи продолжит катиться по старой колее – разве что одной спицей в этом колесе станет меньше…
Стая перепончатокрылых воронов продолжала кружить прямо над макушкой Умма. Их стало больше. Юноша задрал голову, прищурился и увидел, что над одним птичьим кругом виднеется другой – чуть меньше в диаметре. А над ним – еще один, и так до самого предела зрения… Ветер усиливался, грозя сбить Умма с ног, норовил вырвать нож из судорожно сжатых пальцев.
Откуда-то – не иначе как с самой верхушки черной спирали – донеслись отголоски приглушенного хриплого карканья:
– Цаа-ааа-аа…
– Йааа-ааа-аа-цццц…
– Йуууу-ууу-уу-ааа-аа!..
Чем ниже спускался по вороньим кругам звук, тем отчетливей делалось зашифрованное в нем послание. И вот оно собралось в единое слово, избавив Умма от необходимости разбирать крикливую головоломку:
– У-У-УБИ-ИЙЦА-А-А!
Интонация была не обвиняющей, а… торжественной. Как и церемониальное кружение страшных птиц.
«Они что, чествуют меня?!»
Умм не понимал, да и не пытался понять, смысл происходящего. Одно он знал: жизнь его воистину не станет прежней. Водораздел судьбы пройден. Дело сделано. Пусть хоть насмерть заклюют, хоть коронуют, хоть подцепят за шкирку – как отец новорожденного – и унесут на свои птичьи берега вершить суд над отцеубийцей!..
Вороны, продолжая выписывать в темном небе немыслимые петли, будто были слишком заняты своим ликованием и теперь уже даже не обращали внимания на изумленного стражника. Кажется, и карканье «убийца!» стало тише, птичий хор утратил былую стройность. Неужто чудовища потеряли к нему, Умму, интерес?
Схожая атмосфера, подумалось Умму, царила в Святилище на главные праздники цикла. Очень знакомое чувство – когда прихожане объединялись в религиозном порыве, позабыв обо всем преходящем, готовые принять благословление богов или верховной жрицы…
До чего же поразительна схожесть религиозного экстаза хархи с поведением этих дьявольских воронов: их единение, синхронность движений, горящие нетерпением расширенные зрачки… Ну каково, а?!
Новые раскаты карканья достигли слуха Умма. Теперь эти твари хрипели там – в беспросветно-темном небе – о чем-то своем, недоступном Умму. Они торжествовали и громко славили кого-то. И, похоже, на каком-то ином языке.
Все, что успел юноша выхватить из потока иноземной речи, низвергавшегося из длинных щелкающих клювов, было:
– Жатттвваа-аа-ййааа-ааа! Будет огненная священная жатва!
Их восторг проникал в грудную клетку Умма, бился в ней чужими токами, выхлестывал все его собственные ощущения и мысли. Он настойчиво звал присоединиться к вороньей спирали, почувствовать мощь их крыльев, власть над воздухом и ветром.
Власть над всем Харх.
И много больше.
Сил сопротивляться не осталось: Умм покорился, выпустил нож, вдыхая все глубже и глубже восторг, которым поила его стая чудовищ. Он жадно пил его, пока не замутило от этого незнакомого эликсира.
…Идея с отказом от завтрака не помогла избежать позора, которого так опасался Умм. Едва он открыл глаза в той самой «каморке» под куполом Святилища, его тотчас же вывернуло самым что ни на есть постыдным образом.
Вот теперь он и ощутил себя в полной мере пустым – во всех смыслах этого слова…
Глава 17 Предания Севера
«О великая Матерь звезд, божественное светило, дарующее свет, жизнь и надежду всем благочестивым хархи! Склоняю колени в беззаветном смирении пред твоим сияющим ликом и покорно принимаю избранную тобою для меня судьбу: счастливую или горестную, в изобилии или в нужде, легкую или тяжкую. Ибо верую: все замыслы твои есть благо, будь они хоть троекратно обернуты страданием тела и духа. С благодарностью и низким поклоном открыто внимаю твоим посланиям и, сколь позволено мне, вплетаю их в мысли и сны свои, дабы хоть на шаг быть ближе к тебе. Тем славлю я твой священный образ на грешной огненной земле Харх. Тем являю я бледную тень сути твоей. Тем творю я свое предназначение под звездами, сыновьями твоими».
Одинокая фигура, стоящая на коленях в дремотном полумраке молельни, была до того бездвижна, что со стороны казалась скульптурой. Меж тем рядом не было ни души, чтобы разделить подобную ассоциацию. Этого и не требовалось. Уединение – лучший компаньон для бесед с богами, что бы там на этот счет ни думала себе Йанги.
Окайра резко одернула себя. Ну вот опять! Куда это годится? В который раз за последнее время она позволяет непрошеным мыслям – и каким мыслям! – вторгаться в ее молитвы.
«Не взваливай тяготы осуждения других на свои плечи, – обратившись к строкам Семи наставлений, напомнила она себе. – Ибо ноша эта под силу лишь богам». Что ж, королева и не хотела осуждать: кто, в конце концов, она такая?.. Она только вспомнила… Да-да, именно всего лишь вызвала в памяти эту специфическую черту верховной жрицы острова. А что? Вполне имеет на это право!.. Ведь собирать многочисленную пеструю толпу, помпезно и театрально обставлять свои проповеди и обращения – это ведь действительно в духе Йанги! А уж эти разгульные празднества… «Каждый раз как в последний!..» – сокрушалась бывало королева, созерцая, как по любому религиозному поводу все Подгорье превращалось в одно большое гульбище. Утешало лишь одно: за грань – хотя, поди теперь уж разбери, где она! – никто пока вроде бы не выходил. Все обряды и торжества совершались согласно древним обычаям. И островные традиции – не поспоришь! – блюлись самым тщательным образом. И, кажется, все творилось исключительно в угоду богам, а значит, на благо простых смертных…
Однако как ни пыталась Окайра договориться сама с собой и унять бурлящее в душе недовольство – все ее попытки терпели неудачу. Безусловно, она никогда не забывалась в своем возмущении, памятуя, что осуждение есть прерогатива богов. Королеве и в голову не приходило оспаривать эту первоистину. Но спокойно смотреть, как священные дни и ночи праздников, ниспосланные Огненным в знак его милосердия и любви, превращаются в вереницу бесчинств…
Это уже было выше ее сил.
До Окайры не раз доходила молва о случаях откровенной жестокости, которыми венчались разлихие праздничные гуляния. А это новое поветрие – оргии!.. Как прикажете это понимать?! Королеву изрядно смутило такое вот воплощение духовно-телесного торжества, когда эдак семь звездных оборотов назад, в начале весны, на Древо праотцев, гонцы с южных земель известили о них Каффа. Окайра хорошо помнила тот прием: и их живописание открытых прелюбодеяний, и усмешки советников, и отчего-то блеснувшие странной искрой глаза короля. Она тогда мысленно ужаснулась, но не нашла в себе мужества возразить. Ибо, во-первых, сам король, по-отечески пошутив над «горячей южной кровью» и их религиозном усердием, беспечно махнул на новости рукой. А во-вторых, в то утро, еще до совета, передал ей с мальчиком-слугой изящную шкатулку из слоновой кости. Откинув круглую резную крышечку, королева обомлела от изумления: внутри одновременно золотистым и жемчужным цветом мягко переливалось драгоценное масло дерева мрахба. Вкрапления золотого и серебряного порошка – а чем еще могли быть эти сияющие пылинки? – превратили и без того баснословно дорогое масло в самую роскошную на всем Харх притирку для тела. Стоит закрыть глаза – и чувствуешь ее аромат: тысячи лепестков медовой розы, настоянные на мускусе высшего качества. Нежные лепестки и грубая кожа. Ничего лишнего. Что ж, с языком природных и ароматических символов Окайра была знакома не понаслышке: у выходцев с Севера он издревле был в почете, а королева гордилась своими корнями и родословной.
«Я, подлинный король Кафф, твой законный супруг, желаю посетить тебя грядущей ночью», – вот какое послание принесла в себе шкатулка. Аромат взял на себя работу пера и бумаги – атрибутов, давно канувших в Лету.
Затрепетавшая тогда в груди радость теперь вспоминалась с толикой застарелой горечи, отравлявшей тот, казалось бы, приятный эпизод.
Кафф тогда не пришел.
Как и не приходил много ночей до. Разница была лишь в том, что «до» он, по крайней мере, не позволял себе такие жестокие шутки и не втягивал Окайру в свои бессердечные игры.
Но так или иначе, горячая ванна и мыло с мочалом начисто – до скрипа – отскоблили сияющее драгоценное масло с ее тела. Вместе с его сладострастным ароматом и пустыми надеждами. Урок был усвоен. И не следует о нем забывать – ни в минуты искушения, ни в моменты отчаяния. Отныне в сердце Окайры осталось место лишь для любви религиозной и материнской.
Она так и не узнала, что ненавистное масло дерева мрахба было доставлено гонцами с тех самых «варварских» южных земель якобы от властвовавшего в тех краях королевского наместника Ахриба Медного Черепа. На свое счастье, Окайра нанесла его не на все тело, а только на пять секретных точек – опять же дань врожденной бережливости и северным традициям любовного искусства.
Каково было бы ее удивление, если бы ей сообщили, что переливающиеся звездным светом пылинки были вовсе не крупинками золота…
Королева провела еще несколько очень далеких от молельни мгновений. Отсутствующее выражение лица, взгляд в никуда… Так что же прервало ее вступление к молитве? Опять…
«Прочь! – Окайра едва не сорвалась на крик. – Прочь вы, мысли и никчемные воспоминания! Я не позволю вам вмешиваться в таинство моих бесед с Матерью звезд!..» Королева зажмурила глаза, словно пытаясь стереть из памяти все то, что препятствовало молитве. И, обращаясь уже к кому-то другому, добавила: «Я и так заплатила немалую цену за рождение Бадирта. И продолжаю расплачиваться по сей день…»
На глазах выступили слезы – свидетельство глубокой, но уже ставшей привычной горечи. Раны, что со временем рубцуются, но никогда не позволяют забыть о себе. Даже легчайший отголосок этой горечи может в любой момент возродить боль – и довести до исступления…
Окайра обреченно продолжала: «Думаешь, что я ничего не замечаю? Что меня может отвлечь вся эта мишура с возведением «святой королевы Окайры» в ранг живых божеств Харх? Может, кого-то это и потешило бы, а другому сошло бы за достойное утешение… Но не для меня!» Королева, безмолвно роняя слезы, спрятала лицо в своих узких ладонях. «Это… О Матерь звезд, да это ведь такое же святотатство, как ее разнузданные гульбища по всему Харх во время сакральных празднеств наших предков. Эта зараза уже отравила умы южан: народное прославление богов из священного обряда превратилось у них в акт грехопадения! И это безобразие не только не пресекается, а наоборот – ставится в пример!»
Окайра обмерла от беспощадной правды собственного вывода. В правде этой не оставалось места сомнениям. Недавняя проповедь Йанги в преддверии Горидукха была пронизана витиеватыми намеками на способы воспевания Огненного бога и «задабривания» Скарабея. Окайру, вместе с жителями Подгорья слушавшую жреческую речь, привели в недоумение фразы о «спаянности духа в единении тел», об «утешительном сладостном экстазе на пороге лишений Скарабея».
Правда истинная сказана в Наставлениях: всю соль бытия могут извлечь на поверхность откровенные беседы с Матерью звезд! Что ж, теперь королеве и впрямь открылась «соль» двусмысленной проповеди Йанги. Она, верховная жрица огненной земли, почти в открытую призывала население Подгорья восславить богов, следуя примеру южан! «Все это может и вправду случиться, – в отчаянии думала королева, – и тогда это увидят мои дети… А что хуже всего – Пастухи миров». Склонность к фольклорным образам вновь выдавала в Окайре ее происхождение. Кровь, как известно, не водица: она была дочерью ныне покойного королевского наместника на севере Харх, и прожив вдали от дома немало звездных оборотов, никогда об этом не забывала. Верность духовной философии земляков нисколько не приуменьшала ее истовую религиозность в общепринятом на Харх смысле. Напротив, разум Окайры довольно быстро выучился ловко сплетать исконно северное суеверие с почитанием канонов жречества.
Жаль только, что каноны эти в последнее время слишком уж расширили свои нравственные границы…
Молитва прервалась. Окайра не успела даже закончить вступление, призванное обратить внимание Матери звезд на отчаянно взывавшую к ней душу. Глубинный порыв – обязательное условие при обращении к высшим силам, – подобно высохшему роднику, иссяк. Вместе с ним исчезла и окрыленность, охватившая было монархиню в возвышенной обстановке молельни замка-горы. Только-только, казалось бы, снизошло на нее облегчение после тяжелого дня, обернувшегося и размолвкой с сыном, и обмороком, и зловещими видениями…
Говоря по правде, самым удручающим в этом дне были не принесенные им злоключения, а ясное до прозрачности понимание: она это заслужила.
А ведь вечер так хорошо начинался!..
В молельне веяло спокойствием и умиротворением: тихо горели свечи, на каменном полу были разложены подушки из малинового шелка (Окайра собственноручно расшила их плотной золоченой нитью), а с невысокого постамента взирала высеченная из черного мрамора Матерь звезд. Она была здесь не просто образцом скульптурного мастерства – весьма, надо признать, искусного, – а кое-чем гораздо большим. Изваяние, созданное лучшими мастерами Подгорья с учетом рисунков и пожеланий королевы, являлось отражением личных представлений Окайры об облике божества. И эта скульптура, пожалуй, лучше всех могла бы поведать о мировоззрении монархини. Да, именно эта безъязыкая мраморная фигура, «хозяйка» личной молельни королевы. На самом деле изначально предполагалось, что Матерь звезд займет почетное место в Святилище, украсив собой верхний ярус малого женского алтаря – у самого входа. Так задумывалось самой Окайрой. Да и Йанги определенно не имела ничего против «авторского» воплощения Матери звезд в камне: все рисунки и эскизы королевы были одобрены и не претерпели ни единой поправки от жреческой руки. Окайра радовалась. А что, у нее, вопреки высокому положению, не так уж часто возникали личные пожелания и прихоти!.. И это еще до появления на свет Бадирта. А уж после… Королева была неглупа и прекрасно понимала: «золотая рыбка», выполняющая желания, по ее душу больше не явится. Вот она и не взывала к ней понапрасну: что толку тешить себя сияющими побрякушками, платьями из вошедшей в моду цельнозолотной ткани да вычурной религиозной атрибутикой?.. Ничего из этого Окайра на себя даже не примеряла. И дело было не только в благочестивой скромности, которая повсюду сопровождала королеву невидимым ореолом. Главная причина – и о ней не догадывалась ни единая душа – была совершенно иной.
И простой, и мудреной одновременно.
Подлинная королева огненного острова Харх, супруга короля Каффа и дочь бывшего наместника Севера была глубоко убеждена, что недостойна того, что по праву предназначалось ей. Воздержанность, столь несвойственная женской натуре, была для Окайры искуплением. Возможно, она пыталась таким образом выровнять чаши духовных весов? Если отказывать себе в мирских соблазнах, закрыв глаза на все привилегии опалового венца, и стать живым образцом скромности, то это хоть немного утяжелит чашу добродетели Окайры перед лицом богов?.. Эти вопросы постоянно вторгались в ее мысли, сны и молитвы.
С такой регулярностью, что уже стали ее частью. Окайра просыпалась, принимала пищу, молилась, общалась с подданными и обнимала своих детей, окруженная стаей незримых вопрошающих воронов. И когда они начинали клевать, королева не жаловалась и не роптала на судьбу.
Она знала – за что.
И тут – впервые за долгое время – жене Каффа захотелось чего-то для себя. Казалось бы, всего лишь скульптура, или, вернее сказать, бюст, Матери звезд.
Окайра желала изготовить его не в виде традиционного звездного тела – таковых в Святилище и замке-горе имелось великое множество, – а в обличии женщины-хархи. Фантазия весьма смелая, учитывая строгость относительно божественных образов, испокон веков царящую на острове. Как бы то ни было, едва зародившееся желание мгновенно обратилось в мыслеобраз, а уж он – в связанную стопку восковых табличек с набросками. Нет, конечно, Окайра могла просто положиться на мастерство скульпторов. Достаточно ведь было лишь снабдить их подробным устным описанием своего видения, запастись терпением и ждать результата. Именно так обычно и поступали высокопоставленные заказчики предметов искусства. Однако сложность состояла в том, что это был не просто заказ. Королева не могла отдать «свою» Матерь звезд на откуп воображению мастеров. Над нею неотступно властвовало убеждение, что, поступи она так, божество обидится и окончательно отведет от нее свой сияющий взор. Окайра понимала: раз она обрела столь навязчивую идею, то обращаться с ней стоит предельно бережно. И если Матерь звезд осудит ее за немыслимую дерзость, то королева сможет рассчитывать на некоторое смягчение за свою искренность и чистосердечие…
Рассуждая так, монархиня скрупулезно – штрих за штрихом – передала податливому воску буковых табличек все подробности своего представления о лице Матери звезд. Белые, словно меловые, эскизы на глади темного воска красноречиво поведали о том, что, по мнению Окайры, божество обладало чертами лица коренной хархи. Что лицо это не отличалось ни пленительной красотой (в противоположность лицу той же Йанги), ни исключительной одухотворенностью, ни внушающей трепет властностью. Проще говоря, ровным счетом ничего от привычного «народного» образа высших сил, широко распространенного на огненной земле. Причем «широко» – это еще слабо сказано. Спроси хоть старца, хоть несмышленое дитя – и они в один голос ответят, что на табличках изображена самая что ни на есть обычная женщина-хархи. Средних лет, с широким лицом и несколько квадратным подбородком, с плотно сомкнутыми полными губами, узким разрезом полуприкрытых глаз, равномерной разметкой мимических морщин и убранными назад вьющимися волосами. Пальцы рук, грубоватые для женских, сложены треугольником и прижаты к губам.
Вот тебе и вся богиня – ни за что не отличишь от самой заурядной крестьянки.
Тем не менее в ней было кое-что еще. Эскизы об этом умалчивали, но изваяние, по задумке Окайры, должно было как бы выходить из многолучевой звезды – своей небесной ипостаси. И это была не просто дань прихотливой фантазии, а выражение еще одного глубоко сокровенного верования королевы. В переводе с языка ее интуитивно-образного мышления это звучало бы так: «Матерь звезд живет и находит свое воплощение в каждой женщине огненной земли». Из сияющего божественной недосягаемостью небесного тела выходит не всемогущая богиня, а простая смертная. Более того, ее раба! Она, позабыв о себе, о собственных прихотях и капризах, отказавшись от уловок обольщения и кокетства, самозабвенно молится о счастье любимых и близких. Возможно, даже и врагов, тем самым сдерживая их жестокие замыслы – им же во благо. Каждая ее черта, каждая морщинка буквально дышит жертвенностью и смирением перед лицом собственной судьбы. Она одновременно вымаливает лучшей жизни для детей и покорно склоняет голову, принимая любую участь для себя…



