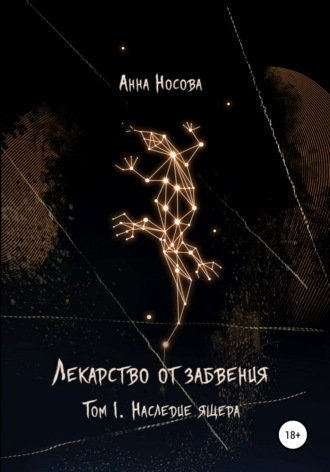
Анна Владимировна Носова
Лекарство от забвения. Том 1. Наследие Ящера
«Вот это мастерство!» – мечтательно отметила королева.
Морок действительно ссыпался поверженными песочными изваяниями, однако полностью развеять темные дары подсознания легкий ветер, увы, был не в силах.
– О матушка! – прервал поток ее мыслей голос Руввы.
Старшая дочь, видимо, приняла просветлевший взгляд матери за готовность к диалогу. Она уже давно сидела здесь, у изножья кровати, не спуская внимательных черных глаз с рук целителя Аннума и его подопечных. Лекарское дело было сферой весьма далекой от понимания Руввы, и, по правде говоря, наблюдаемые манипуляции несли для нее не больше смысла, чем театральная постановка на чужеземном языке.
Ничего удивительного – ведь религиозная стезя, которую она избрала для себя в самом юном возрасте, исключала постижение какого бы то ни было практического мастерства. Опять же, ничего странного и в этом нет, ибо каждый хархи знает, что Огненный бог, при всей его справедливости и милосердии, не станет делить посвященное ему сердце светлой сестры со служебными божествами ремесла. Неизвестно ведь, в какой момент это занятие может перерасти в увлеченность, чтобы потом логически эволюционировать в страсть. Каждая светлая сестра, вставшая на путь самоотречения и долготерпения, призванного привести ее и тех, кого она сочтет достойными, под сень Матери звезд, с момента посвящения более не принадлежит ни самой себе, ни своей семье. И уж тем более такая хархи, вместе с благословением верховной жрицы получившая сан светлой сестры, не позволит себе тратить драгоценное время на постижение ремесел…
Рувва, смиренная и покорная по своей натуре, не имела иных притязаний, кроме тех, что приличествовали представительнице ближайшего окружения верховной жрицы. Ее вера была врожденной чертой – бескомпромиссной и всепоглощающей. Единым мерилом и судьей. В самом лице, в выражении слегка опущенных глаз принцессы Харх проглядывала глубоко осознанная кротость: в ней (в отличие от матери) не было ни намека на подавляемые чувства. Все в облике Руввы указывало на неслучайный выбор судьбы: ее волосы, надежно спрятанные за шафрановой чалмой из муслина, аскетизм ее глухого платья до пят, а также ничем не украшенные руки. Исключение составляло одно простое кольцо на среднем пальце правой руки, из самого обыкновенного железного сплава. Кольцо – подарок верховной жрицы – при всей скромности выглядело крайне необычно, как и положено талисману, в котором внутренняя ценность преобладает над внешней. Какой смысл несли в себе три расположенные друг над другом миниатюрные звезды?.. Это оставалось тайной даже для близких родственников Руввы.
Даже для матери. Правду сказать, Рувва то ли два, то ли три раза порывалась поделиться с Окайрой значением своего символичного украшения… Но всякий раз, уже вот-вот подходя в беседе к этой теме, в самый последний момент принцесса меняла решение и уводила разговор в иное русло. Словно что-то ее останавливало.
Не склонная к излишней эмоциональности, Рувва не бросилась на шею очнувшейся матушки, едва завидев, что та наконец очнулась от глубокого обморока. Странная для семнадцатилетней девушки сдержанность не изменила Рувве даже в столь тревожной ситуации. Это ведь она, принцесса, первая заприметила неладное из крохотного окошка огбаха35, выходящего на колоннаду Святилища. Принцесса, однако, не позволила себе поддаться панике. Не позволила, даже когда, драпируя на бегу многочисленные складки своей послушнической чалмы и беспрестанно наступая на длинный подол платья, она подлетела к потерявшей сознание матери.
«Тепловой удар или, возможно, обезвоживание», – мгновенно пронеслось в голове Руввы. Принцесса оттащила мать в укрытие тенистых арочных сводов. Затем стремглав отмерила те пятнадцать шагов, что отделяли их от королевской стражи. От помощи и защиты, которая так порой необходима даже венценосным особам.
Конечно, воины жреческой армии находились ближе: до них дотянулся бы даже самый слабый голос. Этих «солдат веры», в отличие от королевских стражников, не отделяла от матери Руввы высокая стена храмового ограждения. Тем не менее принцессе и в голову не пришло обратиться к ним. Она прекрасно знала: воины в черных доспехах не сдвинутся с места и пальцем не шевельнут без личного приказа Йанги. А врываться в Святилище во время явления божественной справедливости провинившимся – было бы неслыханным святотатством! Даже если на кону стояла жизнь самой королевы Харх.
Так что принцессе-послушнице пришлось бросить мать на храмовых плитах и побежать за высокую стену, предварительно распустив ткань своей чалмы так, чтобы на восточно-степной манер укрыть ею лицо.
Как ни боролась Рувва с волнением, все же в конечном итоге оно победило. «Торопись, – нашептывали ей зловещие голоса, – торопись, ибо промедление и забота о внешнем достоинстве могут дорого тебе стоить». Этот шепот превратил дальнейшие события в смазанную вереницу картинок. Они замелькали в глазах Руввы вспышками молний, прорезая слепящим светом ночной мрак.
Раскаленные под звездами плиты, лижущие пятки принцессы своими огненными языками; ощущение неприятной влажной липкости на спине и на шее – чуть ниже уровня роста волос; прилив стыдливости за выбившийся черный завиток; помимо воли нарастающая тревога… Позже – знакомый с детства сандалово-лимонный аромат материнской опочивальни, к которому теперь примешались незнакомые горькие пары лекарских трав, запутавшиеся в отсыревших слоях использованных компрессов для лба. Благо хоть теперь наконец можно было освободиться от лицевой драпировки и подставить разгоряченное лицо легким бризовым дуновениям: лекари – единственные представители мужского пола (помимо родственников), которым светлые сестры могут являть свой лик.
Пока Аннум с ассистентами высвобождали королеву из цепких лап «теплового удара» и устраняли последствия «обезвоживания», Рувва медленно переводила взгляд со своего кольца на мать и обратно. С Окайры, безжизненно раскинувшейся на цветистых парчовых подушках, – на вертикальную дорожку из трех железных звезд. Со стороны казалось, что принцесса поглощена опасениями за жизнь матери и, поддавшись этому чувству, без конца нервически теребит свое единственное украшение – аскетичное, как она сама. Ни один, даже самый проницательный взгляд, пожалуй, не сумел бы разгадать смысл этого механического движения. А напряженная работа и высочайшая ответственность – подумать только, перед самим Каффом! – не оставляли лекарям места даже для таких умозаключений. Лежащих на самой поверхности…
Истина же – недаром подлинное сокровище – пролегала в месторождениях значительно более глубоких.
«Что, если мать так и не пробудится?» – с ужасом вопрошала себя Рувва. В ней забился полуживотный страх перед тем, к чему она вовсе не была готова, – невзирая на свои познания в области бесконечных экзистенциальных циклов духовного тела и отсутствие склонности к переоценке тела материального. Да и атмосфера замка-горы, родного дома Руввы, где она родилась и росла до получения сестринского сана и переселения в огбах, сыграла здесь не последнюю роль. Вновь нахлынувшие детские воспоминания, никак не связанные с религиозной отрешенностью, знакомые запахи, милая сердцу обстановка напомнили девушке, что она не только светлая сестра, посвятившая себя жречеству и народу Харх (ох уж этот народ!..). Она еще – а может, и прежде всего – дочь! Сестра и внучка! Что с того, что Рувва отказалась от статуса подлинной принцессы огненного острова со всеми вытекающими тяготами и почестями, сделав выбор в пользу религиозного пути?.. Меняет ли это тот факт, что она была и до сих пор остается потомком своих предков? Дочерью своей матери?
За несколько минут до пробуждения королевы Рувва окончательно легитимировала для себя право переживать и даже бояться за физическое тело матери. За тело, которое, вопреки положению о равнозначности всего сущего перед милосердием светлых сестер, она любила больше прочих. И да, молитвы о его здравии чаще всего невольно слетали с губ Руввы в каменной тиши молельни огбаха. Так или иначе, дочь должна волноваться о здоровье той, что подарила ей жизнь! Кем бы эта дочь ни являлась и куда бы ее ни завел избранный путь. И чего бы он ни требовал от нее.
К слову, о требованиях. Принцесса в сотый раз покосилась на острые грани кольца, что так и норовили врезаться нитью пронзительной боли в соседние пальцы. А уж как он, этот перстень, в свое время изрезал ее душу…
И что, собственно, вообще от нее осталось?
Лишь бы мать, ее родная матушка, пришла поскорее в чувство! Сколько уж можно терзать и изводить себя, обрекая на вечное одиночество? Рувва вдоволь настрадалась, держа свою тайну в себе. Эта тайна тяготила. Она то влекла принцессу в заверть штормовых волн, то обвивалась прочным шелковым жгутом вокруг нежной, все еще по-детски худенькой шеи. «Пожалуй, морское дно все же лучше», – говорило порой в Рувве слепое отчаяние. Доходило до того, что иногда она даже забывала о сане светлой сестры, и даже угроза небесной кары за мысли о самоубийстве не заботила принцессу. В эти темные мгновения умственного затмения она обычно говорила себе: «Дно укроет мой недостойный вид от родительских глаз, а соленая вода древнего Вигари смоет позор, что навлекла я на себя и свою семью».
Пока Окайра делала первые попытки к возвращению из мира снов и осознанию себя в физическом теле, ее старшая дочь уже подготовила сценарий своей исповеди. И даже не один. Она замерла у ног матери и, казалось, шептала сакральные строки молитв на исцеление от морока и мантрические трехстишия на безвозмездную передачу энергии по женской линии рода. На деле же, к своему большому стыду, в определенный момент Рувва осознала, что она попросту репетирует свое признание. Почему же после стольких сомнений и метаний она почувствовала себя готовой именно сейчас? Страх. Принцесса всерьез испугалась, что мать может не успеть принять ее покаяние. Как тогда прикажете жить дальше? Нужно непременно снискать свою толику понимания и прощения – и сделать это прямо сейчас. О милостивая небесная прародительница, как это эгоистично и низко! Вот, получается, чем она утешит свою многострадальную мать, которая вернулась с самого порога небесных чертогов Огненного бога!..
Рувва сделалась противна сама себе. Да так, что попадись ей на глаза зеркало из вулканического гокху, то несдобровать бы ему: плюнула бы в свое отражение не задумываясь. К счастью, у принцессы осталось в запасе несколько спасительных мгновений, и их хватило, чтобы успеть удержать свой несносный язык за зубами. Чтобы не дать непоправимому слететь с него.
Она успела, и вместо того, чтобы взвалить на Окайру часть своей тяжкой нравственной ноши, всего лишь выдохнула:
– О матушка!
Никто из присутствующих не услышал в этом невинном возгласе то, что слышала сама Рувва. А именно – оглушительного скрежета конских копыт, силящихся сдержать стремительный галоп у самой кромки грозно закипающих волн…
Ожидание и неизвестность изводили, налегая на грудь свинцовым жерновом. Умм уже успел не единожды подсчитать количество резных цитриновых звезд на потолке главного храмового зала, краем глаза продолжая неусыпно наблюдать за темным коридором. Уж больно давно скрылся в его проеме дружище Дримгур в компании Нездешней. Другой частью зрения стражник, используя приобретенные на службе навыки, следил за «темными воинами» – так он про себя окрестил представителей жреческой армии. Подсчеты и наблюдения сопровождались неприятным ощущением муравейника, копошащегося по стенкам желудка. Неужто теперь и голод – перед наказанием Умм сознательно отказался от завтрака – дополнит безрадостную палитру чувств? С другой стороны, а кто его знает, в каком состоянии лучше всего встретить неизбежное физическое страдание?
«Если с набитым желудком, – рассуждал вечером накануне стражник, – то как бы не вывернуло в самый неподходящий момент. Мало того что позор и насмешки до конца службы обеспечены, так еще и, чего доброго, Нездешняя возьмет и проклянет. Да так, что сотни и сотни созвездий кусок в горло не полезет! Знаю я их порядки!» Этих двух причин оказалось достаточно, чтобы юноша благоразумно отклонил идею плотного завтрака накануне визита в Святилище.
Что касается минусов посещения верховой жрицы натощак, то тут Умм сумел выдвинуть всего один аргумент – значительное повышение вероятности обморока. «Да, явление, не делающее королевскому стражнику чести, – признал юноша. – Однако есть у него и определенные преимущества». К ним Умм отнес, во-первых, обезболивающий эффект временного забытья, а во-вторых, по мнению юноши, эта физическая реакция менее оскорбительна для священных храмовых стен и их хранительницы.
И вот теперь голод настойчиво напоминал о себе, отдаваясь слабостью во всем теле. К тому же этот «львиный зев»!.. Он раз за разом раздавался из недр пустого желудка и бесстыдно пользовался акустикой высоких каменных потолков. Благо временами в унисон ему вторил не менее громогласный звон Эббиховых бубенцов, пришитых к подкладке его черной рясы. Тогда урчание желудка оказывалось удачно замаскированным, а сердце стражника невольно наполнялось благодарностью к бородатому прислужнику. По правде говоря, Умм и в страшном сне не мог себе представить, что однажды омерзительный саркастичный горбун окажет ему столь ценную услугу.
А звон тем временем продолжал рассыпаться по Святилищу – беспорядочно и гулко.
Бряц – попал! Дзын-н-нь – мимо…
Так королевский стражник и провел еще не один десяток мучительных минут, чувствуя себя в высшей степени неуютно и пристыженно. Во многом из-за того, что вынужден был признать: Эббих и в самом деле услужил ему! Внутри зародилось какое-то смутное, едва осязаемое ощущение, что Эббих якобы был с ним, Уммом, заодно.
А еще эти глаза юного принца Бадирта, поблескивающие золотыми огоньками из коридорной дали… Вот уж где точно не было ни капли сочувствия! Скорее наоборот.
Умм старался не смотреть в сторону этих огоньков, причем не только потому, что задерживать взгляд на королевской особе не позволяла пресловутая Заповедь.
Когда же наконец взгляду его явился Дримгур – хорошо, что хоть на него можно взирать сколько влезет, – то Умм почувствовал себя окончательно сбитым с толку. Ибо моральное и телесное состояние, в котором предстал перед ним прошедший «очищение от греха» друг, было, мягко говоря… «Странно!.. – едва не сорвалось с губ юноши. – Клянусь Огненным, это очень странно! Не выглядит ни страдающим, ни подавленным, ни униженным…» Умм на всякий случай даже повнимательней присмотрелся к плечам Дримгура: вдруг выслуженную татуировку так никто и не тронул? Нет, бледно-розовый ожог на правом плече, повторявший по форме один из трех языков пламени нательной печати Дримгура, красноречиво указывал на то, что древние традиции не были осквернены изменениями и поправками. По крайней мере, касательно самой сути, ядра ритуала наказания. Убедившись в этом, Умм пуще прежнего подивился физически ощутимым токам бодрости, воодушевления и какой-то новой властной мужественности, что распространял вокруг себя его прошедший испытание друг. Все выглядело так, будто Огненный бог непонятно за какие заслуги вознаградил нарушителя воинской Заповеди и вместо должной расплаты ниспослал ему свое благословение.
Сакральное молчание, долженствовавшее царить в Святилище, не позволяло Дримгуру задать вопрос и услышать ответ.
А что же ныне представлял из себя сам Умм?
На фоне необъяснимо довольного вида Дрима (чего стоила одна его разбитная моряцкая походка) Умм еще сильнее ощутил собственную ничтожность. Изведенному томительным ожиданием, подкошенному предательскими выходками бессонницы и с урчащим желудком – пропади пропадом все эти опасения, уж лучше бы позавтракал как следует! – именно в таком состоянии Умму было суждено «узреть справедливость Огненного бога». И судя по тому, что Йанги уже поманила его за собой, величественно взмахнув рукой из глубины темного коридора, уже ничто не могло изменить этого досадного обстоятельства.
Путь, что прокладывала жрица к месту наказания, непредсказуемо вился по мраморным внутренностям Святилища. В условиях кромешного мрака и обманчивых отсветов Умм мог быть уверен лишь в одном: путь вел его наверх – куда-то под сень широких, приплюснутых и, безусловно, уже раскаленных добела куполов. Что-то подсказывало стражнику, что Матерь звезд давно миновала полуденный рубеж. Вероятно, этим чем-то было эхо жаркого дыхания тех самых куполов: оно прорывалось внутрь вопреки каменной прохладе Святилища. Чем выше, тем усердней норовя опалить Умма искрами факелов, которыми, как ему казалось, были сплошь усеяны храмовые купола.
Сухой жар обдавал юношу лишь отголосками того истинного, невыносимого пекла, что раскаляло металл фигурных луковок крыши. «Милостивая Матерь, какова же тогда истинная сила твоих пылающих объятий?!» – ахнул Умм. Охваченный в равной степени восхищением и содроганием, он подумал: «Дерзни простой смертный хархи приблизиться к тебе хоть на шаг ближе положенного, спорю на свою воинскую эмблему, сгорит заживо!»
За этими незатейливыми размышлениями стражник скоротал путь до крошечной каморки, которая, по его собственным ощущениям, располагалась если не под самыми куполами, то, во всяком случае, в непосредственней близости от них.
– Можешь сесть, воин короля, если тебе так будет проще принять свою судьбу, – будничным тоном предложила Йанги, заняв место напротив круглого чердачного окошка. Ее экстраординарный рост послужил причиной неуютного сумрака: жрица перекрыла потоки ярко-оранжевой лавы света, сочившегося в окошко из жерла небесного вулкана.
Теперь стройный силуэт Йанги был очерчен в круглой оправе оконного проема контрастным кьяроскуро. Простейшая игра света и тени, запущенная естественными силами и не приправленная даже щепоткой темного колдовства, смотрелась весьма эффектно. Эдакое всамделишнее величие, которое льстиво подчеркивает сама природа.
Этот тонко просчитанный прием дошел до сознания Умма, успешно преодолев бастионы опасений, предвзятости и убеждений (как собственных, так и чужих). Одним из своих многочисленных чувств Йанги даже ощутила в воздухе резкий хлопок – такой, что могла бы вызвать длинная тонкая игла, проколовшая несколько слоев тесно переплетенных лоскутов.
Хл-л-лоп-п-п! Так просто и так действенно!
Никаких наговоров над булькающим варевом, шаманских плясок вокруг черного пламени и уж точно никаких экспериментов с сознанием. С выражением глубокого удовлетворения жрица прижала руки к груди. Тоже прекрасная и не менее выигрышная поза: одновременно властность и покорность перед высшими силами. Йанги нравилось, когда народ видел ее такой; она владела целой коллекцией соответствующих жестов, взглядов и поз. И даже разновидностей осанки. Ну а сейчас, взяв в помощники целый сноп полуденных лучей, перехваченных узлом окна, жрица извлекла из этой сокровищницы свой излюбленный экземпляр.
Он, подчеркнутый изяществом женственных линий и изгибов, предстал во всей своей красе и целомудрии. Единственное и достаточное украшение пустой тесной комнатушки, доверчиво прижавшейся к намоленным храмовым сводам.
Умм огляделся в поисках предмета мебели, позволяющего подчиниться не то приказу, не то предложению жрицы и сесть. Поиски, однако, ни к чему не привели: внутреннее убранство каморки ограничивалось грязно-пепельной россыпью пыли по углам да следами мышиного помета. Эти два неприглядных обстоятельства в сочетании сообщали помещению характерный запах. Немалую роль в его интенсивности играло и тепловое воздействие – спасибо пресловутым полуденным лучам! То, что в прохладе могло бы лишь отчасти напоминать о себе, на жаре превращалось в зловоние, оскорбительное для островной религиозной цитадели.
Висящий в душном воздухе запах обыкновенных нечистот и грязи… Пожалуй, это было последнее, чего ожидало от Святилища обоняние Умма, обостренное благодаря голоду и усиленно работающему механизму самозащиты.
Нет, безусловно, здешние ароматы были юноше и раньше не особенно милы. Все эти дымные клубы, заключившие дурманный союз с сырой землей, жженой древесиной и опаляющими ноздри специями… Возможно, именно по их милости даже мысль об очередном визите в Святилище – отстоять ли проповедь, принять ли участие в праздничном ритуале – отдавалась в голове Умма болезненными спазмами. Добавить к этому удушающую скученность толпы (в такие дни храм переставал быть тихим местом уединенных молитв), влажное тропическое дыхание, что испускают красные лилии и флердоранж, обвивающие ритуальные чаши… Сколько ни пытался Умм побороть обонятельную неприязнь к Святилищу, усилия заканчивались одинаково: раздражением, головной болью и интуитивным чувством противоестественности этого запаха.
Что же долетало до его ноздрей в этот раз? То был знакомый душок неприбранного, запущенного чулана. Память и сознание пока молчали, никак не реагируя на вызов, если не сказать – провокацию. Восприятие запахов, в отличие от визуального, еще не пало жертвой тщательно спланированного наступления. Иголка пока не дотягивалась до него своим острием.
Другое дело, что восприятие Умма вовсе не подозревало ни о каком наступлении, возвышаясь над происходящим беспечной твердыней с дремлющими на посту часовыми.
Почувствовав себя крайне глупо – в какой раз за тот мучительный день! – Умм вопросительно указал жрице глазами на пыльный каменный пол: можно ли, дескать, сесть на него?
Ответом стал кивок. Выглядело это так, будто Йанги дозволила ему не опуститься на грязные, едва различимые под слоем пыли плиты, а словно по меньшей мере отпустила стражнику истязавший его душу смертных грех.
Да и, впрочем, неважно. Главное, посчитал Умм, вопрос с его положением в пространстве был наконец исчерпан, а значит, одной неловкостью меньше. На пол так на пол! Уж лучше исполнять внятные приказы, чем дрожать в ожидании малопонятных темных ритуалов.
Всю тесноту каморки стражник оценил, только когда исполнил «внятный приказ»: он сел, опершись спиной о стену, и, вытянув ноги, чуть не коснулся носком сапога противоположной стены. То есть лечь на полу во весь свой невыдающийся рост у юноши бы уже не получилось. Близость к полу, кстати сказать, значительно усилила «чуланный» запах. При всей его естественности и уместности в обыденной жизни – скажем, в домашних хозяйствах – здесь, в Святилище, он оставался для Умма сущей диковиной. Такой, что спустя множество звездных циклов и не меньше роковых событий юноша накрепко связал этот запах с началом крутых поворотов своей судьбы.
Умм просто не знал, что пространственно-временная точка, в которой он оказался, не возникла сама собой, не врезалась в его ладонь из ниоткуда; не знал, что она не была поставлена туда одной лишь волей остро заточенной иглы Йанги. Если немного отстраниться от «карты» и приглядеться повнимательней, не возникнет сомнений: юноша начал сознательное движение к этой точке, едва лишь осознав самого себя и свой характер. Однако порой типичная для смертных склонность к упрощению и житейскому символизму оказывается на руку существам более высокоорганизованным и могущественным.
И конечно, они не преминут этим воспользоваться.
Чулан… Тьма, хоть глаз выколи. Сухая многолетняя пыль, грубое полотно шершавой мешковины, вытоптанные клочки сена на полу, ржавый дух перележавших яблок-паданок, тряпицы из пропотевших нестиранных рубах. Сухость в горле и на языке. Потрескавшаяся кожа рук – и они сухи. Как растрепанная косица, словно сплетенная из соломы. Солома… Она тоже где-то здесь есть, это точно. Ни с чем не спутать дрожжевой злаковый аромат, которым сочатся ячменные стебли, лишенные своих соцветий и семян.
Умм пошарил глазами по той реальности, что явилась ему в ответ на прикосновение верховной жрицы. Последнее, что он помнил перед тем, как провалиться в бескрайний глухой туман, было ее лицо. Очень близко от его собственного. Он тогда еще подумал, что вот оно – началось. Сейчас ему наконец закатают рукав и выжгут пару язычков его наплечной татуировки. Ну, если только, конечно, Нездешняя не просветит его насквозь каким-нибудь магическим шаром или крысиным глазом и не разгадает его тайну. Ту, что касается осквернения священных островных традиций воинской потомственности; тайну, которая привела в ряды королевских стражников крестьянского сына. Тогда уж пиши пропало: можно готовиться к смерти.
Будет ли она мгновенной и исполненной ужаса или же спустя много мучительных созвездий станет ему долгожданным избавлением в остроге Подгорья? Какая, в общем-то, разница. За мгновение до отключения сознания в голову Умма проскочила мысль, что ему действительно все равно. И что даже знай он о таком исходе заранее, у самых истоков своих дерзких мыслей насчет споров с судьбой, то и тогда ничего не изменил бы в своем решении. А слишком ранняя и бесславная смерть… Что ж, Умму не раз казалось, что он и вправду готов был уплатить эту цену за те три созвездия, что ему довелось провести не в крестьянской холщовой тунике, а в доспехах королевского стражника. Бессонная ночь накануне, лишив юношу остатков благоразумия, только способствовала подобному настрою.
Эту обреченную покорность судьбе Умм ощутил только сейчас. Иначе как объяснить спрятанный за голенищем сапога короткий, но прекрасно заточенный нож в кожаном футляре?
Как же понравился этот тайник верховной жрице! Еще в главном ритуальном зале, едва Умм переступил порог Святилища, она уловила приглушенную, но вполне осязаемую мелодию стального клинка. Надежды оправдались: принадлежал он Умму. Какое пленительное нахальство! Принести оружие в древний, легендарный и величественный дом Огненного бога на земле Харх, не убоявшись самой грозной кары за свой поступок – небесной.
«Знала, что ты достоин своего будущего, – радовалась Йанги. – Да и рисункам в черном пламени не пристало врать мне, их укротительнице, ибо здесь все налицо: и достоинство, и характер, и эта врожденная непокорность. Но такая явная открытость грехам и поистине дьявольское безрассудство, – чуть ли не вслух проворковала она, – это просто подарок! Подарок тебе, огненный остров Харх, первобытный ты язычник! Хоть у тебя уйдут сотни твоих звездных фигур, чтобы это понять».
За это счастливое открытие Йанги, махнув рукой на свои изначальные планы, даже решила смягчить заготовленное для Умма испытание: хватит с него сестренки. Во всяком случае, для начала.
Дальше – будет видно.
Здесь точно припрятана где-то солома. Пошарить бы по полу руками да нащупать ее жесткие пахучие стебли. Аромат свеж, в нем еще хранится землисто-травяная эссенция его колыбели – бескрайнего поля. «Значит, только-только закончился обмолот», – всплыло в памяти Умма.
Тем же путем он установил, что находится в прежнем временном отрезке. «Молотьба, – вспоминал стражник, – она исстари приходится на вторую половину Ящерицы: чтоб злаки успели за лето как следует вызреть, а до прихода Скарабея крестьяне бы их уже обмолотили».
Юноша улыбнулся про себя, продолжая упорно цепляться за свой соломенный «якорь», словно тот мог уберечь его от жреческого чародейства. Солома – это хорошо. «Урожай на ближайший цикл запасен, – упрямо гнул свое Умм, отмахиваясь от пугающей необъяснимости происходящего. – И наверняка амулеты от скарабейских поползновений уже изготовлены и развешаны над дверями домов…»
Как жаль теперь стало Умму, что он всегда с некоторым недоверием относился к подобным оберегам от стихий и темного колдовства. Тот красный лоскуток, его детская игрушечная «эмблема королевской стражи», до сих пор оставался для юноши единственным талисманом, который он носил без снисходительной ухмылки. Носил осознанно, по собственному желанию, а не в угоду отцу с матерью. Да что теперь о нем вспоминать – потрепанный кусочек материи с приколотой к нему железной булавкой остался в казарменном домике, спрятанный под подушку. «Зря», – едва слышно вздохнул Умм.
Ощутить хоть какую-то защиту сейчас было бы очень кстати. Пусть даже такую наивную и беспомощную.
Особенно остро стражник почувствовал эту потребность в миг, когда, прямо перед его падением в «чулан», лицо Йанги оказалось напротив его лица. Ну, может быть, не в сам этот миг, ибо нельзя не признать, что нездешняя красота ее черт слегка сгладила впечатление. Но ненадолго. Ни магия развеянного ореола недоступности, ни божественное великолепие лица жрицы не смогли отвлечь Умма от увиденного после.
Когда из ее полуоткрытого красивого рта показался черный, раздвоенный на конце язык.
Все, что юноша успел уловить, – бесчисленные бугорчатые волдыри, которыми был покрыт этот язык (звездный луч, просочившийся из окошка, подсветил его текстуру), и то, как он, удлиняясь, неумолимо приближался к его, Умма, лбу.
А дальше были два нестерпимо жгучих укола – над переносицей, словно туда приложили раскаленные угли – и ледяные узоры, разбегающиеся по скулам. До висков и обратно.
Видать, по этим дорожкам Умм и добрался до того темного чулана.
Никак не отыскать эту проклятую солому: ни связанных и аккуратно сложенных в углу снопов, ни жестяного подноса с обмотанными нитью звездами-оберегами из ее сушеных стеблей, посверкивающих желтизной пришитого к середине цитрина… Юноша остро чувствовал, что почти утратил связь с реальностью, и отчаянно пытался обрести ее заново. Казалось бы, при чем здесь свежая солома? Спустя много времени Умм утверждал, что видел в ней единственную примету того, что еще не умер. Ведь не может же в чертогах Огненного сейчас тоже быть конец лета! И с чего, спрашивается, там идти сезонным сельскохозяйственным работам?.. Также – эту причину Умм всегда раскрывал неохотно – его не покидала надежда отыскать где-нибудь соломенный оберег и вложить в него молитвенное усердие. Стражника мало заботило, что, согласно крестьянским поверьям подгорных окрестностей, звездчатки защищали лишь от одной угрозы – природных стихий, а вовсе не от неведомых ритуалов.
Ответ, равно как и солома, нашелся – пусть и нескоро. Ему предшествовал тихий, какой-то надломленный плач, едва различимый в ватных клубах тумана. Умм сделал усилие, чтобы сконцентрировать все внимание на этом слабом источнике звука. Плач женский, почти девчоночий. Жалобные ноты долетали не только до его ушей, но умудрялись дотянуться и до сердца. И растопить его, а заодно размыть три звездных цикла и затаенное предательство, разделившие Умма с обладательницей этого голоса.
Плакала его младшая сестренка. Наконец туман рассеялся по стенам чулана и позволил разглядеть ее худощавую фигурку, скорчившуюся на подстилке из рубах, в которые впитался неистребимый дух тяжелой полевой работы. Со спины она выглядела на тот самый возраст, в котором пребывала, когда старший братец удачно показал себя на дне испытаний и не погнушался пустить семейные деньги на взятку. Поэтому сначала юноша не на шутку перепугался, что и вправду уже летает бестелесным призраком над Харх, не принятый Огненным за свои прегрешения.



