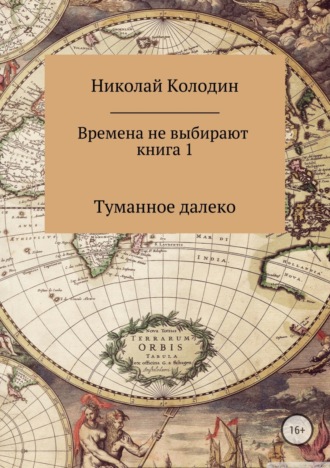
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
– А это зачем? – спрашивала младшая.
– Не зачем, а для чего, – строго поправлял я. – Это «пальпация», значит, пальцами определяем место боли.
Они открывали рот от изумления. Откуда им было знать, что мне ли с моими слабыми легкими не владеть хоть несколькими самыми распространенными медицинскими терминами. Закончив простукивать грудь и груди, просил снять трусики.
– Зачем? – спрашивала младшая.
– Что-то место боли не прослушивается…
Возразить нечего. Снимали. Старшая даже быстрее. Осмотр младшей много времени не занимал. А вот со старшей интересней. Когда, стараясь как можно глубже проникнуть «к месту боли», едва касался самых сокровенных мест, она охала, вздрагивала и напрягалась всем телом.
– Что вы дрожите, больная?
– Не знаю, – шептала она.
– Тогда продолжим осмотр…
Раздвигая нижние губы, проникал все глубже, она дышала все тяжелее. Я не понимал, почему, и продолжал осмотр, заглядывая в самую суть. А чтоб лучше видеть ту суть, просил младшую приподнять спущенный полог:
– Дайте свет, мне вашу мать плохо видно.
Младшая почему-то завидовала старшей:
– А чо ты теребишь её, как курицу, и вообще смотришь дольше, чем меня?
– Не ты, а вы, и не тереблю, а осматриваю, а дольше, потому что она тебя больше…
– Все равно несправедливо.
– Выйди в коридор и не подглядывай. И вообще, тебе завидно, что ли?
– Не завидно, а обидно, – по-старушечьи поджимала губки младшая.
– Ладно, сейчас закончу осмотр, и ты зайдешь…
По окончании трудного рабочего дня врача приглашали на кухню попить чайку. От приглашений отказываться я не привык. Мы быстро разбирали шатер и шли на кухню. Раскрасневшиеся от шатровой духоты, мы в первые минуты смущались и стеснялись друг друга, за исключением младшей. Но ненадолго.
– Так, когда у нас следующий приемный день?
– Коля, наверное, через день: завтра у мамы выходной.
– Хорошо. Буду послезавтра.
К сказанному остается добавить: в результате с особенностями женского тела я познакомился настолько рано, что не имел ни малейшего представления о том, как полученные знания использовать. Практика пришла значительно позже.
Книги толстые и взрослые
Самое любимое занятие тогда – чтение. Читал запоем, забывая обо всем на свете, за исключением разве еды. Библиотека размещалась в бывшем мотальном корпусе, что рядом с клубом Сталина, а это значит – три с половиной километра «пехом», и хорошо, если не по грязи, преобладавшей здесь в любое время года, кроме крайней зимы. Потому всякий раз я старался набрать книг как можно больше. Первое время библиотекари меня ещё спрашивали:
– Тебе, мальчик, что подобрать?
– Мне бы потолще, – отвечал неизменно.
В отличие от своих сверстников, предпочитавших книги «с картинками», никогда не обращал на данное обстоятельство особого внимания. С иллюстрациями – хорошо, без них – тоже неплохо. Главное, чтоб интересно было.
Выбирать книги «потолще» библиотекарям некогда, всегда большая, человек в пятнадцать-двадцать, очередь. И очень скоро, забрав книги и найдя формуляры, меня запускали в библиотечный фонд, где разрешали копаться сколько угодно душе. И я копался!
Полагалось выдавать на руки по одной книге из художественной литературы, научно-популярной и документальной. А карточек две – моя и матери. Итого минимум шесть книг. Со стопой их выходил к стойке, отделявшей читателей от книжных фондов. Потом тащился с нелегкой ношей домой. Но зато дома…
Не надо думать, что книги не художественные оставались без внимания. Нет. Их тоже брал не подряд, а с выбором. Из научно-популярной серии очень любил те, что рассказывали о неизвестном и непознанном, как правило, то были брошюры по физике, биологии, астрономии и по любимой мною истории. Зато среди литературы документальной имелось в фондах много мемуаров. К ним пристрастился рано и страсть сохранил по сей день. Конечно, понимал далеко не все, но интерес от того не убавлялся.
Уроки делал быстро, и если Маша с матерью работали в вечерней, а еще лучше в ночной смене, мог читать хоть до утра, не жалея керосина. На том и попался. Роман в тот раз принес неимоверно толстый, с названием кратким и емким «Лапти», нечто из жизни русской деревни периода коллективизации. Недавно у одного известного критика в монографии о советской литературе прочел, что в их литературно-художественной семье только одну книгу никто не одолел – «Лапти». Не знаю, откуда эта нелюбовь к советской литературе, но я увлекся романом до такой степени, что совершенно забыл о керосиновой лампе и её фитиле.
Когда раздался стук вернувшихся со смены матери и Маши Страховой, картина им предстала жуткая. Я – с размазанными по щекам жирными потеками копоти, спящая Валька, из рыжей блондинки превратившаяся в закопченную брюнетку. В довершение – летающие по комнате черные хлопья и ужасный запах керосиновой гари.
На пороге обе застыли в растерянности и недоумении. Затем Маша рухнула на кровать рядом с почерневшей дочерью и разрыдалась, браня меня матерно и обидно. Мать, сорвавшись с места, первым делом наподдавала мне, бросила книгу в чемодан под кроватью и кинулась сдергивать занавески с окон и вообще все матерчатое. Затем, быстро обтерев, что можно, ушла на кухню, где я уже вскипятил чайник. Чай мы пили вприкуску с сахаром и вперемежку со слезами.
– Ну, в кого ты у меня такой? – то и дело повторяла она.
– Да ладно, – бубнил я в ответ …
На другой день поутру, стараясь никого не разбудить, я потихонечку выдвинул из-под кровати чемодан, вытащил книгу и запихал её в портфель, для чего пришлось выбросить какой-то из учебников. Довольный, побежал в школу, а мать, проснувшись, принялась за стирку.
На первом же уроке принялся дочитывать очень интересный эпизод, где герой укладывает подругу в стоге. Финала так и не узнал, прозевав приближение учительницы. Та сразу выдернула книгу, посмотрела, что же с таким увлечением читает четвероклассник? Заглянув в конец главы, впала в прострацию. А в перемену повела к заведующему школой, не директору, нет. Так именовалась его должность официально.
Бывший фронтовик, в военном, наверное, еще фронтовом кителе, плотного телосложения с лысой и не просто лысой, а выбритой до блеска головой, с очень литературной фамилией Федин. Учительница сразу принялась клеймить меня и позорить, мол, чего ждать от человека, если он в таком возрасте читает такие (в этом месте она закатила глаза к потолку и покраснела) вещи. Директор выслушал её стоны внимательно и попросил оставить нас наедине. После чего прямо спросил:
– Тебе интересно это?
– Да! – признался я.
– Где ты берешь это?
– В библиотеке же, на Перекопе.
– И тебе дают это?
Он никак не мог подобрать определение, достойное романа с подобными сельскохозяйственно-лирическими сценами.
– Я взрослые книги на карточку матери беру.
– Вот именно, взрослые, – сказал Федин, обрадовавшись определению выбранного мною романа.
– Ладно, за книгой пусть мать придет, а я тебе подберу что-нибудь из своей библиотеки.
Мне, признаться, и в голову не приходило, что библиотеки могут быть домашними, ибо до сей поры не встречались мне дома не то чтобы с библиотеками, но даже и единичными книгами, за исключением учебников. Никаких книжных шкафов и в помине. В домах собственных и более-менее благоустроенных имелись этажерки. Но использовались они обыкновенно для сбора всякой всячины из домашнего обихода, и каждая полочка украшалась салфеточкой, а на самой верхней полке стояли фарфоровые украшения обычно не только в виде слоников, но и иной живности тоже. Но не книги.
На другой день перепуганная мать, благо еще продолжалась неделя её вечерней смены, пошла со мной. И это было что-то! Обычно она в школу не ходила никогда, ограничиваясь редкими проверками моего дневника, и расписывалась в нем обычно сразу за несколько прошедших недель. Но тут вызывал сам заведующий. И она, терзаясь смутными подозрениями, побрела рядом со мной. Не за руку, а именно рядом, чтобы я прочувствовал глубину своего проступка и её переживаний. Я прочувствовал, потому молчал. Так и шли в глубокой задумчивости.
Однако ничего страшного не произошло. Директор, наоборот, начал с похвалы в мой адрес, мол, такой маленький читает такие большие книги.
– Но, – Федин поднял указательный палец, – не те!
С этими словами он передал матери не дочитанный мною роман, а мне – зеленый новенький трехтомник избранных произведений Аркадия Гайдара. Наверное, он полагал, что его мне хватит до конца только что начавшейся четверти, и как же был изумлен, когда я возвратил трехтомник через неделю!
– Ты чего, – недоуменно спросил Федин, – не понравилось что ли?
– Наоборот, очень понравилось, особенно «Военная тайна». Но я уже все прочитал.
– Ну, тогда подожди до завтра, еще что-нибудь принесу.
Он носил мне книги до конца учебного года, а с ним и окончания начальной школы. Как жалею, что не сохранил в памяти даже имени его…
«Путя»
Отчетливо помню первое свое появление в Чертовой лапе. Дотащившись с нашим деревянным чемоданом, какими-то узлами и сетками-авоськами до искомого дома, мы зашли внутрь. Мать осталась с хозяйкой, меня отправили на улицу.
Стоял теплый августовский полдень, клонившийся к вечеру. В центре улицы напротив дома стоял остов кабины «виллиса», военной легковой машины. Около неё крутились мои сверстники. Они позвали:
– Вали к нам!
С радостью подбежав и забравшись внутрь кабины без дна, зашаркал, как и новые мои друзья, по пыли, теплой и легкой, как пух. То, что она, поднимаясь, оседала на рубашках и головах, не заботило.
– Вы к Страховым приехали? – спросил меня самый маленький и самый худенький.
– Да, а ты кто?
– Сосед.
Так обрел я на долгие годы жизни в Чертовой лапе приятеля, Борю Овчинникова, откликавшегося на кличку Путя, происхождение которой неясно. Приятеля, прямо скажем, непутевого и неоткровенного.
Вообще это была очень интересная семья, жившая в передней половине дома с традиционными двумя окнами на улицу. Старше всех – бабушка. Затем дочь её Паня, то есть Прасковья, с сыном Борей, без отца. Тетя Паня обычно красовалась с мокрым полотенцем на голове, страдая мигренью. Была шумлива, но незлоблива.
Затем шел брат её Сергей, слесарь-сборщик на заводе «Пролетарская свобода». Невысокий, чернявый и худенький, он, даже будучи взрослым мужиком, производил впечатление мальчишки. Правда, устойчивый запах перегара, постоянный спутник дяди Сережи, все же заставлял сомневаться в первом впечатлении. Несмотря на постоянную связь с крепкими напитками, как работяга, числился на хорошем счету. И в конце месяца не раз за ним приезжала директорская машина, после чего он пропадал сутками.
– План делают, – объясняла тетя Паня.
И вдруг дядя Сережа женился. Свадьба состоялась по-вологодски шумная, с драками, бегом по закоулкам с ножами, топорами и кольями. Пусть не пугают данные орудия в руках драчунов, до крови ни в тот раз, ни далее, насколько помнится, не доходило. И орудия те были скорее орудиями устрашения и подчеркивания собственной значимости. Действительно, что ты за мужик, если, дунув кружки три браги, не покажешь всю дурь свою, почитавшуюся вологодскими обывателями за удаль. К тому же и брага здесь готовилась особая, хотя об этом еще будет речь.
Дядя Сережа больше уже не запивал, как прежде. А вскоре осчастливил семью рождением первенца, здорового и неимоверно крикливого. Орал тот круглосуточно, с перерывами на еду и сон. И когда бабушка в очередной раз посетила нас, мать спросила её о внуке и здоровье его.
– А цо ему, ссёт да ссит…
Я поинтересовался у матери, что сказала бабушка?
– Ничего особенного, просто он сосет грудь матери да сикает в пеленку, и всё…
Потом вдруг к Овчинниковым приехала супружеская чета откуда-то издалека, то ли из Прибалтики, то ли из Прикарпатья. Супругу, высокую, худую и забитую, помню только внешне. Особенно постоянно грустный взгляд больших красивых серых глаз. Супруг по имени Николай высокий, не в пример остальным Овчинниковым, широкоплечий и статный, черноволосый, белозубый и веселый, если трезвый. Он уже отсидел приличный срок за то, что своему оппоненту по стакану выбил глаз. В Ярославле сразу устроился в ресторан «Бристоль» поваром, поскольку имел и квалификацию, и опыт. Судимость, видимо, в расчет не бралась. Позже именно он убьет моего закадычного дружка по Подосеновской улице Валерку Морева, ставшего соседом его в поселке Творогово.
Приехали те с деньгами и стали еще прикапливать, чтобы построить свой дом. Одновременно появились свои деньги у Пути, происхождения которых я долго не мог понять. То «трешка», то «пятерка»– деньги по тем временам для нас, пацанов, огромные. Мы ходили в кино, ездили в «город», то есть на трамвае выбирались в центр, покупали мороженое, пряники. И по-прежнему невдомек мне, простоте, что деньги краденые.
Однажды Путя завелся и позвал меня в клуб Сталина на новый классный фильм.
– Денег нет, – отказался я, – у матери просить бесполезно.
– Ха, зато у меня сейчас будут. Пошли.
Мы отправились к ним. Там тихо и пусто, если не считать спящего младенца в люльке. Путя полез под подушку стоящей у стены кровати и вытащил узел. Не развязывая его, он потихоньку тонкими своими пальцами выудил пять рублей.
– Откуда? – только и смог вымолвить я, пораженный проделанным фокусом.
– А дядя Коля на дом копит. Они их и не пересчитывают.
Однако рано он радовался. Однажды деньги пересчитали и обнаружили недостачу. Подозрение почему-то сразу пало на моего дружка. Да он и не отказывался. Попало ему крепко. Но урок не пошел впрок. И спустя какое-то время Путя-Боря позвал меня «скататься» в центр.
– Гроши есть, – деловито сообщил он.
Я согласился сразу. Почему бы не поехать, да еще и не за свои гроши? Шлялись мы долго. Сходили в кино. Несколько раз покупали мороженое. А в завершение в магазине учебных пособий приобрели фильмоскоп с диафильмом.
Смотреть решили у меня. Я натянул над кроватью пододеяльник, и мы уселись на табуретки. Что это был за фильм, осталось за рамками памяти и сознания, ибо вскоре случилось такое! В самый разгар нашего веселья пришла мать.
– Откуда аппарат? – сразу же спросила она.
– Так Борька купил.
– А у тебя откуда деньги? – строго посмотрела она на съежившегося вдруг Путю.
Тот молчал. Мать решительно прошла к кровати, вытащила чемодан, открыла его и вскрикнула:
– Здесь нет 25 рублей. Ты взял?
– Нет, что ты?
Мать знала, что без спроса никогда и ничего я взять не мог. Так уж повелось у нас, что все делили мы пополам. Даже новогодние елочные подарки (уж такая детская радость с мандаринами) я всегда приносил домой не раскрывая.
Она строго смотрела на Борю, и тот признался. Для меня осталось загадкой, когда он умудрился попасть к нам и вытащить, или, как сам он в таких случаях говорил, «стырить» деньги. Мы же с утра вместе… Надо признаться, больше ничего подобного Путя не позволял и вырос вполне приличным человеком, освоив редкую по тем временам профессию мастера по ремонту холодильников.
«Развлекуха»
Дальше Чертовой лапы мы выбирались редко. Дома не засиживались. И, схватив кусок черного хлеба, смоченного кипятком и посыпанного песком, устремлялись за дверь. Там ждут. И те, кто уже давно не был дома, просят: «Дай куснуть!». Куснет один-другой, и в руках то, что зажато пальцами. А не дать – западло. Даже украсть, особенно что-то из еды, грехом не считалось. Главное – поделиться при этом.
Обычно, если не хватало улицы, шли на Козье болото, располагавшееся сразу за крайней улицей поселка. Там руками ловили в тине щурят.
Еще одно развлечение – прокатиться на машине. Тогда появление каждой являлось событием в ребячьей жизни. Обычно это случалось, когда привозили дрова, либо уголь, либо какую-то хозяйственную принадлежность вроде теса или кусков толи. Мы сразу же начинали канючить:
– Дяденька, прокати…
И ныли до тех пор, пока шофер не соглашался, махнув рукой. Мы мигом забирались в кузов и садились, так что из-за бортов торчали только наши головы. Везли не дальше улицы Гудованцева, где мы выбирались на землю и возвращались домой пешком. И такая радость, что мы шагали, наперебой делясь переполнявшими впечатлениями. Радость не только оттого, что прокатились. В послевоенную пору редкостью были не только машины, но даже и велосипеды. В нашей компании они имелись только у двоих. И когда счастливый обладатель двухколесного чуда выкатывал его во двор, сразу же окружала толпа с одним желанием – проехать хоть сколько-нибудь метров.
Кататься на велосипеде я научился в деревне, где имелся трофейный немецкий велосипед с массивной рамой, страшно тяжелый, зато крепкий и надежный. Уж сколько раз падал я вместе с ним, пока не научился держать равновесие, сколько при этом шишек набивал, а велосипеду хоть бы что. Но здесь, в городе, оказывался в толпе страждущих и далеко не всегда добивался желаемого. Стоит ли говорить, что велосипед – моя самая большая и неосуществившаяся детская мечта. Еще одна – глобус. Почему именно глобус, и самому сейчас непонятно, но очень мечтал о нем!
Летом купались в большом пруду в середине поля, отделявшего Чертову лапу от Творогова. Пруд довольно чистый, стирать в нем никто и не думал, поскольку очень удален от ближайших домов. Зато во множестве имелись лягушки, головастики и пиявки. Ну, такой живностью нас не напугать, мы распугивали её. Здесь и проводили целые дни. Мне пруд был по душе еще и потому, что довольно далеко можно было идти по дну, изображая плавание, чем я и занимался.
Прямо над прудом проходили линии высоковольтных передач. В силу полного своего неведения мы игнорировали данное обстоятельство. Более того, особое удовольствие доставляло купание в грозу. Когда воздух насыщен особой грозовой прохладой, вода в пруде казалась теплой и мягкой. Нам и в голову не приходило, насколько опасно это, да и взрослым тоже. Препятствий никто не чинил.
Чуть повзрослев, я стал ходить со старшими ребятами купаться на Которосль к бетонному мосту, связывавшему железнодорожными путями склады комбината со станцией Всполье. Мы звали тот мост «битошка». С него прыгали в воду. Решались далеко не все, высота достаточная, чтобы охладить пыл. Но желающих хватало. И по пути к излюбленному месту на берегу мы задерживались у моста, чтобы поглазеть на смелых «чудаков». Из воспоминаний одной такой «чудачки»:
« Напротив красных кирпичных зданий комбината, где работала мама, раскинулся просторный пляж, покрытый мелким золотистым песком. Там загорали молодые работницы, и в жаркие дни было всегда полно народу.
На речку ходили гурьбой – сверстницы по школе и пионерскому отряду. Плавали сначала робко: ведь извилистая река течет быстро, но с каждым разом заплывали все дальше и дальше. Наконец я одной из первых преодолела всю реку и очутилась на другом берегу.
У комбината через Которосль перекинут довольно-таки высокий железобетонный мост. Самые храбрые мальчишки, вызывая восхищение купальщиков, прыгали с моста в воду.
– А чем мы хуже мальчишек? – как-то сказала я подругам. – Сиганем?..
Гурьбой взбежали на мост. Глянули вниз: ох, как высоко! Но отступать некуда: острые на язык мальчишки уже тут как тут, подзуживают, насмешничают. Вспомнила я масленниковские пруды и березу, взобралась на перила, зажмурила глаза и «солдатиком» ринулась вниз, в холоднющую воду. Вынырнула, посмотрела вверх, увидела много людей, которые с моста кричали что-то одобрительное, махали руками и даже аплодировали. Ради этого стоило прыгнуть еще раз, снова испытать знобящий холодок падения, чем-то отдаленно похожего на полет. И я прыгнула второй раз. А затем с моста стали сигать и мои подружки. Страх, на какое-то мгновение сковавший на перилах, преодолен. После мальчишки научили, разбросав руки, прыгать головой вперед, и я, как чайка, слетала на воду».
Если не узнали автора, подскажу: космонавт Валентина Терешкова. Речь у неё, правда, идет о другом мосте, автомобильно-пешеходном, построенном на месте бывшей деревянной плотины еще царских времен.
На пляж мы выходили гурьбой, каждый нес с собой краюху хлеба «на обед». К хлебу прилагался дикий чеснок-черемша, которого вдоль по берегу рви – не хочу. Не слишком сытые, но и не настолько голодные, чтобы спешить домой, а это все-таки больше трех километров, валялись на берегу до позднего вечера, когда уже лежать становилось холодновато.
Купаться ходили большой гурьбой, гурьбой разновозрастной. Мы, мелюзга, плелись сзади взрослых ребят, но в воде все равны. Если будущую «Чайку» мальчишки учили прыгать с моста, то меня учили плавать. Учение суровое и своеобразное. В один из дней ребята спросили меня, хочу ли я плавать, как они? Получив твердое согласие, затащили в воду и поплыли рядом этаким эскортом, но довольно далеко от берега оставили. Естественно, стал барахтаться, как мог, чтобы удержаться на воде и не утонуть. Удержался, каким-то образом дотянул до берега. Не знаю, сумели ли бы они вытащить меня, если б пошел ко дну. Могли и не успеть: слишком далеко находились от нашего «дикого» пляжа. К тому же на берегу, похоже, никто и не следил за мной: барахтается, и ладно.
Понимал, что верить пацанам на слово нельзя, а уже через несколько дней клюнул на другую приманку, когда предложили поплыть на другой берег. Которосль в том месте в ширину метров сто, пожалуй. И это представлялось мне страшно далеким. Не в силах сказать что-либо я отрицательно замотал головой. Так бы и мотал, как конь застоявшийся, но тут последовало заманчивое предложение:
– Да ты не боись, мы тебя в коробочку возьмем и до той стороны дотянем как-нибудь. И не таких дотаскивали…
И стали наперебой вспоминать случаи, якобы уже имевшие место и завершившиеся благополучно. Когда они, окружив меня, образовали такую коробочку, я молча шагнул в воду, про себя повторяя «и хочется, и колется, и мама не велит».
Эти паразиты действительно коробочкой плыли рядом со мной до середины реки, затем, резко рванув, уплыли к другому берегу. И болтался, мучимый неразрешимой проблемой: и вперед – далеко, и назад – не близко. Решив, что вперед все же почетнее, стал усиленно болтать ногами и руками и кое-как, но самостоятельно до другого берега добрался. На подковырку: «А назад слабо!» – отвечать не стал и побежал к мосту, добравшись до своей одежды «пёхом».
Своих дочь и внука сам плавать учил по той же «методе», но гораздо милосерднее. Мои учителя были не жесткими, а жестокими. Так ведь дети войны – сплошная «безотцовщина», иначе мы выжить не могли.
Иногда старшие ребята, поймав собаку, побольше весом, резали её, разделывали и в поле разводили большой костер, на котором жарили огромные куски мяса. Но чаще отваривали. Для этого под мачтами линий электропередач прятали ведро помятое, но не худое. Воду брали из пруда, в котором купались. И не помню случая, чтобы кого-то прохватил понос. Разве что Борьку Овчинникова, но он не в счет – дристун хронический. Признаюсь, и мне в тех пиршествах желудка доводилось участвовать. Мясо как мясо, только иногда попадалась шерсть от не слишком аккуратной разделки. Также ловили и жарили голубей. Я их не любил, мяса мало, а возни много. Но пробовал: курицам голуби уступали.
Столовая под небом «накрылась», когда поле облюбовали цыгане. Одной из новаций Хрущева, как и иные неудавшейся, была попытка привести цыган к оседлому образу жизни. Им выделялись строительные материалы: бревна, тес, железо, кирпич для возведения собственных домов. И первые несколько лет они жили тем, что, получив стройматериалы, перепродавали их местным мужикам, и не по дешевке! Постепенно поселок все же появился. Жили цыгане подаянием, собираемым женами. Те ходили по домам с оравой ребятни и просили под них, мол, кормить нечем. Сердобольные бабы давали, что могли.
Как-то мать вместе с хлебом дала цыганке небольшой шматок сала. Та попросила нож. Получив его, стала тонкими ломтиками нарезать и совать в протянутые грязные руки своего потомства. Оделив всех, стоявших на ногах, она самый маленький кусочек сунула в рот младенцу на руках, тот с удовлетворением зачмокал и стал сосать сало.
– Ты что, – закричала мать, – с ума сошла, он же поносом изойдет…
– А, – махнула та в ответ, – цыганский желудок выдержит все, кроме голода.
Насколько помню, мужики у них не работали, хотя и не торговали. Это позже они займутся вначале реализацией самопальной косметики, а позже – наркотиками. Тогда же вечерами, взяв ящика два пива, усаживались прямо под стенами магазина на Гудованцевой и пили, и орали. Кричали так, что, казалось, еще мгновенье, и возьмутся за ножи. Ан нет, опять пьют и орут. И так до темноты.
Исчезли цыгане так же неожиданно, как и появились. Просто вдруг разом поселок опустел. Куда выехал табор – неизвестно. Но дома они также по-тихому успели распродать.
Страшным и тяжким бедствием являлись нередкие пожары. Помнится один из них на соседней улице. Увидев густой дым и поднявшееся в небо пламя, мы бросились к месту происшествия. Горела обычная мазанка, потому вся и сразу. Первоначально изнутри. Мужик на крыше позвал вдруг меня помочь. Я взобрался по приставленной к стене стремянке. Зачем-то мы стали сдирать толь, обычное покрытие чертолаповских мазанок, и сбрасывать вниз. Затем подхватывали подаваемые с улицы ведра с водой и лили вниз через прогоравший потолок. Лили, пока с улицы не закричали: «Сейчас все рухнет! Спускайтесь». Мы не спустились, слетели. И вовремя. Мигом крышу охватило внутренним пламенем, и она рухнула. Тогда я испугалася.
Домой явился чумазый, в рваных брюках и рубашке, с обгоревшими волосами, дрожащий от запоздалого испуга. После затрещины от матери последовали мытье, переодевание и чай вдвоем с моим сбивчивым и невразумительным рассказом о случившемся. Ребята же моего геройства как бы не заметили. Да и было ли оно?
За старшего
Мы рано взрослели. Глядя на нынешнюю молодежь, не осуждаю её. Разницу между ними и нами, теми, послевоенными, вижу в том, что мы знали меньше, но могли больше, гораздо больше. Матери, затюканные нуждой, главную свою обязанность видели в том, чтоб хоть как-то накормить и хоть во что-то одеть. Вспоминаю, как мать, пришив очередную заплату на латаные-перелатаные штаны и видя мою скорчившуюся физиономию, возмущалась:
– Ты чего лицо воротишь? Совсем даже незаметно.
А какое там незаметно, если едва различимая первооснова серая, а заплата, как уголь, черная. Более или менее приличная одежда полагалась исключительно для школы. На здоровье наше внимание обращалось только в крайних случаях вроде запредельной температуры, перелома, пореза или ожога. Все остальное не считалось. Какие-то там сопельки в расчет не принимались, и ходили мы сопливыми до той самой поры, когда начинали посматривать на девчат. А иные и дольше.
К тому же моя мать часто болела, её клали в больницу, и я оставался один, сам себе хозяин в девять-десять лет. Это жуткое состояние. Конечно, я сам ходил на колонку, которая была на соседней улице, что в полукилометре от дома. Летом еще ничего, а зимой, когда под колонкой лед намерзал так, что ведро не подставить, и наливаешь «внаклонку». Мало налить – надо еще и донести и не по асфальту, а по замерзшим колдобинам проселка. Удивительно, но, в отличие от матери, я быстро приспособился носить ведра на коромысле.
На мне не только вода, но и керосин. Лавка керосиновая находилась на Перекопе, позади «белого корпуса». Тогда не только в частном секторе, но и вообще в домах вся пища готовилась на примусах, керосинках или, последнем чуде техники – керогазах. При всем разнообразии использования объединяло их одно: заправка керосином. Он, в отличие от денатурата, имелся в наличии не каждый день, потому, прежде чем подставить свой бидон под воронку, надо было выстоять очередь, и немалую.
Раз уж упомянул о таком продукте, как денатурат, должен разъяснить, что это такое. Синеватая жидкость в четвертинках предназначалась для прочистки нагревательных приборов, упомянутых выше. Однако использовалась исключительно внутрь, поскольку представляла чистейший девяношестистоградусный спирт, подкрашенный для отпугивания потребителей. Кого отпугивать? Наших мужиков, бывших фронтовиков, не боявшихся ни бога, ни черта?! Пустое дело. Они так и прозвали жидкость «черт», но пили постоянно, в том числе и в многочисленных пивных-забегаловках, именовавшихся однозначно «Голубой Дунай» из-за того, что все красились голубым цветом.
Имелся у нас и свой огород – маленький клочок земли рядом с упомянутым выше прудом и высоковольтными линиями, как раз меж двумя опорами соседствующих мачт. Назвать ту пустошь огородом можно с б-о-о-ольшой натяжкой. Земля глинистая, без малейшей примеси, требовала огромного количества удобрений. Не знаю, продавались ли они? Все вокруг использовали удобрения из собственных сортиров и выгребных ям. В нашей собственности не было ни того, ни другого. Но не зря же говорят, что «голь на выдумку хитра». Вскоре после вскапывания мать пришла просветленной и радостной от посетившей её идеи:
– Колька, ты видел, как в ночное гоняют с конного двора фабрики?
– Ну!
– Не «нукай», а подумай: раз пасутся лошади, значит, должен быть и навоз. Завтра ж пойдем и проверим.
С утра с двумя ведрами мы отправились на Козье болото, месту постоянного ночного выгона. Навоза оказалось достаточно.. Но его еще донести надо (где-то километров пять). Но пришлось тащить. До участка я добрался «никакой». Мать оказалась шустрее. Не дав передохнуть, отправила меня на пруд за водой с теми же самыми ведрами, предварительно вывалив их содержимое на землю. Кое-как дотащив воду, я приступил к изучению основ огородной агрономии. На две трети воды добавляли треть конского навоза и уже замутненный состав выливали под посадки.
Все бы ничего. Оставалось подсыпать картошку и собрать урожай. На посаженное ведро получалось два-три свежей картошки. Но тут кто-то из сердобольных соседок предложил ей рассаду помидор. Посадили. Подкармливать их требовалось постоянно. Раз в две недели я с коромыслом на плече шагал за навозом. Сам ходил, сам смешивал, сам поливал, так как мать угодила в больницу. Я всегда был страшно худым, поэтому на плечах никакой мышечной или жировой прокладки не имелось, и коромыслом разбивал плечи в кровь. Но не отчаивался: зато зимой со своими солеными помидорами будем. Отчаяние пришло осенью. Помидоры, несмотря на все усилия, не уродились. То есть что-то маленькое и зеленое на ветках дрягалось, но очень маленькое и очень зеленое…
Эпопея с приносимым навозом и неуродившимися помидорами надолго отвратила меня от земли. Когда решила Марина приобрести участок, сразу предупредил: «Только не огород! Дача – пожалуйста».
Занимаясь сугубо мужскими делами, я оставался ребенком, наивным и несмышленым. Моя много болевшая мать в очередной раз попала в больницу Семашко. Оставшись один, чувствовал себя неуютно и, неприкаянный, каждый день бегал в больницу с более чем скромной передачкой.


