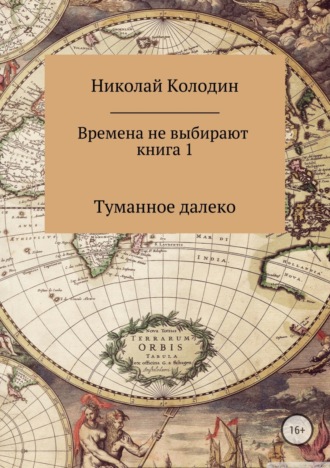
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
Валерка вырос отличным работягой, добрым мужем и отцом, а жизнь закончил трагически. Зарезал его сосед по дому, выстроенному Валеркой собственноручно в поселке Творогово, что на том же Перекопе. Я вспоминаю, и грустно делается: сколько же друзей-приятелей, моих однокашников, однокурсников преждевременно ушло из жизни из-за пьянки, драк, поножовщины? Сейчас фактически никого и не осталось.
Не осталось и школы. Вначале там сделали заводскую проходную, затем всю эту сторону Подосеновской снесли и выстроили новые заводские корпуса с прочным железобетонным забором до самого храма Иоанна Предтечи, выгородив его из заводской территории. Кстати, когда мы учились в той школе, храм находился на территории завода и был недоступен.
Здесь же, поблизости к храму, находился и двухэтажный клуб, куда мы ходили в кино. Фильмов снималось тогда немного, просто мало: один-два в год. Потому выход каждого – событие, общенародный праздник. И сколько бы ни критиковали сейчас тех же «Кубанских казаков», я помню, с какой радостью шли мы смотреть их и во второй, и в третий раз, сочувствуя любви главных героев. К тому же, если не ошибаюсь, это один из первых наших цветных фильмов.
За неимением обилия лент крутили одни и те же. Мы, пацаньё, могли, если удавалось, пробраться бесплатно и улечься на пол перед первым рядом (к чему взрослые относились хотя не с пониманием, но со снисхождением) смотреть один и тот же фильм до бесконечности. Были свои любимые: «Чапаев», «Два бойца», «Подвиг разведчика». Мы их не только смотрели, мы в них играли, мы ими жили. Каждый притом стремился быть Чапаем, Петькой или нашим разведчиком, но никак не белым или уж тем более не фашистом. Но без них какая игра?! Потому врагов играли по очереди.
В заводском клубе смотрели и тогдашний «блокбастер» «Падение Берлина». Цветной. С батальными сценами. С ведущими актерами советского киноэкрана. Фильм не запомнился совершенно. Но вот что сохранила память. Герой фильма каким-то образом оказывается в Кремле. Чистота, благолепие, цветники. И тут появляется Сталин, весь в белом. Навстречу генералиссимусу герой шагает прямо по газону с цветами, еще больше смущается. А Иосиф Виссарионович, отставив трубку в сторону, отечески успокаивает его. Пустячная сцена, но зал начинает аплодировать, аплодисменты не смолкают до конца эпизода. И так до окончания фильма. Каждое появление вождя встречается, как тогда говорили, бурными продолжительными аплодисментами. В темноте кинозала, где не видно лиц сидящих, кто или что заставляло людей таким образом выражать свою любовь к «отцу народов»?
Позже, работая в сельской школе, я нашел солидный дерматиновый ящик, почти нетронутый, только от времени запылившийся. Внутри оказался комплект грампластинок с речью товарища Сталина на каком-то съезде партии. Я поставил на проигрыватель. Действительно, глуховатый, но четкий и по-своему выразительный, несмотря на ощутимый грузинский акцент, голос вождя. Примерно каждая третья пластинка сопровождалась надписью: «Бурные продолжительные аплодисменты». И речь в самом деле постоянно прерывают аплодисменты. Целая пластинка аплодисментов, тиражировать-то зачем? Кому в голову придёт слушать целую пластинку аплодисментов? А затем, чтобы в массах выработался рефлекс на появление вождя как небожителя, если не самого бога.
В заводском клубе показывали не только кино. Помнится, выступал тогда еще малоизвестный цирковой артист Филатов с медведями, которые, к вящему нашему ребячьему изумлению и восторгу, катались на велосипедах.
Здесь же, в клубе, проходили выборы в советы разных уровней. Я любил ходить на них по одной причине. Одна из клубных комнат превращалась в буфет с разными вкусностями, которых в иные дни в магазине и не увидишь. И мать, обязательно прикупив чего-то для дома, отдельно выбирала мне пирожок или конфеты. Когда что. Именно из-за дефицитных продуктов на участок стремились прийти пораньше, пока все не разобрали.
За рельсами, пересекавшими улицу Емельяна Ярославского, по которым с завода вывозилась готовая продукция, забором был огорожен не то сад, не то обширный сквер с танцплощадкой. Вечерами, если удавалось вырваться из дома, прибегал сюда послушать музыку и поглазеть.
Вскоре случилась беда, большая беда. У матери, возвращавшейся с работы, в трамвае украли деньги, всю получку. Украли нагло, открыто, у всех на виду. Просто взяли кошелек из кармана и стали пробираться к выходу. Мать проплакала целый вечер, рассказывая в подробностях о случившемся бабе Кате. Я, притихший, сидел рядом. Но вникал. И когда на другой день мать ушла на работу, сел писать письмо в деревню тетушке Надежде Александровне. Языком заклеив конверт, опустил его в почтовый ящик у школы.
На том все и затихло. Баба Катя согласилась не брать деньги за угол, пока мать не оправится. Оправиться она предполагала вязанием покрывал и подзоров с последующей продажей их на Сенной. Те прежние кровати, железные, покрашенные незамысловатой темной масляной краской, реже с никелированными поверхностями, принято было украшать самовязаными покрывалами поверху и подзорами понизу лицевой стороны кровати, высоко поднимавшейся над уровнем пола. Сейчас вряд ли у кого в потаенных сундуках сохранились они, хотя являлись когда-то непременным атрибутом городского быта.
И вдруг по истечении какого-то времени приходит к нам мое же письмо, отправленное «на деревню к тетушке». В волнении я, оказывается, указал только наш обратный адрес.
Письмо читали вслух. Мать в крайних ситуациях никогда в выборе выражений не затруднялась. А тут кошелек из рук вырвали. Она кричала, и все те выражения типа «ёбиный мать» излагались мною подробно, конечно, с многочисленными орфографическими ошибками, ибо для второклассника сочинение на четырех страницах все же, согласитесь, великовато. Хохотали долго, хоть и не до смеха было.
Неудачное сватовство
Доброжелательницы матери все время пытались сосватать её, мол, долго ли по углам «мыкаться»? В ответ она отмахивалась и закуривала, затянувшись, обычно отвечала:
– Нам чужого отца не надо, нам и так неплохо, верно, Колька?
– Еще бы, – утвердительно кивал я, в душе все же сомневаясь.
Но если бы я хоть чуточку предполагал, что ожидает меня при удачном для «доброжелательниц» стечении обстоятельств! Они каким-то образом умудрились сосватать ей вдовца с тремя детьми.
Его звали Володя. Это был здоровенный дядя с редкими волосами и какими-то мутными глазами. Позже я понял почему. Мне он показался добрым.
Мы переехали на Всполье, тогда совершенно запущенный уголок Ярославля. Сам вокзал представлял группу одноэтажных деревянных барачного типа строений. Сбоку от них в непосредственной близости от железнодорожных путей располагалась дощатая, поднятая над землей на полметра площадка. Хорошо помню её, ограниченную деревянными перилами по периметру, и танцующих весьма солидных дядь и теть, полагаю, транзитных пассажиров, ожидающих своего поезда. Часто и чемоданы стояли там же, на площадке, вот уж где раздолье для жулья!
Ныне танцуют только юные подростки на дискотеках при клубах и ночных увеселительных заведениях. Завлекать призваны заезжие дискжокеи и разнообразные рок-группы. Обязательно с оригинальным названием вроде суперинтеллектуального – «Смысловые галлюцинации» (какой смысл может быть в галлюцинациях?), веселенького – «Крематорий», брутального – «Тараканы» или весомого – Кирпичи».
Тогда, после войны, истосковавшиеся по простой человеческой жизни и фронтовики, и труженики тыла, словно в омут с головой, окунулись в море веселья, именуемое просто: «Вечер танцев». В летнее время – на улице, зимой – при заводских и фабричных клубах. Средний возраст танцевавших – тридцать-сорок лет. Как правило, играл духовой оркестр, а в паузах крутили пластинки с Утесовым или Шульженко. Мы, ребятишки, крутились здесь, зараженные атмосферой веселья и беззаботности, висели на заборе, окружавшем сад и собственно танцплощадку, пытались даже попасть за пределы ограды.
Многодетный жених проживал на верхнем этаже двухэтажного деревянного дома. Если не ошибаюсь, он находился на месте нынешнего Дома культуры железнодорожников, по центру современной привокзальной площади, которой тогда тоже еще не было.
В комнате площадью около 12-15 квадратных метров две стояли кровати по боковым стенам, обе широкие, полуторные. Одна – хозяйская, на другой спали младшие дочь и сын, на полу на раскладушке – еще одна дочь. Мне место оставалось либо на столе (коротком по длине), либо под столом. Еще один вариант – сарайка во дворе, оборудованая, возможно, специально к моему приезду лежанкой. На ней я вытягивался во весь свой рост. И я выбрал сарайку.
Разгар лета. День теплый, солнечный. В школу идти не надо. За праздничным столом (наверное, в какой-то степени свадебным, с гостями) наелся «от пуза» и в сарайке, на той лежанке, благодушествуя, уснул. Проснулся к вечеру. Пришла мать:
– Ну, как?
– Ничего.
– Ну, ладно, я тебя запру с улицы. В туалет захочешь – в углу ведро.
– Валяй.
И остался один. Вечерние сумерки сменились полным ночным мраком. Спать не хотелось совершенно. Сжавшись, прислушивался к бесконечным шорохам, непонятным стукам, гремящему на вокзальной танцплощадке громкоговоротелю. Страх нарастал. Когда стало совсем невмоготу, подбежал к двери. Стал стучать и кричать, чтоб выпустили. Но прийти было некому. Мать, уверен, прибежала бы. Беда в том, что комната окнами на вокзал, а сарайка на противоположной стороне – во дворе. Стучал, кричал, пока не обессилел и, вконец измученный, уснул.
Когда утром пришли мать с Володей, рассказал им о своем страхе, непонятных шорохах и перестуках. Володя, добрая душа, поспешил успокоить:
– Крысы, заразы, тут их полно.
Представив еще одну ночь в соседстве с крысами, я забился в истерике. Володя пытался гладить меня по голове, увещевая:
– Сегодня же с работы крысоловку принесу. Вот увидишь, они уйдут, как только первая попадется. Вот увидишь.
Я не хотел этого ни видеть, ни слышать. Успокоился, только выйдя из сарайки. Дома попил чайку с остатками «торжественного» обеда и подался на улицу, где быстро нашел таких же бездельников, с которыми день пролетел незаметно. Володя меж тем поставил в сарай крысоловку, прочную, сваренную из литых прутьев, способную принять зверя и покрупнее.
Потом был вечер и была ночь. Крыса в приготовленную для неё западню не полезла, продолжала шуршать и стучать. Я уже не бегал к двери, осознав всю бесполезность и стука, и крика. Просто укрылся с головой и пытался уснуть, всхлипывая и давясь безмолвными слезами.
Утром мать, увидев меня, измученного и замурзанного, разрыдалась сама. И мы бы, наверное, тогда же уехали со Всполья, если б знали куда. Увы, не знали, ибо к бабе Кате возвратилась дочь её – рыжая лгунья Галина. Это, как я понимаю, и являлось главной причиной согласия матери на сватовство Володи.
Сам он не очень печалился, получив впридачу к трем собственным детям еще и пасынка. Жил просто. Работая слесарем на ремонте паровозов, ежедневно притаскивал в промасленном мешке всякие бронзовые, медные болванки, детали, чтобы сдать их в металлолом. К вечеру две чекушки водки стояли наготове. Отсюда и жизнь беспечальная, и глаза мутные.
Убежден, что мать никогда не выбрала бы себе такого мужа. Согласилась от безысходности, все же если и не свой, то и не чужой «угол». Мы не предполагали, сколько лет еще придется нести крест бездомности.
«Чертова лапа»
Здесь виделся мне мир реальный,
Скорее матерный, чем материальный, – думаю я, вспоминая свое житье-бытье на этой забытой людьми и богом окраине города с очень точным названием.
Вспольинская маята продолжалась около месяца, пока мать не подобрала новое жильё. На этот раз в «Чертовой лапе». Так назывался поселок на краю Красноперекопского района из четырех протяженных улиц: Декабристов, Пестеля, Рылеева, Чаадаева… К ним вела улица Гудованцева, не менее известного героя отечественной истории.
Трудно понять, чем был вызван выбор столь возвышенных наименований улиц поселка, поставленного в болотине и непролазной грязи переселенцами из мест, затопленных Рыбинским морем. То были, в основном, крестьяне вологодской глубинки, в массе своей малограмотные и малокультурные. И жилье ставили соответствующее: в подавляющем большинстве обычные мазанки. Что они представляли? Поставленные на четыре столба стены из прута либо мелкой леснины, обмазанные глиной, а снаружи, во избежание намокания и последующего разрушения, обитые тесом. Обычно в два окна по лицевой стороне. Небольшое крыльцо и туалет с выгребной ямой на улице, при доме огород, но не сад. Наверное, этой скученной неблагоустроенностью обязана была данная местность еще одному названию – «Шанхай», в обиходе употреблявшемуся даже чаще.
Подобный «особняк на зеленой» и достался нам. Точнее – передний, постоянно мокнущий из-за протечки в крыше левый угол с кроватью. Кровать мать по случаю приобрела у кого-то из местных жителей. Она была полностью металлической, с узорной спинкой и панцирной сеткой, выкрашена в ядовито-зеленый цвет. Под кроватью деревянный, привезенный еще из Мурома чемодан с немудреными пожитками.
На кухне у нас маленький столик-шкаф с дверцами, на две полочки. На них внизу – кастрюля, сковородка, миска, краснозвездная тарелка. Вверху – съестные припасы: буханка хлеба, батон, соль, подсолнечное масло, пачка маргарина, немного крупы, вермишели и макарон. Всё! А что, жить можно. Главное – не в сарайке!
Хозяйка – Маша Страхова, среднего роста, полная, светловолосая, светлоглазая и полусонная. А уж ленивая – спасу нет. Зимой на ночь все тепло выдувало начисто. В избе стояла фактически уличная стужа. В нашем углу сверху вниз спускался толстый продолговатый ледник. Как спали, не представляю сегодня. Зато помню, бывало, бежишь поутру на крыльцо к ведру, чтобы отлить (по большой нужде бегали через огород в будку с выгребной ямой), а хозяйка дрыхнет с храпом, выставив одну ногу наружу сквозь огромную дыру в одеяле. Так и не зашила. Когда муж из тюрьмы возвратился, купил новое одеяло, а старое выбросил.
У неё была одна дочь Валентина, такая же рыжая и бесстыжая. Я с ней не дружил и не враждовал. Младше меня на два класса, да и девчонка впридачу, о чем речь?! Обходились без эмоций, если не пакостила, в чем была она неутомима. Толкнет меня, когда я пишу домашнее задание, тут же в ответ, получив по шее, бежит со слезами к матери. Та, как ворона, летит, растопырив крылья, чтобы изничтожить супостата, и натыкается на мой недоуменный взгляд. Я что? Я ничего! Посмотрит в мои чистые детские глаза и молча улетит. Кстати, забегая вперед, замечу: повзрослев, Валентина сделала неплохую карьеру в комсомоле. И мужа себе нашла там же, такого же верного ленинца.
Матери приходилось хуже. Маша Страхова обладала характером вздорным и неуступчивым. А разобидевшись, могла не разговаривать неделями. Представить только, в избе, общей площадью с кухней от силы метров 20, постоянно зад об зад, и все молча… Мать начнет:
– Маш, ты скажи, если что не так, не молчи только.
В ответ крутой разворот кормой…
Ситуация изменилась нежданно-негаданно и коренным образом. Из тюрьмы возвратился муж, тянувший немалый срок лет в восемь-десять. Ворюга окончательный, но, как сейчас принято говорить, с понятиями.
Николай Страхов, высоченный, худющий, с лицом в суровых складках и жестким взглядом немигающих бледно-голубых глаз. Пару дней попил, присмотрелся и заявляет:
– Вот что, Машка, прекрати над людьми издеваться. Я на это на зоне насмотрелся. Не нравится, скажи, чтобы съезжали. А если деньги нужны, то живи по-людски. Повторять не буду, ты меня знаешь.
Она, видимо, знала очень хорошо, потому что я стал видеть её иногда даже улыбающейся.
А тут еще на свет впридачу к Вальке появилась Танька.
К зиме починили крышу, угол теперь не промерзал, Маша заговорила, Танька заголосила… В соответствии со словами вождя, «жизнь стала лучше, жить стало веселее».
Дядя Коля, так он повелел мне называть его, устроился на работу кладовщиком, что давало ему постоянный «навар». Домой возвращался никакой, то есть в стельку пьяный, но с карманами, полными денег. Моей обязанностью стало вытряхивать эти карманы и деньги прятать.
– А то курва, – он поворачивался в сторону их с Машей кровати, – всё приберет, и хрен назад чего получишь без драки. И добавлял подмигивая:
– А драка нам ни к чему. Так ведь?
Не очень вникая в суть, я послушно кивал.
Обычно его деньги клал к себе под подушку. Поскольку те были мелкого достоинства, а сами ассигнации того времени довольно крупными, то горка получалась внушительная. Утром он деньги сосчитывал и довольный констатировал:
– Всё на месте, как в сберкассе…
И редко, редко выделял своему кассиру и хранителю рубль-другой. Зато делился подробностями их получения, то есть что именно украл, кому «толкнул» и за сколько, а также сколько выпил и сколько пропил.
– Ты слушай и учись. У меня хоть и одна ходка к хозяину, но серьезная. Куда там твоей школе. Вот приходит на зону конвой с новым этапом. Выстраивают всех, и кум говорит…
– Как это – кум?
– Ну, замначальника колонии по оперчасти, все стукачи у него… И говорит: воры (с ударением на «ы») – направо, мужики – налево. Мужики сразу на работу в промзону, воры – в жилую зону.
– А воры что же, не работают?
– Ни в коем случае. Их сажают в штрафной изолятор и раз, и два, от месяца до полугода, а кормежка там такая, чтоб только не подох. Но они, настоящие воры, терпят. Для настоящего вора три вещи обязательны: отсутствие семьи, отчисление от добытого в «воровской общак», и ни в коем случае не работать. Ну, конечно, никаких контактов с «мусорами» (так тогда звали милиционеров). Иначе – сразу на нож…
– Как это? – в очередной раз недоумеваю я.
– Да никак, зарежут и все. Ну, молодняк, прется к ворам. А те их только и ждут. Тут же, что получше, отбирают, заставляют шестерить…
– Как это?
– Ну, обслуживать их… Ты не встревай, слушай лучше. А самых строптивых или тех, о ком с воли нехорошая весточка пришла, и «опустить» могут…
– Как это?
– Чего ты раскакался. Как это, как это… Да никак, бабой сделают, и делов-то. И имя дадут бабское, и платочек повяжут…
Я, совершенно не понимая сути сказанного, представляю себе мужика в платочке и фартучке без брюк с кривыми волосатыми ногами и начинаю хохотать…
– Дурачок ты еще, – в раздумье замечает дядя Коля. – Но ты слушай меня, слушай, я плохому не научу.
Уроки продолжаются и на другой день, и на следующий и в конце концов надоедают мне. Я под разными предлогами начинаю уклоняться от подобного «просвещения». Дядя Коля, мужик умнейший, сразу это просек, и настаивать не стал. Ко мне он относился хорошо, а мать уважал и почитал даже за справедливость, за то, что ни разу ни словом, ни намеком не напомнила ему об отсидке, хотя поводов, особенно в первое время, хватало.
Наш уход не сделал семью Страховых более счастливой, как предполагалось. Буквально тогда же Маша перестала разговаривать с мужем, а он – отдавать ей заработанное праведно и неправедно. Так и жили в одной маленькой комнате с тремя уже кроватями, но молча. И даже когда получили они хрущовскую двушку, кстати, неподалеку от нас, не помирились. Он взял себе маленькую комнату, Маша с дочерьми – ту, что побольше. Зато он вырыл на кухне подвал, получив таким образом дополнительные метры. Маша выдала дочерей замуж и тоже расширила свое пространство.
Он умирал от рака желудка, когда я уже работал редактором институтской многотиражки. Время от времени навещал его и даже как-то пил с ним его «противораковую» настойку на неведомых корнях, противную и крепкую.
За пару дней до смерти пришла Маша:
– Зоя, Николай за тобой послал. Приди, проститься хочет.
Мать вернулась к вечеру, сумрачная и молчаливая, сидела на кухне, смолила свой «Беломор». И только ложась спать, промолвила:
– Жалко мужика, умный, да невезучий…
А я долго размышлял: как же так, ведь в последний час зовут самых близких людей, а он послал не за братом, не старшей дочкой, а за квартиранткой, с которой объединяли их разве что совместные перекуры с разговорами «за жизнь», со взглядами на ту жизнь, часто противоположными. Мать, твердая в убеждениях, уважительно относилась и к собеседнику, и к его взглядам, даже таким путаным.
Здесь же через дом жили Саша и Сергей Страховы. Саша – родной брат, Сергей – более дальний, но родственник. Они делили пополам дом в четыре окна «по лицу», и не какую-то мазанку, настоящий сруб из бревен. Однако смотрелись две половины совершенно по-разному: постоянно обновляющаяся – у Сергея и как-то убого доживающая свой век – у Саши.
Последний, как и Николай, трудился где-то на ниве снабжения и также приворовывал, правда, по мелкому, как раз на водку да курево. Очень редко трезвый, но всегда на ногах. Медлительный и молчаливый. К брату заглядывал крайне редко.
– Женька, змея с иглой, не дозволяет, – объяснял дядя Коля поведение брата.
Змея, полагаю, ясно почему, а с иглой – потому что работала портнихой в какой-то инвалидной артели, коих после войны было бесчисленно. Но и дома подрабатывала. Мастерица, наверное, неплохая, поскольку на дому обшивала не бедных соседей, а людей состоятельных, приезжавших из города. Мы, чертолаповские, называли городом все, что дальше Перекопа с клубом Сталина.
Мужа на людях Женя чуралась и вообще считала себя человеком в высшей степени интеллигентным. Она даже слова произносила, которых никто из соседей не употреблял, например, «педокок», то есть учитель. Была у них дочь Валентина. Красивая девчонка, нравившаяся мне. Нет-нет да под разными благовидными предлогами я к ним заглядывал. Женя каждый раз устраивала концерт для двух зрителей (Коли и Вали), в котором непременно старалась подчеркнуть, что дочь таких обеспеченных родителей, как Валя, не чета такой голи перекатной, как Коля.
– Ты, Валюша, кушай, кушай картошечку, – потчевала она дочь. О том, чтобы хоть из вежливости угостить меня, сидящего рядом за тем же кухонным столом, и мысли у неё не возникало.
– Вон Коля с мамой, наверное, картошечку едят, как яблочки, раз своей нет.
Валентине становилось настолько неудобно, что она, не доев ужин, выскакивала из-за стола:
– Давай выйдем!
– Давай!
Мы выходили на улицу, усаживались на узкую прикрылечную скамейку, и она выдавала:
– Чего приперся-то? – интеллигентных материнских слов она, видимо, не знала.
– Да так, а что, нельзя?
– Можно, только давай без матери.
Это означало – днем. И я приходил. Мы болтали, обнимались и даже целовались, но скорее дружески, чем чувственно. Мал я еще был для того. Если же посидеть не получалось, то я просто переходил с одного крыльца на другое.
Сергей Страхов, в отличие от Николая с Сашей, был невысок, худощав и черняв. Нравом обладал добрым и довольно веселым. Завидев меня, с улыбкой приглашал:
– А, жених заявился, проходи.
Сергей прошел всю войну полковым разведчиком. Вспоминать о ней не любил, только изредка (в основном, по праздникам), выпив, говаривал:
– Уж повезло, так повезло. И жив, и ни одного ранения…
Имел награды, включая солдатский орден Славы и орден «Красная Звезда». Предпочтение отдавал последнему, объясняя:
– Звездочку давали только за подвиг, выше разве золотая звезда Героя Советского Союза.
Я долго приставал к нему, за что конкретно «Красную Звезду» получил, он отмалчивался, иногда буркнув, мол, не детское это знание. Но однажды все-таки разговорился:
– Языка к своим притащил, майора немецкого, а до того двух немцев «зарезал».
Не литературное и киношное «заколол», а просторечное «зарезал» до такой степени поразило меня, что какое-то время смотрел на него не без опаски.
У этих Страховых была дочь Нина и сын Юрка, тогда совсем маленький пацаненок, не ходивший в школу. Я любил бывать у них, но не из-за черноглазой Нины. Нет. Из-за радио. У нас радио не имелось, а здесь в переднем углу висел громкоговоритель-репродуктор, такая черная, бумажная, выпуклая тарелка со специальным, но простым устройством, штепселем, подключавшаяся к радиосети.
Вечерами мы нередко собирались, сидя на венских гнутых стульях с жестким сиденьем у накрытого белой скатертью стола. Сидели безмолвно, внимая действу, происходившему далеко за пределами и дома, и Чертовой лапы, и Ярославля даже. Говорю «действо», имея в виду регулярные передачи «Театр у микрофона». Какие замечательные ставились спектакли, с какими изумительными актерами! С неменьшим интересом слушали оперы. Некоторые из них нравились настолько, что мог слушать и дважды, и трижды. Исполнителей различали по голосу. Конечно, то были Исполнители с большой буквы, а не нынешние солисты, которых, особенно среди эстрадной братвы, на слух отличить затруднительно. Некоторые излюбленные фрагменты я мог повторить полностью, например, известную арию князя Игоря «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить…».
Тепло, светло (у этих Страховых было проведено электричество), уютно, и потому совершенно не хотелось уходить, но куда деться! И я шел в свой худой, необустроенный, холодный и темный дом, где не было ни радио, ни электричества.
Между домами Страховых стояла избушка, обитая по фасаду кусками железа, крашенного в зеленый цвет. Здесь обитало семейство Щукиных: мать Маруся, младший сын Валька, неимоверно худой и бледный, средний – Сашка, поджарый и приблатненный, всеми деяниями своими неуклонно приближавшийся к заключению, и старшая – тоже Валька, в том заключении уже находившаяся. Все они, худые и рыжие, постоянно хотели есть.
Вечно голодной была и скотина Щукиных. Это, прежде всего, коза, в хозяев худющая и неимоверно прожорливая. Обычно, когда мы приходили звать младшего Вальку на улицу, мать непременно сосватывала нам эту козу, чтоб мы приглядывали за ней во время своих игр, привязав поблизости. Игры превращались в погоню за стремительно бегавшей козой, которую удержать на привязи не могло ничто, и мы перестали заходить за Валькой. Общение продолжалось исключительно при игре в «расшибалку».
Почему здесь? Площадка у крыльца щукинского дома состояла из утрамбованного шлака. И уже по весне становилась сухой, что для такой игры имело значение решающее. Суть «расшибалки»: чертилась линия, в центр которой горкой одна на другую ставились монеты. Образовывался своеобразный конус, в основании которого монеты, крупные размером и достоинством. Так что внизу мог оказаться полтинник, а вверху – «гривенник», а то и две копейки. Игроки отходили на заранее оговоренное расстояние и по очереди бросали шайбу, своеобразный металлический кружок, желательно потяжелее, чтобы перебросить её через черту, но, по возможности, максимально ближе к ней. Тот, чья шайба упадет ближе всего к черте, получал право разбить горку с монетами. При этом все перевернувшиеся «на орла», то есть гербом вверх, становились его выигрышем, и он же получал право бить дальше, пока все монеты на кону не окажутся «решкой» вверх. Наиболее умелым удавалось с одного первого раза постепенно выбить весь кон и забрать все деньги. Подобное случалось редко, так же, как редко удавалось попасть в горку на расстоянии.
Главным противником «расшибалки» у щукинского дома были не родители и не погодные условия… Голодными у Щукиных были еще и куры, тощие и неимоверно юркие. Они, завидев блестящие монеты, стремительно налетали и склевывали их, полагая их продуктом более эффективным, чем слежавшийся шлак. Уж мы их гоняли, уж мы их колотили чем попадя. Ничто не помогало. Стоит зазеваться – куры тут как тут. Однажды они склевали горку исключительно с одними полтинниками. Терпение лопнуло. Распинав замешкавшихся, обожравшихся нашими копейками щукинских кур, мы ушли с щукинского двора и больше сюда не возвращались: уж больно накладно выходило.
Сама Маша Щукина – лентяйка неимоверная. Часами могла стоять на крыльце в одной рубахе и опорках на босу ногу, поджидая кого-либо, направлявшегося в сторону поля и далее магазина, чтобы наказать купить себе хлеба. Мне кажется, ничего другого они никогда не покупали. Однажды в положении следующей в магазин оказалась моя мать. На просьбу прикупить буханку черного мать посоветовала ей сделать это самой. Маша ответила, что ей не в чем идти, нет резиновых сапог. Без них в Чертовой лапе пробраться весной и осенью было невозможно.
– Маша, так купи, вчера в лабазе (магазин на Перекопе) я видела хорошие и недорогие сапоги женские.
– Так они ж литые, а мне надо лаковые, блестящие. Это ты в фабрику можешь в любых идти, а я в обчестве работаю, с людями…
Маша, действительно, работала в обществе и часто с людьми: убирала туалеты клуба имени Сталина. Кстати, пасти свою козу она подпрягала нас, обещая пропустить в кино бесплатно.
Маруся, высокая, худющая, с прядями немытых черных волос, темными подглазинами, но непременно накрашенными бровями и губами (работа в «обчестве» обязывала!), выглядела, мягко говоря, страшновато. Тем не менее постоянно меняла сожителей, первоначально появлявшихся у неё в качестве квартирантов. И только вышедшая из заключения старшая Валька положила конец этой традиции. Теперь сожителей приводила она… Я помню первого, курносого и белобрысого, трудолюбивого и отзывчивого, но, главное, непьющего. Маша звала зятя обидно и непонятно «Паляля», хотя у того было приличное имя Павел. Каким образом попал он в «щукинский» шалман? Валька околдовала, не иначе. Она, которой в масть даже её рыжина, не в мать стройная и красивая, могла и окрутить, и околдовать.
Еще одними близкими соседями были те, что жили в доме напротив: отец, мать и две дочери. Мать работала в «новой» фабрике, отец – на мясокомбинате. О нем разговор отдельный. Дочери: одна первоклассница, а может, и второклассница, другая старше меня – так лет тринадцати-четырнадцати. Те часто звали меня играть, когда родителей не было дома. Играли мы в дочки-матери, а поскольку ни к той, ни к другой категории отнести меня было невозможно, то мне отводилась роль доктора.
Используя стол и стулья, мы раскидывали одеяла и покрывала так, что получался своеобразный шатер. Тут у нас был и дом, и приемная врача одновременно. Старшая приводила ко мне младшую и просила посмотреть:
– Что-то кашлять она стала.
Затем являлась на прием и сама. Конфиденциальность при этом соблюдалась строго. Пока одна на приеме, другая ожидает в коридоре, то есть на противоположной стороне шатра.
Обеих осматривал внимательно. Они раздевались до трусиков. Я прикладывался лицом, то есть ухом, к груди – у маленькой, и к грудям – у большой. Да, у неё уже были пусть небольшие, но вполне сформированные груди. Послушав, начинал ощупывать тело пальцами.


