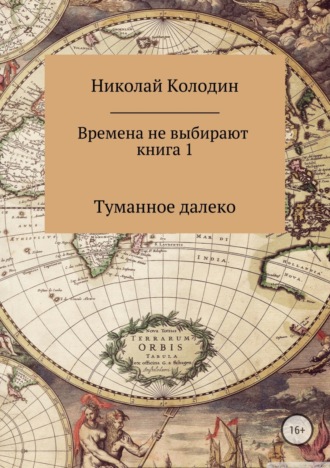
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
– Не балуй, – кричал Николай Васильевич.
Кобыла в ответ только испуганно пряла ушами и трясла гривой, но бежала резво. После города резала слух тишина, пахло чем-то неповторимо весенним: талым снегом, прелой соломой, рвущейся на свет зеленью.
Дома нас ждали не только «охи» и «ахи», но и накрытый стол с самоваром.
Торжественные похороны Сталина мы воспринимали через репродуктор. Всесоюзное радио организовало прямую трансляцию. Все мы, большие и малые, сидели круг стола и внимали тому, что происходило в столице. Перед погребением состоялся траурный митинг с прощальными речами «группы товарищей» из Политбюро ЦК КПСС.
Слушали их в гробовой тишине. Даже мы с Валеркой притихли, боясь схлопотать по шее за неразумное поведение в столь ответственный момент. Тишина нарушалась только всхлипами дяди Николая Васильевича, которые он чередовал громким высмаркиванием печали своей в тряпочку. Тетушка смотрела на него молча. Не проронила слова и мать, которая к политике вообще относилась равнодушно. И только когда стал говорить Берия, Николай Васильевич нарушил молчание, но как?
– Не верю ему, не верю, и всё тут. И нисколько ему не жалко нашего Иосифа Виссарионовича.
Потом, когда Берию арестовали, чтобы расстрелять, как «английского шпиона», я не раз вспоминал тот комментарий старого артиллериста, человека, не очень грамотного, газет не читавшего, книг – тем более, и поражался: как мог он, не видя, опираясь только на речь, транслируемую не очень качественным радио, проникнуть в суть «верного друга и соратника» отца народов? Загадка.
Большая неожиданность поджидала дома. Опустела улица и округа. Пока был в деревне, арестовали всех наших старших ребят, сразу всех, брали прямо из дома. Случилось то, что и должно было случиться.
Годом либо двумя раньше у Маши Щукиной появился очередной квартирант. Среднего роста, подтянутый, смуглый, с черными вразлет бровями, исключительно аккуратный, по нашей грязи проходил, не пачкая сапог. Виделось в его вкрадчивой походке что-то из зоны. И вежливым был на удивление, с каждой бабушкой поздоровается, никого из соседей вниманием не обделит. Одевался скромно, но чисто, в целом как все. Но неизменным атрибутом одежды являлись черные хромовые сапоги и каракулевая папаха или шапка. Кличку по тем временам имел редкую: «Чечен». Может, по национальности, а может, по внешности. Бог его знает. Но если б только из-за типично кавказской внешности! Кстати, почему не грузин, например? В общем, «чечен» и «чечен».
Тогда национальности никакого значения не придавалось, и жили все действительно одной семьей. К примеру, на левой окраине Чертовой лапы тогда находилось много татар. И не было меж русскими и татарами не только разногласий, но даже и намека на них. Дружили семьями. Вместе терпели нужду, стояли в очередях, работали и учились. В каждом классе было несколько ребят из татарских, обычно очень многочисленных, семей. Вопрос о национальности никогда не стоял. Хотя, помнится, нет-нет, да и дразнили мы татарчат, сворачивая полу пиджака, получая некое подобие уха. Почему ухо? Да потому что дразнилка употреблялась время от времени: «Кильманда, свинячье ухо!» Что означает первое слово, и тогда не знал, и сейчас не знаю. Но если младшие на это никак не реагировали или реагировали слабо, то от старших в это самое ухо получали мгновенно. Горячий народ, вспыльчивый. Но гостеприимный. Мне случилось пацаном побывать даже на свадьбе в семье моего одноклассника. Запомнились тягучие татарские песни под гармошку, напиток«буза» с желтоватой пеной поверху, наподобие русской браги. Пьется легко, а в голову шибает. И обилие мясных блюд, чрезвычайно вкусных, исключительно из конины. Тогда с мясом было напряженно, и не потому, что нельзя купить, просто на мясо не хватало денег, и мясные блюда, во всяком случае, в нашем домашнем рационе достаточно редки, а тут такое раздолье! И я отрывался по полной. Еле до дома добрался.
«Чечен» нутро свое проявил не сразу. Присматривался, прислушивался, принюхивался. Особенно приглядывался к старшим пацанам. Чем приманивал приглянувшихся, не знаю, но постепенно сформировалась целая кодла человек в пятнадцать. Если шли в кино в клуб XVI партсъезда, то куролесить начинали еще в буфете. Садились всегда на балконе, где пили бутылочное пиво и курили, плевали и сбрасывали вниз шелуху от семечек, конфетные обертки и прочий имевшийся мусор. Контролерша заходить к ним боялась, народ, как всегда, безмолвствовал.
И откуда что только взялось у вчерашних одноклассников, партнеров по футболу и другим ребячьим играм! Походка вразвалочку, руки в брюки, папироса в углу губ и, конечно, косая челочка, белый шарфик и «прахаря». И еще какая-то непонятная озлобленность, выражавшаяся в постоянном стремлении довести любой спор до драки, утверждая свое превосходство. Отсюда и мат вместо членораздельной речи, обогащенный блатным жаргоном, и подзатыльники замешкавшимся младшим по возрасту, и обильное хвастовство.
Брали к себе не всех. Меня, скажем, бог миловал. Причина, полагаю, в том, что плохо бегал и не лучше видел. А Генку Сумкина, просто бредившего блатной жизнью, не принимали из-за болтливости… Словом, критерии отбора формировали стаю.
Прикормив, чечен» стал нацеливать их на добычу. Вначале грабили пьяных, потом одиноких прохожих. Путь стандартный. А кончилось тем, что «чечен» нацелил их на ограбление «орсовского» ларька в Филино. За Волгой, специально на максимальном удалении от постоянного места проживания.
Ночью пришли к ларьку, взломали дверь и вынесли, говорят, практически все там имевшееся. А имелось довольно много. Унести не смогли и половины. Оставшееся сложили в принесенные с собою мешки и зарыли в снег неподалеку. Будь с ними главарь, такой глупости он не позволил бы совершить. Но хитрющий и многоопытный «чечен», разработав план, вбив его в головы своей кодлы и проводив их на «дело», сам в центре города развязал драку и был задержан милицией. Так что в момент совершения кражи находился в отделении, алиби стопроцентное.
Там он скучал несколько дней. А субчики его, явившись домой с награбленным, ударились в загул, покупая пирожные, мороженое, конфеты, пряники, одаривая направо и налево награбленным. К брату Сеги Толе Сергиенкову (он отказался идти на грабеж) принесли несколько отрезов ткани и попросили спрятать, что тот и сделал.
Когда загул кончился, пошли за оставшейся добычей. Там их ждали. Взяли всех пришедших, остальных добирали на дому, заодно собирая припрятанное и еще не прогулянное.
Следствие шло недолго. Для оперативников главным было выявить зачинщика, в котором они сразу же заподозрили рецидивиста «чечена». И уже в первые дни допросов это имя было произнесено и зафиксировано. Дальше дело техники. Сроки ребята получили внушительные, от четырех до восьми лет, «чечен» пошел на десять.
Бабенки, помнится, больно жалели паренька с соседней улицы. Один сын у матери, при всей скудости жизни дошел до десятого класса, и на тебе. Уговорили его пойти на дело, пообещав костюм для выпускного вечера. В грабеже он не участвовал, стоял «на атасе», но три года схлопотал. И конец всем надеждам. Все проклинали «чечена», да что толку.
В школу после траурных каникул мы вернулись переволновавшиеся и перевозбужденные. Учителя не могли того не заметить, но отнесли на счет печальных событий, потрясших страну. И хоть это было не совсем так, разубеждать не стали.
Лето пионерское
Беседуя с друзьями, я иногда называю себя «дитем коллективизации и коллективизма». Дошкольное время прошло в детских яслях и садике, да еще и на «круглосутке». Отсюда садиковые привычки и пристрастия, скажем, сплю на правом боку, сложив ладони под щеку, как того требовали от нас воспитатели. Утром – обязательно каша, в обед – обязательно суп, за ужином – обязательно молоко или кефир. По той же «садиковой» привычке крайне нетребователен к еде, то есть «всеяден». Да и откуда взяться гурманству, если жевали мы все, что попадалось под руку…
Потом школа с обязательным набором правил, въевшихся на всю оставшуюся жизнь, вроде обязательной белой или просто чистой рубашки на выход и короткой стрижки в повседневной жизни. Наверное, по той же причине не понимал, да и не пойму никогда мужских локонов по плечам или конского хвоста, схваченного резинкой, за плечами.
Но школа – зимой, летом же – пионерский лагерь. Нашим, перекопским, был пионерлагерь имени Вячеслава Михайловича Молотова, близ станции Лютово. Собираться начинали с марта. Я пытался ныть, даже когда мать была чем-то занята:
– Мам, а путевки еще не распределяют?
– Нет.
– Мам, а нам путевку дадут?
– Дадут.
– Мам, а в какую смену?
– Размамкался, откуда я знаю – в какую?
– А ты проси в первую…
Уж так хотелось выбраться из проклятой мазанки, уйти от повседневной грязи на улице и огорода в поле. Она меня понимала, и чаще всего я выезжал именно в первую смену. В конце мая она приносила домой путевку с горнистом на лицевой стороне, а внутри – на одной стороне необходимые врачебные отметки, на другой обязательный перечень предметов, необходимых для пионерлагерной жизни (хотел написать лагерной, да в последний момент одумался).
Начиналась веселая суета: посещение поликлиники, магазинов, вещевого рынка на Сенной, где можно было приобрести то, чего нет в открытой торговле. Затем собирались в Рабочем саду, где сдавали путевку и определялись с отрядом. И наконец наступал день отъезда. Мы с небольшими заплечными мешками, а кто и с портфелем, приходили к клубу Сталина, где ждали подхода трамваев. Подходило сразу несколько. Нас грузили, и трамваи, трезвоня, без остановок шли с поворотом у Градусова на Московский вокзал.
Вспоминаю ту привокзальную площадь, совсем непохожую на нынешнюю. Во-первых, почти вплотную к вокзалу подходило трамвайное кольцо, оставляя лишь полосу для движения автомобильного транспорта. Во-вторых, гораздо обширнее и тенистее был сад, занимавший фактически всю ту площадь, со скамейками, какими-то будками и массой пассажиров, коротающих время до прихода своего поезда. Шум, гам, тарарам. А тут еще мы в таком количестве и с духовым оркестром. Никакой базар не сравнится с толчеёй и шумом, царящими во время нашего прибытия сюда. Наконец, подается состав, у каждого отряда свой вагон, номер которого указан в окошке. Но все равно находятся путаники, забирающиеся не в свой вагон, что выясняется при перекличке после отправления.
До Лютова путь недолгий, но достаточный, чтобы познакомиться и даже подружиться. С каждым годом друзей становилось все больше, а к классу седьмому получалось так, что весь отряд давно знаком друг с другом. Знакомство, к слову сказать, оказывалось настолько прочным, что, уже повзрослев, мы при редких встречах, радовались приятелям.
От станции Лютово до лагеря шли пешком, а это километра два. Правда, без вещей, их вез грузовик. Но все равно уставали, и не только от расстояния, но и от всеобщей сумятицы. А в лагере нас ждал обед, в первый день всегда вкусный и с каким-нибудь сюрпризом вроде мороженого. После обеда валились в кровати и засыпали, чего, конечно, никогда не случалось дома.
Горн будил на полдник, после которого обязательно следовал сбор отряда. Очень важный сбор, на котором распределялись должности: председатель совета отряда, звеньевой и, наконец, флажконосец – должность в лагерной табели о рангах последняя, хотя обладатель её шел впереди всех. Страсти разгорались нешуточные, ибо редкие, но все же имевшиеся круглые отличники продвигались пионервожатой на должность председателя. Мы же, в массе своей презиравшие таких «любимчиков», возражали, как могли, бузили и голосовали против. Это было представление!
Пионервожатая взывала к нашей совести:
– Мальчики, да как же так?
И не понимает, что само понятие «мальчики» для нас нечто в локонах, бантиках и кружевах – всё равно, что красная материя для быка. Мы шумим, выкрикивая фамилии дружков, знакомых и незнакомых, но не «мальчиков».
– Мальчики, вы же дезорганизуете всю работу, – старается она перекричать нас.
Но бесполезно, мы только удивляемся: взрослая, а не понимает, что нам никакая организация и не нужна, в лагерь мы ехали за свободой.
Я, не претендуя ни на какие должности, всегда оказывался среди бунтующих. На моей памяти только раз в жизни меня, пятиклассника, избрали флажконосцем. Должностью я тяготился и при любой возможности, то есть когда никто из старших не видит, таскал флажок под мышкой. А потому до конца смены в должности не удержался.
Лагерь наш находился в сосновом лесу на возвышенности, внизу бежала неспешно речка, не шире метров десяти, но и в ней купаться нам разрешали крайне редко, под строгим присмотром не более десяти минут с получасовым перерывом на загорание. Кругом тьма брусничников и множество ползучих гадов: ужей, медянок. Случались и ядовитые укусы, тогда укушенного срочно увозили на машине в город.
У меня они вызывали стойкое отвращение, но были ребята, которые спокойно носили ужей за пазухой, чтобы затем бросить их в окно девчоночьей палаты. Сразу визг, писк, а для нас потеха! Были и свои экспериментаторы от биологии. Эти, убив ужа или медянку, закладывали в муравейник. Несколько суток, и чулок из змеиной кожи готов. Оставалось только вытащить позвоночник.
Наши павильоны – обычные дощатые бараки, длинные – по двадцать коек по каждой стороне, крашенные легкой голубой краской, легко смываемой дождями. Так что вид к концу лагерного лета был у них не очень презентабельный.
Туалеты, с десяток дыр на постаменте, тоже дощатые. Девчоночьи туалеты отделены от наших слабой перегородкой. И не было для многих из нас запретного плода слаще, чем подглядывание в многочисленные дырки за приземлившимися соседками. Обычно они это чувствовали и поднимали страшный крик на весь лагерь, но поймать ни разу никого не удалось.
Лагерный день начинался звуками горна, выводившего незамысловатую мелодию, которую мы распевали так: «вставай, вставай, шкарята надевай». Быстро к умывальнику под открытым небом, чистим зубы, ополаскиваемся – и на построение. Нет, не на завтрак. Вначале общее построение на лагерной линейке с подъемом красного флага под звуки Гимна Советского Союза, исполняемого детским духовым оркестром.
На линейке извещали о распорядке дня, делали важные сообщения, а также с позором изгоняли из пионерских рядов провинившихся. Самая распространенная провинность – курение. В первом старшем отряде курили почти все. За папиросами бегали в ларек на станцию. Получалось два нарушения, ибо другим считался уход от лагеря более чем на полкилометра. Нередко сообщали о побеге из лагеря. Часть ребят, особенно из «домашних», суровых и нудных условий местной жизни не выдерживала и сбегала уже день на третий.
На моей памяти произошло даже исключение из пионеров. Трое «ухарцев» замыслили дело, до той поры неслыханное: похитить сладкое из кухни. Они дождались тихого часа, ухода взрослых из столовой и стырили ящик с финиками. А в ящике – весь лагерный полдник. Каким-то способом они дотащили его к реке, там вскрыли и начали «лакомиться». Но финик – продукт, на простой желудок не рассчитанный, да и вообще много этой вкусности не съешь. Насытились быстро, а ящик практически полный. Что делать? Не мудрствуя, сбросили в реку. После явились в павильон, улеглись и, пресыщенные, уснули. Пришло время полдника, дежурные разлили чай по кружкам, пошли в кладовую за финиками и не обнаружили их. Что тут поднялось! Стали искать пропажу, и вскоре самые маленькие из младшего отряда нашли её на дне реки. С помощью взрослых ящик извлекли, но финики оказались непригодны к употреблению. Они размокли и потекли. Лагерь без полдника, начались поиски виновных. На общем построении обещали вызвать милиционеров с розыскными собаками, которые обнаружат виновников по запаху, якобы оставшемуся на ящике. Кто-то из участников кражи поверил в ту «лабуду» и смалодушничал. Виновников выставили перед линейкой и прилюдно исключили из пионеров, сняли красные галстуки, сообщив, что уже утром их, как исключенных, из лагеря отвезут в город.
К нашему большому удивлению, старшим оказался капитан нашей футбольной команды, громившей команды всех пионерских лагерей в округе. Любимец публики, особенно девчоночьей, стоял понурив голову, а после линейки сбежал. Его искали. Но зря. Как потом оказалось, он отправился прямиком на станцию и уехал в город на притормозившем товарнике. Я хорошо знал этого парня из «белого корпуса». Позже он стал известным хирургом и профессором Ярославской медакадемии. Сейчас его уже нет.
Но возвратимся к самой линейке. Подъем флага – это, как минимум, минут пять, и поскольку происходит утром, то без проблем. А вот вечером при спуске флага мы буквально мучились, потому что местность перенаселена комарами. Мы же в трусах (брюки брались одни и только для торжественных случаев) должны стоять, не шевелясь, на протяжении всего ритуала. Время от времени кто-то обязательно «взлягивал», стараясь согнать присосавшегося комара, тогда наша старшая пионервожатая давала команду начинать всю процедуру сначала. Нередко истязание длилось до получаса и дольше.
Старшую пионервожатую мы ненавидели всей своей детской душой, и если появлялась хоть маленькая возможность отомстить, то использовали её. Обычно дело ограничивалось тем, что из-за кустов мы распевали «старшая вожатая, дура конопатая», что бесило её, симпатичную, черноволосую и черноокую. Учителей своих за очень редким исключением не помню по имени, а её – не только по имени, но и по фамилии и до сих пор. Это Зоя Беляйкова, известная в Ярославле акробатка. Чем она покорила фабком, не знаю, но каждый раз нам для знакомства представляли одну и ту же «гарну дивчину» в пионерском галстуке, красиво спадавшем своими концами на высокую грудь. И процедуры с поднятием и спусканием флага продолжались.
День был наполнен уборкой территории вокруг павильона, всякими построениями у входа для разучивания речовок, пионерских песен, маршировкой. Далее следовали общелагерные мероприятия, из которых самое веселое – игра «Военная тайна», когда мы бегали в поисках запрятанных записок, указывавших направление к записке следующей. И так до конца маршрута, в конце которого, если повезет, находился приз, чаще всего в виде угощения для всего отряда. Далее – дежурство по лагерю, значит, и по столовой. Мы тогда сами чистили картошку и овощи, сами накрывали и убирали столы, а вечером сдавали столовую в полной чистоте и порядке. Неприятная работа? Не скажите! Зато дежурным в обед выставлялся целый бак компота. Подчеркну, не сэкономленный во время разлива, а готовившийся специально для дежурного отряда. К тому же дежурные по столовой могли не спать в тихий час, и мы отрывались на этом компоте до икоты и поноса.
В целом кормили нормально, а в сравнении с домом даже хорошо. Но вот суп очень часто давали гороховый, наверное, потому, что горох – самый дешевый продукт, к тому же питательный. С одним недостатком: пучило с него, а газы вылетали шумно и в самый неподходящий момент, например, во время маршировки.
Но в любой ситуации можно найти положительный момент. В тихий час, как только уходили воспитатель с пионервожатым, мы устраивали соревнование, кто громче пукнет и кто продолжительней. Имелся среди нас один, выводил целые рулады, словно играя на басовой трубе, прямо артист оригинального жанра. Суп тот мы звали или музыкальным, или духовым.
В молотовских лагерях всегда была очень сильная художественная самодеятельность, потому что занимались ею профессионалы из фабричного клуба имени Сталина. Одно лето я ходил в танцевальный кружок, где мы разучивали классические бальные танцы с названиями типа «падеграс». Помню название, но не танец. Запомнился другой – «краковяк», который мы танцевали на лагерной сцене в родительский (или посетительный) день. У танца занятная концовка: партнер брал за кончики пальцев партнершу, делал круг и с ходу падал на одно колено. В означенный момент для большей убедительности я не упал на колено, а рухнул на него, разбив в кровь.
Мать, свидетельница моего танцевального триумфа, плакала и ругалась. В танцевальный кружок больше ни ногой, и пару лет подряд занимался в кружке драматическом. Им руководил человек, чрезвычайно своим делом увлеченный, по имени Виленин, с ударением на «и». Имя мне нравилось, и хотелось узнать, что оно значит. Думалось о каких-то франко-испанских корнях, а оказалось просто сокращенное Владимир Ильич Ленин. Виленин, как человек творческий, был неимоверно вспыльчивым и горячим. Добиваясь нужного произношения, жеста, походки, вгорячах мог и выматерить. Но, поскольку мы его любили (как и он нас), то об этой слабости помалкивали. Оба раза ставились очень короткие одноактные пьески из школьной жизни с надуманными приключениями и переживаниями. Однако зрителям, особенно из числа родителей, они нравились, и свою долю аплодисментов мы получали.
Имелась в лагере и своя библиотека, куда я рвался уже по приезде, но она свои двери открывала день на третий-четвертый. Читателей было мало, и я мог неспешно порыться в имевшихся развалах из старых, потрепанных (чтоб не жалко потерять) книг и журналов, всегда находилось что-нибудь любопытное. И уже в отряде, расположившись на койке, мог часами читать, ни на что не реагируя, на чем и попадался не раз, ибо лежать на убранной кровати запрещалось.
Все мы с нетерпением ждали танцевальных вечеров. Мало кто из нас умел танцевать разные там вальсы и фокстроты. Не в том дело, каждый раз с нетерпением мы ждали танца, который именовался «переходный вальс». Суть его в том, что образовывался из пар большой или огромный, в зависимости от числа желающих, круг. Партнеры, соприкоснувшись или ударив друг другу в ладоши, переходили к следующей партнерше (партнеру). А ведь у каждого была своя, тайная, очень редко явная, симпатия. И только в переходном вальсе ты получал возможность прикоснуться к ней. Это и волновало, и будоражило.
Праздником в лагере считался посетительный день, когда родители могли приехать, поменять грязные наши трусы и майки на чистые и подкормить чем-нибудь вкусным. Но и руководство лагеря не из дураков, меню в этот день поражало бедное воображение перекопских обывателей и качеством, и разнообразием. Короче, гулянка полная. Этого дня все ждали с нетерпением. Мы выходили сразу после завтрака далеко за пределы лагеря к дороге на станцию. Родители шли длинной чередой, и каждый вглядывался, стараясь не пропустить своего. О том, как горько становилось, если к тебе не приезжали, и говорить не приходится.
Дождавшись матери, брал её за руку, и в лагерь мы шли уже вместе. Затем она у павильона дожидалась, пока я соберу белье грязное и оставлю себе чистое. Затем уходили куда-нибудь на природу, и она кормила меня доставленными гостинцами. Обычно это печенье и конфеты. Но однажды она привезла литровую банку очищенной хамсы, приправленной зеленым луком и пахучим подсолнечным маслом, действительно любимой мною. Ну, сколько я мог съесть – грамм 100 максимум. Остальное принес в палату и выставил на общий стол:
– Налетай, пацаны!
И они налетели, литровая банка опустела в несколько минут, и самые предприимчивые, заглядывая матери в глаза, спрашивали:
– Всё? Больше нет?
Еще один посетительный день запомнился тем, что проходил в юбилей нашего лагеря. Руководство комбината послало приглашение Вячеславу Михайловичу Молотову. И он откликнулся. Где-то к обеду над лагерем вдруг появился одномоторный самолет-биплан, который, сделав круг, приземлился на обширной поляне внизу, служившей футбольным полем. Все бросились к самолету, с которым прибыло и поздравление от главы Советского правительства, и подарки. Что было подарено, не помню, но помню, что тогда в лагерь приехал директор комбината «Красный Перекоп» по фамилии Кустарев, являвшийся, как говорили, свояком А.Н.Косыгина. Высокий, статный, в шикарном светло-синем костюме, на лацкане пиджака которого горела звезда Героя Социалистического Труда. В лагере на общих основаниях постоянно отдыхали две дочери его. Хочу подчеркнуть, на общих основаниях. Мы знали их, они знали нас, не задирали носа и не «кобенились» перед строем. Впрочем, иначе с перекопской пацанвой нельзя, народец дружный, даже, точнее будет сказать, коллективистский, где обязательно все должны быть равны, к тому же вспыльчивый и охочий до драк.
Возвращусь к соседке нашей Маше Щукиной, той, что работала «в обчестве». Когда приходила пора распределения путевок, Маша одевалась во что похуже, не румянилась и не красилась и даже не причесывалась и такой растрепой, издерганной жизнью, являлась в фабком с требованием (!) бесплатной путевки для сына Вали. Стоили они не очень дорого, где-то около восьми рублей, но при зарплате в 250 – тоже деньги. Каждый раз её пытались урезонить, мол, совесть имей, другие живут не лучше, почему же только тебе бесплатно. Тогда Маша падала на пол и «теряла сознательность» (её собственное выражение). А фабком, что в «белом корпусе», весь размещался в одной большой комнате, и там всегда толчея, как в магазине, с тем же шумом, распрями и скандалами. А тут еще баба на грязном полу с закатившимися глазами. Её быстренько поднимали, отпаивали и вручали-таки бесплатную путевку. Каждый год!
Однажды Валя явился на сборы в белых трусах и красной майке, пошитых из старых транспарантов. На майке остались не до конца отстиранные большие буквы Х и Р, наверное, остатки лозунга, призывавшего «хранить верность делу Ленина-Сталина». Однако наши «огольцы» преобразовывали их в разные словосочетания, из которых самым безобидным получался «хрен моржовый».
Вальку в лагере не любили активно и прилюдно, то есть измывались над ним по любому поводу и без повода тоже. И не по причине обнаженной до неприличия бедности его. Все мы жили в бедности, за исключением, может, дочек директора, но те были девчонки свойские, и, как рассказывали знакомые девчонки, все домашние гостинцы вываливали на общий стол. И это по– нашему, по справедливости. Валька же, прихватив из столовой бутерброд или просто кусок хлеба (он всегда что-то прихватывал), норовил даже эту дармовщину, на которую никто не покушался, съесть тайком под одеялом после отбоя. Ему кричали вслед обидное: « Жадина-говядина, в жопе перекладина». Даже били, стараясь отучить от «плохой привычки», но бесполезно. И тогда решились на большую каверзу.
Как ни плохо мы жили, но в столовой за завтраком почти все отказывались от сливочного масла. С одной стороны – не привыкли к нему, в семьях чаще использовались маргарин, маргусалин и подсолнечное масло. У нас, насколько помню, сливочного масла не было никогда. С другой стороны, и само масло без холодильников выглядело неприглядно: на столе быстро расплывалось, и когда мы садились за еду, на тарелочках рядом с кашей лежало нечто желтоватое в зеленом обрамлении полужидкого состояния. На тарелочке оно и оставалось. В очередной посетительный день Валькина мамаша привезла полуторалитровую банку:
– Ты, Валя, маслице-то не оставляй, складывай в баночку.
И этот рыжий «хрен моржовый» повадился ходить на завтраки с той баночкой, и когда мы с визгом бежали после завтрака куда глаза глядят, он торопливо собирал масло с тарелок. Дежурные ему не мешали: им ведь мыть посуду, а без масла моется легче.
Тогда наши «отцы-командиры», сплошь ребята корпусные, собрались на совет с одним вопросом: что делать? Перебрав кучу разных вариантов, остановились единодушно на одном: в канун нашего отъезда из лагеря по очереди «отлить» в Валькину банку, что и сделали, предварительно выбросив за окно почти все скопленное им масло. Отряд пионеров стал с нетерпением ждать вечера, когда Валька по обыкновению вытаскивал из тумбочки прихваченное в столовой, а заодно смотрел, как прибывает содержимое в банке. Он ведь маме обещал в оставшееся время наполнить её доверху. Увидев банку, Валька несколько удивился:
– Пацаны, а чо это тут все позеленело и расплылось?
– Дурак, жарко ведь, и масло тает, а цвет и в столовой такой же…
– Так вроде бы и масла поменьше было…
– А ты не видел дома, что ли, когда оно тает, увеличивается…
Но, во-первых, дома у Вальки не только сливочного масла, но и маргарина никогда не было. А во-вторых, был он дурень непробиваемый и потому охотно поверил. Аккуратно завязав полную мочи банку, он убрал и хранил её до отъезда.
Мне потом всегда хотелось узнать, как дома ту банку открывали и что последовало. Не решился, это было бы чересчур.
С радостью мы в лагерь ехали и с не меньшей радостью возвращались. Причем всегда торопились так, что какие-то вещи забывали, я – обязательно. То трусов мать не досчитается, то маек, а уж галстука, который с «нашим знаменем цвета одного», – всегда. Почему я забывал его, не знаю, тем более, что в школе он необходим был не меньше, чем трусы с майкой. А может, даже и больше, поскольку только его наличие проверялось.
Но лето пионерское на том не заканчивалось. Существовал еще и городской лагерь, куда бралась путевка на вторую смену. Этот лагерь первоначально размещался в сквере, позади «белого корпуса» и механического завода, на довольно ограниченном пространстве. Тем не менее, имелась площадка с дорожками для проведения линеек с флагштоком, крытая сцена со скамейками перед ней. Питались в фабричной столовой, тоже, в общем-то, рядом. Но здесь городской лагерь просуществовал недолго, поскольку сквер по периметру, кроме одной стороны, примыкавшей к механическому заводу, ограничивался дорогами, к тому же прямо через него проходил и железнодорожный путь от хлопковых складов к комбинату. Соседство для детского окружения опасное, и во избежание беды лагерь перевели в Рабочий сад. Тут простор для города более чем достаточный.
Начальником лагеря стал бывший мой физрук – «штурман» Николай Федорович Сапронов. Он каким-то образом узнал, что я умею горнить. Премудростью игры на духовом инструменте без клавиш я научился еще в молотовских лагерях. Блестящая труба сводила с ума блеском и своеобразным изяществом. Я выпрашивал её, ныл и надоедал до такой степени, что горн мне давали, но без мундштука Я же научился обходиться без него и выдувал все нужные горнисту мелодии типа «Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед» или «Спать, спать по палаткам пионерам, октябряткам».
Человек рачительный, физрук быстро скумекал, что может получить штатную единицу за «просто так». И не ошибся. Я согласился сразу, потому что и мне такой расклад был выгоден: с домашних хлебов долой на пару месяцев, а питание в фабричной столовой довольно приличное, словом – не домашнее. Так я оказался в штате, без зарплаты, за еду. Но зато свободен от всяких построений. Иногда, правда, приходилось помогать старшим, чаще всего в присмотре за малышами…


