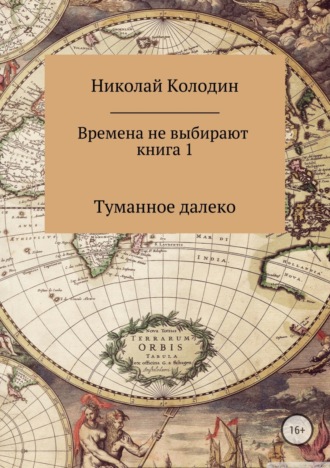
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
Кроме филармонии, были еще художественные выставки, театральные премьеры, затягивавшиеся за полночь диспуты в областной библиотеке. Небольшое двухэтажное здание областной библиотеки, по-домашнему уютное и теплое, постоянно заполнено. Устраиваемые диспуты собирали не только поэтов и писателей, но и музыкантов, артистов, архитекторов, к культуре людей неравнодушных, потому что посвящались не только литературе, но и иным проявлениям творчества. Не стало библиотеки, снесенной в свое время вместе с находившимся позади Мытным рынком, и ушла та теплота, которая грела нас в далекие шестидесятые-семидесятые годы прошлого века. Ныне, проходя Советской площадью, вспоминаю о ней не без грусти.
Еще одним значимым местом культурной жизни, может, даже самым значимым, в те годы стал театр имени Ф.Г.Волкова во главе с неистовым Фирсом. Именно Фирс Шишигин, приглашенный в Ярославль главным режиссером первого русского театра, сделал театр всесоюзно известным. Думаю, многие согласятся со мной, что ни до, ни после Фирса равного ему не оказалось. Поставленные им спектакли такие разные, от русского «Печорина» до молдавской «Касэ Марэ», нередко спорные, но одинаково интересные и неповторимые.
А какое созвездие актеров он собрал! Белов, Чудинова, Ромоданов, Нельский… Правда, ошибся в молодом Смоктуновском, изъявившем желание попасть в труппу. Но, с другой стороны, надолго ли задержался бы тот в Ярославле, вопрос?
Из молодых блистали два Феликса: Мокеев и Раздьяконов. Мокеев, тонкий, изящный, темноволосый, со взгядом горящим и походкой летящей, обреченный на поклонение и внимание к собственной персоне. Невероятно талантливый на сцене, он, как все настоящие творцы, был талантлив во всем: в частности, неплохо владел стихом и рисунком. Мне довелось, сидя рядом с ним на каком-то диспуте, наблюдать, как он делает шарж на очередного выступающего. Блокнот на коленях, карандаш легко летает над листом, линии ложатся уверенные и четкие. Через несколько минут рисунок готов. При всем шаржевом утрировании схожесть с образом удивительная. В театре тех лет Мокеев – это, прежде всего, Печорин. Нескромно, наверное, говорить так, но ходили не на Лермонтова, ходили «на Мокеева». Жаль, что скоро он перебрался в Москву, где затерялся среди столичных звезд.
В Феликсе Раздьяконове уже тогда угадывалась кряжистость фигуры и основательность характера. Его ведь тоже в Москву переманивали, да не переманили. И в кино он успел сыграть, причем главную роль. То был совершенно забытый ныне фильм «Журналист», еще догерасимовский. Фильм с Феликсом не задался. И он никогда больше в кино не снимался, хотя, знаю точно, приглашали.
Через первую жену Эмму мы сошлись с семьей Раздьяконовых, и мне довелось не раз бывать и в их первой квартире на проспекте Ленина, и в той, откуда ушел он от нас навсегда, на улице Чайковского. В последней – гораздо чаще.
Сразу за «домом Иванова», перейдя улицу Большая Октябрьская, на правой стороне, в тени кустов, цветов и деревьев стоят двухэтажные, уютные, провинциально милые дома, скорее, даже домики, среди которых выделяется один под номером 12а. Выделяется крутой островерхой крышей в несколько готическом стиле, что неудивительно, ведь строили здание пленные немцы и, вероятно, по своим немецким проектам. Во всяком случае, подобные строения мне приходилось в изобилии видеть под Калининградом. Здесь, на первом этаже, сразу при входе направо жили они с женой Лирой, её мамой (или, как говорил Феликс, «любимой тещей», они действительно относились друг к другу с любовью) и дочерью Асей. Прямо над ними лучшие друзья – Сергей Тихонов с Натальей Терентьевой.
На кухне всегда шумно и дымно, курили оба: и Феликс, и Лира, – а тут еще я добавлялся. Квартира просторная, но предпочитали почему-то по-русски кухню. Да, в общем, ясно почему. На кухне чай, а какой душевный разовор без него? Лира пила всегда несладкий, зато мы с Феликсом отыгрывались на конфетах и прочих сладостях.
Брак их не иначе, как благословен небесами. Ведь до того оба – семейные. Причем сам развод пар поразителен. Бывший муж Лиры уехал с бывшей женой Феликса. И те, говорят, жили также счастливо.
Лира, красавица, умница, работала урологом в областной больнице и практически всю свою жизнь посвятила мужу. А быть женой артиста – счастье не из легких…
– Завидуют дуры, – говорила она мне. – А чему завидовать? Я ложусь спать – он еще в театре, утром ухожу на работу – он еще спит. А когда свободен, то поклонницы покоя не дают ни ему, ни мне…
Она не жаловалась, а подчеркивала, что без большой любви брак с таким человеком невозможен.
Феликс Иннокентьевич родился в 1930 году в городе Дзержинске Горьковской области. В 1932 году семья переехала во Владивосток, так что вырос он на берегу Тихого океана и лучшими местами на земле считал бухту Золотой Рог и Амурский залив. Во Владивостоке увидел несколько спектаклей театра драмы и понял: чтобы стать артистом, должен учиться в Москве. Отец – человек крутой и решительный, выслушав, без долгих разговоров и не дав опомниться, сказал: «Собирай, мать, чемодан, пусть едет и учится».
Ехать пришлось долго – 15 дней, в результате на экзамены опоздал. И здесь, на его счастье, в училище им. Щепкина при Малом театре объявили дополнительный набор!
– На творческом конкурсе, – вспоминал он, – как обычно, читал стихи, прозу. Народу в приемной комиссии много, председатель – великая Вера Николаевна Пашенная. Взять должны были двух человек, а желающих – восемьдесят, внешность у всех эффектная. Приуныл. Половину стихотворения прочел – «достаточно», прозу только начал – «спасибо». Ну, думаю, конец! Ничего не выйдет! Оттого, наверное, когда начал басню читать, словно освободился от волнения. Но при чтении басни лица членов комиссии вдруг подобрели. Позже вызвали нас и объявили, что приняты Раздьяконов и Перунов».
У его учителя, тогдашнего главного режиссера Малого театра, народного артиста СССР Константина Александровича Зубова была одна очень интересная оценка. Просмотрев какую-нибудь студенческую работу, он произносил: «Более-менее», и они готовы были прыгать до потолка. А если Зубов говорил: «Серьезно», ну, уж тут праздник на неделю. И это «серьезно» осталось с Феликсом навсегда, ибо театр не терпит половинчатости и поощряет лишь тех, кто принадлежит ему целиком.
Феликс всегда подчеркивал: «В 1956 году я пришел в театр имени Волкова и до сих пор имею честь ходить по его подмосткам. Он – единственный в моей жизни театр, и этим я горжусь. В моей второй, практической, учебе вновь повезло – само присутствие в театре таких актеров, как Белов, Комиссаров, Ромоданов, Чудинова, помогло стать на ноги. Тогда театр им. Волкова был очень известен…
Не знаю ни одного артиста, который бы сказал, что его жизнь сложилась счастливо, все благополучно, ладно и приятно. На театре так не бывает – это организм, порой жестокий. Служба в театре – всегда риск. К примеру, хочешь занять одно место, а тебе говорят – «будьте любезны, ваше место пониже». Рвешься сыграть Ивана Грозного, а тебе дают роль Васи Брючкина. Я счастливо избежал самой страшной для актера напасти – безработицы. Это главное наказание на театре, и мне испытать его не довелось. Я постоянно играл. В ролях, не всегда больших и главных, но играл.
Если человек вдохнул однажды воздуха театра, обратно уже не выдохнет, назад пути нет, театр – это навсегда. Наверное, я не решусь преподавать. Я ведь даже не знаю, что будет дальше со мной, строить планы на театре – дело неблагодарное, и если уж рисковать – так своей судьбой, а не молодыми учениками.
Иногда спрашивают: «Как вы работаете над ролью?» – а я не знаю, что и отвечать. Я знаю, как начать роль, куда идти, но из чего складывается образ – это проверить алгеброй нельзя. Иногда во сне приснится решение роли. Скажешь – мистика? Может быть, но так бывает».
И еще одно его высказывание: «Театр – это чудо, непознанное и непознаваемое до конца, это единственный вид искусства, где зритель видит живое действие, происходящее с живым человеком, здесь и сейчас, не на пленке, не на холсте… Любопытный момент: ныне, при крайне сложной экономической ситуации, многое безвозвратно утрачено, а театр – нет, он жив. Думаю, потому, что мы, актеры, служим живому искусству, в котором мы и скрипки, и скрипачи одновременно, а живое искусство не умрет никогда».
Его хоронили при огромном стечении народа 8 мая 2004 года, провожая в последний путь аплодисментами и возгласами «Браво!» На гражданской панихиде друг и партнер по сцене народная артистка России Наталья Ивановна Терентьева обратилась к нему с пушкинскими строками: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой…»
Отпевали покойного в храме Леонтьевского кладбища. Во время отпевания безмолвие присутствующих прервал младенческий крик. В приделе одновременно проходил обряд крещения. И кто-то сказал: «Другие не закричали, только один голос подал… будущий артист родился…» Почему бы и нет?
Музыка, кино, театр, не говорю уж о нашем творческом кружке. Вспоминаю и думаю, откуда у меня, выросшего в среде, не просто далекой от музыкальной классики, а враждебной ей, в среде беспрестанного пьянства и поножовщины, эта тяга к прекрасному? Ну, откуда? Наверное, от естества. В той же Чертовой лапе слушали же мы транслируемые по радио оперы и оперетты, спектакли и концерты. И не видя, а только слушая, представляли красоту, не передаваемую радиоэфиром. Значит, заложено изначально. Конечно, среда могла все загубить, уничтожить. Но мне повезло.
Жахнули на свою голову
Преподаватели интересные. Запомнились Семенов и Ременик. Первый высокий, грузный, всегда в светло-сером костюме, усыпанном сигаретным пеплом, вел, наверное, самый интересный курс литературы зарубежной – античную литературу. Читал интересно настолько, что многие записывали его лекции по возможности дословно. Но едва раздавался звонок, тут же прекращал рассказывать, подхватывал видавший виды пухлый портфель и устремлялся в туалет. Думали – почки, оказалась – фляжка. И непременно «Перцовка». Исключительно она. Он быстро забулькивал свою норму, торопливо курил и шел продолжать повествование. Ни на тембре голоса, ни на скорости рассказа, ни на содержании это никак не отражалось.
Ременик запомнился другим. Маленький, бритый наголо, он наведывался из Москвы. Таких наезжих было несколько, тот же Башкиров, например. Ременик читал курс«Литература «серебряного века», небольшой, но насыщенный великими именами. При этом говорил по-русски очень плохо: «ейтот косподдин Блёк» – так в его устах звучало имя великого поэта. Но курс редкий. Масса имен еще не открыта цензурой, книг не издавалось, поэтому по окончании лекции его окружали с вопросами. Посреди рослых наших ребят он стоял незаметным. Таким клубком, в центре которого находился Ременик, вываливались из аудитории. На расстоянии разглядеть преподавателя невозможно, и о присутствии его свидетельствовали доносившиеся: «Коспожа Акматова и Мэрин Сцвитаева…»
Зарубежную литературу XIX века читала Валентина Кондорская, дама интеллигентная и своеобразная, с претензией на манерность, строго выдерживавшая дистанцию в общении не только с нами – студентами, но и с коллегами – преподавателями.
Как свой курс она доводила до нас, осталось за пределами памяти. Запомнилось другое. Именно с ней приключилась у меня история из ряда вон. Поскольку курс наш являлся экспериментальным, то на нас опробовались некоторые новации министерства, и одна из них давала нам возможность досрочной сдачи экзаменов. Пользовались ею немногие. Но я убедил Стасика Алюхина в преимуществах подобной ситуации: не сдадим досрочно, в зачетку все равно «неуд» не поставят, ведь явились по собственной инициативе. А нет оценки – значит, придем с группой.
И мы попробовали. Первый эксперимент пришелся на экзамен у Кондорской. Мы нашли её на кафедре, вызвали в коридор и попросили принять у нас экзамен досрочно. Она категорически возражала, то ли убоявшись подобной смелости со своей стороны, то ли от неуверенности в наших знаниях. Но отставить нас в сторону – задача трудновыполнимая, если выполнимая вообще. Мы шли к намеченной цели, как учили партия и комсомол, твердо. Она комсомольского натиска не выдержала и согласилась:
– Хорошо, тогда в пятницу до занятий в 11-й аудитории.
Это самая маленькая аудитория на первом этаже: шесть столов, 12 мест. Для лекций совершенно непригодна, да и для семинаров мала, потому всегда свободна.
В пятницу мы встретились и убедились, что оба не готовы. То есть что-то, конечно, знали, но не для уверенного выхода к экзаменатору. Как быть? И тут Стасик предлагает:
– Без ста граммов не разобраться, пошли в буфет да жахнем для храбрости.
Преподавательский буфет, маленький и уютный, располагался слева от большой студенческой столовой. Хозяйничала там Лиза-Лизавета, мать той самой машинистки-гимназистки из редакции институтской многотиражки. Она в свое время представила меня матери, что потом позволило мне в часы, когда у преподавателей занятия и буфет пуст, харчиться там в долг. Но, как известно, на добродетели махровым цветом распускается наглость. И я, зная, что в буфете всегда в наличии коньяк, водка и портвейн, стал иногда заходить сюда и для того, чтобы выпить. Как правило, с лучшим другом. Вот почему он вспомнил о буфете. Остановить бы его и остановиться самому. Так нет же! Первым пошел. Буфет, на наше несчастье, оказался пустым, даже Лизы не видно. Она появилась из подсобки, услышав стук сдвигаемых стульев.
– Чего надо студентам в неположенном месте?
– Студентам надо водочки.
– В долг не налью, а то вы всей группой ходить повадитесь.
– Давай не в долг четвертинку.
– Так я вам разолью прямо в стаканы и бутылку минеральной принесу для видимости.
И мы, приняв дозу, отправились на экзамен. Засели в аудитории, ожидая Кондорскую. Она пришла ровно в двенадцать, села, разложила билеты и пригласила к столу. Я двинулся первым, вытащил билет с совершенно мне незнакомыми произведениями и отправился на место.
«Парился» недолго. Кое-как вспомнив кое-что, пошел отвечать. Мы сидели за одним узким столом напротив друг друга, и это решило всё. Едва начав рассказывать, обратил внимание на нервную и непонятную её реакцию. Раздувая ноздри, она поводила головой из стороны в сторону. Этого оказалось недостаточно. Она встала и пошла к окну. Склонилась к углу в стене. Тут до меня дошло: принюхивается. Пора заканчивать. Я замолчал. Она предложила перейти ко второму вопросу. Я перешел и завершил ответ еще быстрее, стараясь при этом дышать в сторону.
– Да, не ахти что, но кое-что, – резюмировала Кондорская. – Больше удовлетворительно поставить не могу.
– Так и ставьте, – едва дыша, согласился я.
Получив зачетку, пулей выскочил из аудитории. Стасику не повезло. Не усек он её волнения. Как человек интеллигентный и непьющий, она сразу уловила запах алкоголя, но не могла понять, откуда он? Вот и принюхивалась к окнам и углам. Опять же, как человеку интеллигентному, ей в голову прийти не могло, что запах – от студента, потому я и проскочил. А тот задышал всеми жабрами и прямо в лицо. Она поняла, но отнесла случившееся исключительно к нему и удалила с экзамена. Из аудитории вышла первой, пришлось предусмотрительно отвернуться к противопожарному плакату на стене. Стасик брел следом удрученный, но не так чтобы сильно:
– Факир был пьян, и фокус не удался, – резюмировал он
– Пить надо меньше, а то «пойдем да жахнем»… Жахнули на свою голову.
«Икар» расправляет крылья
Не помню, была ли на факультете стенгазета к моменту моего поступления. Но позже появилась и стала, пожалуй, самым заметным и лучшим явлением общественной жизни в институте. Одно название чего стоило – «Икар»!
Я отметился в самом начале стихотворением. Так себе стишок, но о нем сказали на творческом кружке, что казалось высшей оценкой. Особенно приятно было слушать похвальные отзывы наших девушек.
Наш «Икар» заметно отличался от привычной стенной печати. Чем именно?
Во-первых, объемом. Газета из десятка, а то и полутора десятков склеенных впритык листов ватмана получалась очень длинной и занимала место от начала коридора до двери нашей восьмой аудитории. Каждого очередного номера ждали с нетерпением, и как только он появлялся, а делалось это во время лекций, чтоб не было суеты, сразу начинал толпится факультетский люд, то есть не одни лишь студенты.
Во-вторых, авторами газеты были, кажется, все, пусть некоторые однократно. Из преподавателей наиболее активными являлись преподаватель кафедры литературы Николай Григорьевич Зеленов и заведующий кафедрой русского языка Григорий Григорьевич Мельниченко. Материалы их отличалась регулярностью, но не тематикой. Первый писал исключительно о партизанских буднях к датам и без даты, второй – о своей боевой комсомольской юности и проблемах диалектического словаря, над составлением которого кафедра трудилась.
В-третьих, наш «Икар» изначально был печатным, то есть материалы отпечатывались на пишущей машинке, а потому читались легко.
В-четвертых, каждый лист оформлялся очень художественно и красочно не только за счет фотографий, но и рисунков и даже шаржей.
Но главное, здесь были представлены все мыслимые и немыслимые жанры и очень интересные материалы, включая критические. Прошлись, помнится, и по нашему со Стасиком Алюхиным ведению концерта в конкурсном смотре факультетов.
Выпускали газету студенты Паша Сорокин и Рита Ваняшова. Они стоили друг друга. Оба веселые, талантливые, заметные. Большинство из нас уверено было, что это будущая прекрасная супружеская пара. Но сложилось иначе: Паша женился на другой, а Рита осталась одна. Не судьба!
Паша Сорокин рос вместе с пятью братьями и сестрами на полустанке Секша в Любимском районе. Учился в известной на всю область Ермаковской школе, которую окончил с золотой медалью. Поступил к нам через год или два после меня. Длинный, тонкий, рыжий, вихрастый, он выделялся легкой, прыгучей походкой. Сразу проявились два его несомненных таланта: он взялся за редактирование факультетской стенгазеты «Икар» и включился в молодежный самодеятельный театр, руководил которым молодой актер театра имени Ф.Г.Волкова Николай Коваль.
Еще первокурсником объявился в редакции газеты «Северный рабочий» и стал сотрудничать с ней, в отличие от меня, очень плотно. Его корреспонденции отличались хорошим литературным не штампованным языком, свежестью взгляда и высокой эмоциональностью, что не преминули отметить в журналистском коллективе. Из рук самого редактора студент (!) получил корреспондентское удостоверение, а после окончания института и приглашение на работу.
Павел стал литературным сотрудником отдела информации, спецкором по Ярославлю, а чуть позже и самым молодым заведующим отделом. В центре внимания его отдела были советская работа и быт. Особенно удавались ему публикации, посвященные жизни областного центра. Запомнилась одна – о перспективах развития улицы Свободы, в которой он подробно рассказывал, где и какие здания появятся. А закончил словами, мол, не надо рассчитывать, что расти они (здания) будут быстро, как грибы после дождя.
Вскоре молодого журналиста пригласил тогдашний председатель облисполкома В. Попов в качестве своего помощника. С тех пор он проработал с четырьмя руководителями области. В круг его обязанностей входила связь с Москвой, переписка и контакты. А что значит отвечать за контакты? Это исключительное доверие, ибо именно он отсеивает желающих получить у губернатора аудиенцию. Подобные доверительные отношения у него сложились с губернатором, позже сенатором, Анатолием Ивановичем Лисицыным. Тот не раз говорил, что за все годы совместной работы его помощник ни разу не сказал «не знаю», «не умею», «не могу».
Я не раз бывал у него в «Белом доме». Кабинет Паши перпендикулярный кабинету губернатора, и попасть к тому, минуя Павла, нельзя. Высокие полномочия не изменили наших прежних отношений. Хотя, конечно, должность наложила отпечаток: работая в системе, невозможно не соответствовать ей. Появилась жесткость во взгляде, уверенность в жестах, умение сказать «нет». Но всегда мои обращения, а они были исключительно рабочего характера, Павел удовлетворял.
Павел – человек нестандартный. Например, своим счастливым считает число «13», убежден, что оно сопутствует ему всю жизнь: в этот день он поступил в институт, пришел на работу в «Северный край», получил комнату, потом квартиру, стал лауреатом Всесоюзного конкурса самодеятельных театров.
Скажу откровенно, для меня его переход к председателю облисполкома В. Попову в качестве помощника явился полной неожиданностью, ибо знал несомненные творческие способности. А творчество, подчеркну, любое, независимо от направленности и уровня таланта, обязательно предполагает тягу к независимости и определенной свободе. А тут роль помощника, человека, зависимого от «хозяина» целиком и полностью. Как-то оправдывало переход Паши в иную ипостась то, что сам Попов слыл известным книголюбом, собравшим самое полное в городе собрание книг серии «Жизнь замечательных людей». Человек высококультурный, неординарный, в дальнейшем занял в столице министерский пост.
Рита Ваняшова – совсем другое дело. Коренная горожанка, к тому же ярославна, она росла счастливой и обласканной как дома, так и в гостях. Мама Анна Дмитриевна Ваняшова – собственный корреспондент «Правды» по Ярославским и трем соседним областям. Должность такая, что первые секретари областных комитетов партии предпочитали с ней дружить «навечно». Эта приязнь в полной, а может, даже и в большей степени распространялась на Риту. Но и сама по себе она без внимания не осталась бы. Девочка умная, на язык острая, с очень своеобразным шармом.
Главной страстью Риты была не журналистика вовсе, а театр. Мама – театралка, ходила не только на все премьеры театра имени Волкова, но и на многие, так называемые, прогоны. И всегда с дочкой, ставшей любимицей театральной труппы. Рита выросла на глазах ведущих актеров театра, но и они стали ведущими у неё на глазах. Любовь к театру оказалась столь велика, что сказать что-нибудь дурное о ком-то из труппы значило оскорбить её лично. Сам на себе испытал это, сказав пару легких и хлестких фраз по поводу одного из актеров. Глаза Риты потемнели, она бросила: «На себя посмотри…». Однако врагами не стали и, общаясь, всегда делились творческими планами, проблемами. Помню, с какой горечью говорила она мне, что написала к юбилею театра двухтомную монографию, в которой прослеживается вся его история от основания до дня сегодняшнего. А издать не может. Ни область денег не дает, ни Москва. Да и меценатов не видится на горизонте. А когда работала над подготовкой к изданию дневников известного театрала Григория Ивановича Курочкина, то просила разрешения воспользоваться очерком о нем из моего трехтомника «Ярославские эскулапы».
Ныне почти не видимся. Она не ходит на журналистские «посиделки», видимо, хватает театральных. А больше видеться и негде, разве что на похоронах кого-то из ветеранов журналистики. Но там какой разговор, скорбь одна.
Она шагнула дальше и выше матери. Ныне Маргарита Ваняшова – доктор наук, проректор театрального института. С журналистикой долго не порывала, являясь бессменно ведущей интереснейшей литературной полосы «Уединенный пошехонец» в газете «Золотое кольцо». Член Союза журналистов России, она не раз становилась лауреатом всевозможных творческих конкурсов, выпустила несколько интереснейших книг, так или иначе связанных с театром.
Опять Питер
Всю зиму не прерывалась связь с Ленинградом. Я писал Маше, она – мне. Письма слала интересные, для студентки технического вуза очень содержательные, не все мои одногруппники-гуманитарии способны на подобные. Она напоминала о моем обещании приехать летом, и еще зимой я засобирался.
Прежде всего, следовало выяснить, где определиться на постой. Зимой все за нас решал питерский горком комсомола, летом рассчитывать на его поддержку, по меньшей мере, наивно. Потом вспомнил, что мать говорила о своей родной тетке Симе, жившей вроде бы именно в Ленинграде. Едва дождавшись её прихода с работы, спросил прямо у порога.
– Зачем она тебе?
– Хочу летом сгонять в Ленинград.
– К Маше, – уточнила мать, знавшая о моей переписке, а может, что-то и читавшая.
– К Петру.
– Какому еще Петру.
– Великому или Первому, какой тебе больше нравится?
– Да, ну тебя, – махнула она рукой.
Весь вечер я выпытывал у неё сохранившиеся в памяти подробности. Их оказалось не так уж много. Они с Симой виделись крайне редко, и то в раннем детстве, поскольку, чуть повзрослев, мать ускользнула от жадной мачехи.
Родную сестру отца звали Серафима, попросту Сима. Росла она обычной деревенской девкой: в меру упитанной, вовсе не страшной на вид и работящей. Недостатков всего два: криклива не в меру и придурковата. Какой хуже, мать определить не могла даже по истечении времени. Вспоминала: «У дома под окнами лежали огромные бревна, настоящие, с опиленными стволами, обрубленными ветками, ошкуренные. Отец, то есть Александр Егорович, вытаскивал их из хозяйского леса по одному, тайком, глухими ночами. Предназначались они для смены подгнившего нижнего венца сруба. Но вылеживались, дабы вышла вся влага и проступила смола. Крайнее бревно использовалось в качестве скамьи не только членами семьи Блаженовых, но и соседями, любившими именно здесь посидеть, поговорить за жизнь с Егорычем (так уважительно звали отца матери односельчане), человеком, в Питере бывавшим, виды видавшим и газеты читавшим. До применения бревен в дело руки не доходили и не дошли. Одним солнечным днем расселась на них Сима, лузгала семечки и смотрела по сторонам. Тут мимо едут на нескольких телегах мужики. Остановились. Попросили водицы испить. Сима сбегала в избу, вынесла ковш. Попили. Симу пряником угостили. Совсем своими стали. Принялись расспрашивать про жизнь, она и понесла. А они слушают с интересом, головами кивают, бороды неспешно теребят. В конце концов, засобирались и напоследок спросили: бревна, мол, не мешают? Сима спроста:
– Хоть бы кто убрал их…
– Мы и уберем, поможем такой красавице.
– Валяйте, – махнула рукой зардевшаяся от похвалы Сима.
Те быстро бревна завалили на телеги, туго перевязали и исчезли с глаз долой.
Вернувшийся с поля Александр Егорович долго и остолбенело смотрел на пролежни, оставшиеся от бревен.
– Где стволы? – закричал наконец.
– Так увезли, – охотно объяснила Сима.
– Кто?
– Так мужики какие-то. Хорошие, пряником угощали…
Отец лишился дара речи и задохнулся от охватившего его гнева, что спасло Симу от неминуемой кары. Мог вгорячах и насмерть зашибить. До самого своего конца он поминал те бревна, которые тащил из леса на своем горбу. Говорил:
– Знал, что дура, но чтоб до такой степени, – и беспомощно разводил руками.
Время шло, Сима взрослела, в работе матерела, но ума не прибавила, а потому грамоты не осилила и лишь с трудом корябала свою фамилию. Но, когда в первые послевоенные годы настала в деревне полная голодуха, сообразила, что пора сниматься с места. Сама ли додумалась, подсказал ли кто, не суть. Главное – куда рванула? Собиралась-то вроде бы в Ярославль, но оказалась в Ленинграде. Никакой специальностью не обладала, могла только граблями да лопатой работать, за плугом и бороной ходить, короба да мешки таскать. Зато за двоих. Именно эту её способность и приметили в колыбели революции, предложив должность дворника и комнату с пропиской. Она согласилась. Взамен получила полный набор подсобного инструмента в виде ведер, швабр и метел и комнатку под лестницей прежнего доходного дома на Петроградской стороне, что из парадной вела на верхние барские этажи. А вскорости, неожиданно для деревенской ярославской родни, родила мальчика, названного ею Виталием.
Претензий по работе не возникало, Сима убирала двор и подъезды спозаранку начисто. Замечаний в быту иметь не могла, поскольку отродясь вина не пила и табаку не курила. Душу отводила в скандалах, где перекричать её не было никакой возможности, тем более что-то доказать. Сима никогда дурой себя не считала и даже, напротив, всегда готова была дать совет и ответ каждому и по любому вопросу, включая международные. Газет по неграмотности своей не читала, зато телевизор смотрела исправно, особенно новости.
Рассказ свой мать подытожила грустно:
– Принять-то она тебя примет, потому что родню чтит, но вот как ты уживешься с ней, не знаю. Человек она, мягко говоря, непростой…
– А, ерунда, – махнул я, – простой – непростой, лишь бы не пустой. Чаем с утра напоит, да вечерком картошечки поджарит, и достаточно. Теперь как бы поскорей адрес её узнать.
Я отправил письмо в ленинградский адресный стол и, к удивлению своему, уже через неделю получил ответ с точным адресом.
Как только закончилась весенняя сессия, стал соображать в отношении поездки. Сообщил о своем предполагаемом приезде, чуть позже уточнил время приезда и номер поезда. А уже в начале июня с портфелем в руках (сменные трусы с майкой, пара рубах, зубная щетка с электробритвой и скромные подарки) ночным поездом отбыл навстречу Маше и Симе. Как ни долго тащился поезд, идущий через Рыбинск и встававший, кажется, на каждом полустанке, к полудню следующего дня все же оказался в Ленинграде.
Встретил Виталий. Судя по имевшейся у нас маленькой фотографии довоенной Симы, он повторял мать полностью, за исключением пола. Такой же взлохмаченный, приземистый, широколицый и губастый. Но внешностью сходство и кончалось. Витя, довольно развитый парень, окончивший успешно десятилетку и какое-то крутое техническое училище (ну, ремеслуха, если проще), работал слесарем-сборщиком с вполне приличной зарплатой. В отличие от матери, говорил негромко и неспешно, основательно. О заскоках её с юмором рассказывал мне по дороге.
В доме на Кондратьевском проспекте у них была приличная комната в 25 «квадратов» в двухкомнатной квартире. Соседи – не старая, но и не молодая супружеская пара. Как ни удивительно, жили дружно, ванной пользовались, не перехватывая другу у друга, равно как и туалетом. Кухня огромная, метров двадцать, не двум, а трем семьям места хватило бы.
У Симы в комнате балкон. По градостроительной практике той поры балкончик маленький, но вдвоем постоять можно, чем мы с Витей и пользовались, чтобы покурить. Сима запах табака не выносила, ругалась, и потому даже на балкон старались выходить как можно реже. Вид из балкона потрясающий: вместо традиционного двора с цветниками и кустарником – территория металлического завода имени какого-то съезда КПСС, то есть вагоны, машины, склады, грузчики, круглосуточный мат работяг и копоть заводских труб. Но если смотреть просто через дверь, не выходя на балкон, ничего не видно и не слышно.


