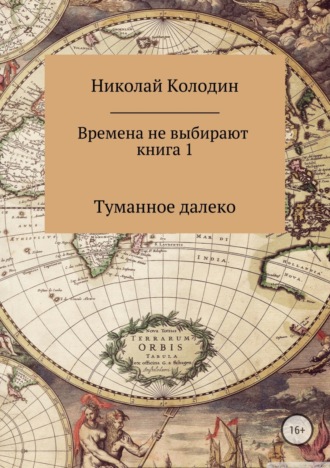
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
– Лёвушка, у Никиты Сергеевича действительно, – тут она уважительно понизила голос, – несварение и грыжа. Мужчина вроде бы нестарый еще и в соку!
– От сока и несварение, – шуткой попытался отделаться зять.
На помощь матери пришла дочь, она подняла мужа из-за стола, и вместе они отправились к Разиным навестить школьную подружку.
Уехали поутру, оставив после себя пряные запахи полузабытых стариками разносолов, остроту столичных слухов и веру в скорейшие перемены.
А пару недель спустя у дома раздался треск мотоцикла и громкий стук в дверь. Чуть позже полудня, еще светло, не пасмурно. А на крыльце в огромных мотоциклетных очках, танкистском шлеме и крагах стоял чем-то знакомый мне парень.
– Вам кого? – осторожно спросил я.
– Тебя, и никого более. Не узнаешь?
– Да нет вроде.
– А если творческий кружок вспомнить?
– Герка, ты что ли?
– Я что ли в гостях у Коли, – скаламбурил он.
– Заходи.
Дед меж тем, оказывается, в окно гостя разглядел, поставил самовар и звал жену:
– Софьюшка, собери нам что-нибудь на стол.
Софья Васильевна выплыла заспанной (послеобеденный сон нарушился) и оттого не очень довольной. Но воспитание, но выдержка! Приветливо улыбаясь, скоро собрала нехитрую снедь. А дед извлек из настенного шкафа пол-литровую бутылку водки.
– Гер, ты будешь? – для приличия поинтересовался я, зная, что отказа не последует ни под каким предлогом.
– Буду.
– А мотоцикл? – осторожно поинтересовался дед.
– Так ведь ГАИ на сельских дорогах не стоит.
– И то верно.
После рюмочки я узнал, что он уже второй год работает в соседнем селе (кажется, Рождествено) вместе со своей Диной. Он преподает русский язык и труд, она русский и литературу с полной нагрузкой.
– А чего это ты за «труд» взялся?
– Чтоб Динке больше часов осталось.
Гера, большеротый, носатый, с прямым пробором уже седеющих и довольно редких волос, высокий, плечистый, смотрелся настоящим мужиком, работящим, спорым, пьющим. Пока в меру. Да он и был таким. Пробыл недолго, умчавшись в дыму и грохоте своего «Урала».
Деду не приглянулся:
– Ты, Колюшка, с ним поосторожнее.
– Почему?
– Пьющий он.
– Не больше других.
– Это пока, душа у него пьянствует, это плохо.
В который раз удивляюсь мудрости его и прозорливости.
Гера, окончивший среднюю школу с золотой медалью, увековеченный в золоте на специальной мраморной доске в школьном вестибюле, обладал массой талантов. Много читал, много знал и помнил. Писал прекрасные стихи, во всяком случае, гораздо лучше моих. К тому же, в отличие от меня, обладал хорошими, умными и работящими руками. Ему что мотоцикл собрать, что печь выложить, что крышу покрыть – всё нипочем!
Однолюб, всю жизнь со школьной скамьи преданный своей Дине. «Два рыжих два,»– звал я их по-цирковому. Вернувшись в город, Дина стала преподавать в одной из брагинских школ, он же стал ответственным секретарем многотиражки технологического института. Жили в полуразвалившемся двухэтажном деревянном доме, коих немерено стояло тогда на месте нынешнего Толбухинского моста и прилегающей к нему территории. От того Шанхая осталась одна только школа их, ныне – провинциальный колледж. Удивительное дело, в комнате метров восьми, не рассчитывая на удобства, они сумели сотворить двух огненно-рыжих пацанов. Уж как им было трудно – и не описать. Ведь мало того, что тесно, так еще и без каких-либо удобств, и это при двух малышах.
Отличилась Дина. Присутствуя на очередном ежегодном областном педсовете, она после выступления первого секретаря обкома КПСС Ф.И.Лощенкова умудрилась пробиться к нему и в кратком разговоре связать качество своей работы с отсутствием сколь-нибудь пригодного жилья. Федор Ивавнович не стал рассусоливать, коротко бросил сопровождавшему помощнику: «Разберись!». Через пару недель Дину вызвали в райисполком и вручили ордер на трехкомнатную квартиру в Брагине, рядом с уже бывшим кинотеатром «Октябрь».
Но всё это случится гораздо позже, разговор о том отдельный и невеселый…
Еще одним гостем стал учившийся на курс моложе Витя Строганов, с которым нас познакомил сосед его по Флотской улице Стасик Алюхин, общей у них была и школа, и номенклатурность родителей. У Вити, в частности, папа – бывший первый секретарь Заволжского райкома партии и до самой пенсии ответственный работник. Человек суховатый, закрытый и, можно сказать, черствый. Мама Валентина Федоровна заведовала чем-то в Управлении Северной железной дороги, но это не портило её, она оставалась отзывчивой и душевной. Меня еще тогда удивляло, как столь разные по темпераменту и менталитету люди могут жить единой семьей. А у них, кроме Вити, был еще старший брат Владимир, студент мединститута, и дочь, кажется, учительница, вышедшая замуж за простого и очень пьющего парня «из брянских лесов» (так он представлялся при знакомстве). Еще была бабушка. Очень старая и очень язвительная. Зятя своего, то бишь отца всех младших Строгановых, не переносила. И даже мне, в сущности, человеку для неё постороннему, еще в прихожей начинала шептать: «А Ванька-то…», – и далее следовала очередная сплетня о Строганове-старшем, партийном вожде районного масштаба.
Витя высокий, гибкий, как хлыст, с короткой стрижкой жестких вьющихся волос, полными губами, прямым с горбинкой носом. Всегда аккуратен и элегантен, с легким налетом невесть откуда взявшейся аристократичности, очень привлекателен и общителен. Говорил всегда неспешно, как подобает человеку воспитанному.
Благодаря родителям, Витя был среди нас самым «выездным». Люди старшего поколения хорошо знают значение этого термина. В советские годы выехать даже в братскую Болгарию, которую называли, и не без основания, еще одной советской республикой, – проблема. Мало того, что предстояло пройти через сито всевозможных проверок и комиссий, так еще и не оказаться в списке «невыездных», каковые имелись у всесильного КГБ.
Вите еще студентом посчастливилось попасть в группу, посетившую с двухнедельным визитом Германскую Демократическую республику. По возвращении, во время перекуров на межлестничной площадке, мы заваливали его вопросами типа: ну, как там? Витя в прекрасном черном джемпере с тоненькой желтенькой каймой по вырезу и поясу, небрежным щелчком сбрасывая пепел с сигареты в урну (только туда, мы-то особо не целились), неторопливо повествовал о чистоте Германии и аккуратности немцев. А нас, балбесов, больше интересовало, какие из себя немки, легко ли идут на контакт, попросту говоря – «кадрятся» ли, сколько стоят сигареты, как обстоят дела с выпивкой. Ответить на все вопросы за одну перемену невозможно, и в следующий перерыв мы опять стояли там же и слушали продолжение его неторопливого, с достоинством повествования:
– Немки «кадрятся» быстрее наших, но все под контролем товарища из органов. Сигареты дорогие и плохие. С выпивкой свои сложности, пива хоть залейся, а вот с водкой напряг, и стоит дорого, и капают граммов по двадцать.
– Как «накапывают»?
– Элементарно, – Витя красиво стряхивает пепел, – бутылки с крепкими напитками закупориваются пипетками, и можно только капать, а не лить струей, как у нас.
– Это что же, вместо нормального стакана надо высосать двенадцать таких стопочек? Издевательство …
Витя возражал, мол, немцы привыкли к такой норме, а русский стакан для них вообще доза смертельная, но не переубедил. Самый что ни на есть фашизм – сошлись мы во мнении. Одним словом – немцы.
И вдруг этот самый лощеный Витюша нарисовался в Бурмакине. Когда мы встретились в один из моих приездов и хорошо погуляли, я, помню, приглашал его, будучи уверенным, что не соизволит он снизойти до сельского учителя, пусть и «дружбана». Соизволил. Причем сразу после поездки в королевство Великобританию.
Деда очаровал сразу и бесповоротно, и не только манерами и рассуждениями, но и вручив что-то небольшое, английское. Вроде бы маленькую пачку чая – не разглядел, а потом забыл спросить.
Под стопочку-другую водочки Витя поведал, что в Англию попал по культурному обмену. Целый месяц жил в английской семье в Лондоне и учился в местном колледже.
Многое из его рассказа было в диковинку. Так оказалось, что в Лондоне практически нет центрального отопления, а зимы довольно холодные при огромной влажности. Вся Англия, по сути, один остров. Помещения обогреваются газовыми горелками. Опустишь монетку, и какое-то время она горит. Затем требует другую монетку, затем третью. Для самих англичан дороговато, что уж говорить о советских гостях! Причем хозяева и мысли не держали, чтоб помочь нашим ребятам согреться.
– Сами ходят сопливые и нас такими же сделали, – говорил Витя. – К тому же спальные комнаты не обогреваются вообще. Ложишься в холод да еще в сырую влажную постель. Как вспомню, дрожь пробирает.
– Кормили как?
– Скудно. Утром слабый чаек и булочка с тонюсеньким ломтиком сыра.
– И всё?
– Всё. Обедали за счет принимающей стороны в столовой колледжа.
– Там хоть оторвались?
– Оторвешься, как же. У них даже тарелок нет. Есть один большой поднос с углублениями под первое, под пару вторых и под стакан для чая либо кофе. Вроде бы достаточно – четыре блюда. Но первого как такового в английском общепите не существует. Скажем, ты выбираешь вермишелевый суп с фрикадельками. Отдельно лежит на раскладе вареная вермишель, отдельно фрикадельки, но не более четырех, отдельно бульон, все поэтапно складываешь в углубление для первого. Получается бурда. И без вариантов. Так же и со вторым. Причем если одно из них предусматривает к гарниру рыбу либо мясо, то другое – чистая каша, либо омлет, либо горох или бобовые… И всё – без кусочка хлеба. Редко малюсенькая белая булочка.
– А вечером? – осторожно спрашивает дед.
– Тот же чай.
– Так вы оголодали, поди.
– Было маленько. Душу отвели, когда всю группу пригласил в гости Джеймс Олдридж.
– Что, тот самый?
– Да.
Отвлекусь немного. В шестидесятые годы Джеймс Олдридж разом стал у нас самым популярным не только английским, а вообще иноязычным писателем. Может, еще не все читали его романы (довольно интересные, замечу), но почти все посмотрели фильм «Последний дюйм», поставленный по рассказу Олдриджа. Там летчик летит с сыном над кромкой океана. Самолет терпит аварию. И маленький сын спасает отца, вытаскивая его, обезноженного, на сушу. Всё действо под прекрасную мелодию, где рефреном звучат горькие слова старого летчика: «Какое мне дело до вас до всех, а вам – до меня!»
– И как принял Олдридж?
– Отлично. Очень простой, без выкрутасов. Живет в традиционной половине двухэтажного коттеджа. Вначале долго беседовали. Он интересовался жизнью в России, или в «Раше», а «Раша» – для западного обывателя весь Советский Союз. Для них хоть украинец, хоть узбек, хоть грузин – все русские, все из России. Мы отвечали подробно. Наш сопровождающий все это время многозначительно смотрел на часы. Но Джеймс быстро вычислил его принадлежность и попросил на часы не смотреть: у него времени хватит, чтобы пообщаться с русскими по душам.
Потом был обед. С черным хлебом, по которому мы страшно соскучились, и с черной икрой в двух огромных чашах, к которой мы не привыкли. Он уговаривал нас есть и не стесняться:
– Я прекрасно знаю, что в России – это роскошь, а для студентов – вещь в принципе недоступная…
И мы ели. Ушли поздно вечером.
– А «Битлов» видел? – не удержался я от мучившего меня вопроса. Сам я слушал их почти каждый вечер.
– Нет, пик их популярности спадает. Сейчас гораздо больше популярна группа «Роллинг Стоун», на их концерте мы были.
– И как?
– Непривычно. Огромный зал. Все стоят. У сцены совсем молоденькие девчонки лет четырнадцати-пятнадцати. Они постоянно стремятся залезть на сцену. Полиция и охрана сдерживает их. Непривычно. Но группа отличная и не хуже «Битлов».
– А, кстати, как переводится название группы?
– Катящиеся камни.
– Получается камнепад?
–Так точнее, но не по-английски.
Витю мы провожали к автобусу вместе с дедом…
Там, за туманами
В личном моем альбоме больше всего фотографий брата моего Валерки и однокурсника моего Стасика Алюхина. Мы встретились на стадионе, где отмечался какой-то общегородской праздник. Меня всегда поражало, как судьба соединяет людей. Вот взять хотя бы нас с ним. Жили двое в разных концах пусть небольшого, но города. Каждого из двух балбесов окружающим поодиночке хватало до краев. Так нет, столкнулись, чтобы вдвоем куролесить.
Там, на стадионе, слово за слово выяснилось, что оба поступали в пединститут, оба провалились, оба на одном предмете. Одном, но основном – русском языке. Куда мы отправились со стадиона? Правильно, в ближаюшую забегаловку, чтобы по-мужски закрепить знакомство. Закрепили, не расцепить. Вместе оказались на подготовительных курсах и вместе поступили наконец.
Стас ниже на полголовы и старше на полгода. Прямые, с косым пробором волосы, в рыжину, белесые брови, легкая рябь веснушек на бледном лице, полные в постоянной усмешке губы и своеобразная шаркающая походка – результат врожденной болезни ног. Они у него не разгибались в коленях полностью, да и вообще плохо сгибались.
При всём том – редкостное обаяние. Девчонки «кадрились» на раз. В Питере, помнится, и ходили везде вместе, и ели вместе, и спали на соседних матрасах, а вот, поди ж ты, вернулся тот с влюбленной в него по уши одной из самых интересных и красивых девчонок-литераторов Танечкой Смысловой.
– Когда очаровать-то успел? – поинтересовался я.
– Да как-то само собой, – поскромничал он.
Если спросить, что нас единило до такой степени, не отвечу. Я парень простой, из не очень благополучного района. У него отец – большой начальник по теплосетям. Большой настолько, что дома поставлен от работы телефон. У себя на дому в начале шестидесятых его имели только избранные, и не народом.
Мать – рангом поменьше, но тоже какая-то начальница, которая время от времени командировалась, и не куда-то в Кукобой, а в Ригу, Тбилиси, Кишинев, Одессу и подобные им очаги цивилизации, откуда везла ворохи умопомрачительного тряпья, из коего что-то предназначалось и Стасу.
Бабки и тетки его по материнской линии – учительницы. У него сохранились их дореволюционные видовые открытки, на оборотной стороне которых мелким, но красивым и четким бисером описывалось все, что они хотели сказать своей Нате (мать Стас так и звал за глаза – Наталья). Отец Лев Сергеевич – посолиднее внешне, с брюшком и лысинкой, зато попроще внутри. У него одна отрада – рыбалка. И за большим праздничным столом (сам наблюдал) он запросто мог бухнуть в море хрусталя и фарфора ржавую консервную банку. «Во, каких червей вчера накопал!» Гости, понятно, в шоке, Наталья – в гневе, Лев – в восторге, и мы, смеясь, уходим на балкон перекурить процесс разборки.
Была одна живая тетка. Серафима, или, как она сама просила именовать себя, Сима. Она селилась в море лачуг и бараков на месте нынешнего пересечения Большой Октябрьской и проспекта Толбухина. Работала на городском телеграфе, а может, и телефоне, – короче, в здании на площади Подбельского. Здесь в бараке имела комнатку метров на шесть с окном, выходящим на такой же почерневший от времени дощатый барак. Каждую Пасху, не знаю за какие достоинства, она приглашала Стасика к себе вместе со мной. Допускаю, что и без достоинств, просто если вдвоем, Стасу меньше водки достанется. Может, уберегала таким образом. Хотя напрасно.
И каждую пасху с утра пораньше, нарядные, иначе Сима нас не поймет, мы стучались к ней. Сима встречала в нарядном платье, подкрашенная и веселая…
– Уже замахнула, – шептал Стас.
Сразу за стол. Разлив первые три стопки, Сима пила вместе с нами, но не закусывала, а закуривала свой «Беломор».
– А вы ешьте, ешьте. Вы молодые, вам жрать да жрать…
В выраженьях она никогда не стеснялась, хотя откровенного мата избегала. Мы и жрали от пуза. Тем более никакого контроля, всё по душе и от души. Сима подливала стопки, подставляла тарелки, грустила и время от времени говорила:
– Э-эх, умру, на могилку никто даже посрать не придет.
– Это ты зря, – возражал племянник, – мы-то придем. Верно, Никола?
– Обязательно!
И, хотя обещание звучало очень даже двусмысленно, Симу оно удовлетворяло, она успокаивалась и даже пыталась петь. Но со слухом у всех Алюхиных проблемы, поэтому их разнобой с племянником скоро и умолкал.
Стасик жил в самом центре города на Флотской улице в уютном двухэтажном доме, где у родителей была полногабаритная двухкомнатная квартира, в которой больше всего удивляла своими огромными размерами совмещенная с туалетом ванная. Если и меньше институтского мужского туалета, размышлял я, то незначительно.
У него была своя комната, меньшая из двух, зато с выходом на балкон. Балкон – это громко сказано. Маленький закуток, но покурить вдвоем места хватало. В комнате его, кроме кровати, имелся лишь письменный стол и высокий, до потолка, стеллаж с книгами. Многие из них довольно редкие. Меня, занимавшегося советским периодом истории страны, очень интересовало пятитомное издание «История гражданской войны». Солидные высокие фолианты в красном кожаном переплете, на отличной бумаге и с вполне приличными иллюстрациями. Я выменял у него пятитомник, притащил домой и на неделю погрузился в изучение. Издание еще довоенное, поэтому фигурируют фамилии героев гражданской войны, перед войной отечественной репрессированных, уничтоженных. Так их фамилии густо замазаны не то пастой какой, не то чернилами. Я поделился наблюдениями со Стасом.
– Кто зачеркивал?
– Сами и зачеркивали. Издание распространялось по подписке. Поэтому по всем адресам пришли бумажки с указанием проделать эту цензурную выборку.
– А если фотографии?
– Их надо было удалить…
– Вырвать страницы?
– Да.
В данном случае обладательницы монументального исторического исследования на подобное варварство не решились, и я имел возможность видеть лица тех, кого навсегда хотели вычеркнуть из памяти народной. Чушь? Конечно! Но так было.
Мать Стаса в командировках по столицам союзных республик покупала книги, которых у нас днем с огнем не сыскать. Одна из них – «Черные доски» Владимира Солоухина, первое в советский период серьезное повествование о русской иконописи. С какой жадностью я читал её!… Все ново, все потрясает не столько глубинами русской культовой живописи (иконы, фрески), сколько полной нашей невежественностью.
Стас читал много и запоем. Правда, тут интересы наши расходилсь кардинально. Он предпочитал литературу зарубежную: тогда с приходом к руководству журналом «Иностранная литература» А. Чаковского открывались новые (для нас – советских читателей) имена, такие, как Кафка, Сэлинджер, Уайльд, Фитцджеральд. Разумеется, я тоже читал кое-что из «иностранки», прежде всего – Ремарка и Хемингуэя. Но совершенно не воспринимал Кафку, хотя так модно было тогда начать разговор именно с него… Я отдавал предпочтение литературе отечественной. Может, потому, что появилась целая плеяда прекрасных писателей, получивших у снобов прозвание «деревенских»: Федор Абрамов, Василий Белов, Виктор Астафьев, чуть позже Валентин Распутин. Прекрасная литература, близка мне еще и потому, что говорила она о нашей вконец забитой послевоенной деревне, так знакомой мне. И, конечно же, мы спорили. Часто родители уезжали к многочисленной родне, и тогда мы становились в доме хозяевами, закупалось вдоволь вина, крупно резались колбаса, сыр, хлеб, и начинался долгий разговор за жизнь, за литературу, за нашу уже осточертевшую учебу.
И еще мы пели. Третьим нашим компаньоном в посиделках был паренек из группы литераторов Вовик Лебедев, маленький, субтильный, с щегольскими усиками и нервно подергивавшимся носом. Тот успел закончить музыкальную школу, играл практически на всех инструментах, на посиделки без гитары мы его не пускали.
Здесь была одна маленькая неувязка: Стас не имел музыкального слуха, а петь любил, особенно набиравшие популярность бардовские песни. Из них выделял песню Юрия Кукина, начинавшуюся словами:
Ну что, мой друг, молчишь,
Мешает спать Париж…
Когда Стас начинал завывать, все умолкали, подпевать совершенно невозможно. А он, закрыв глаза, тянул и тянул. В конце следовал протяжный стон:
– Здесь нет метро пока,
Чай вместо коньяка,
И я прошу: не надо про Париж…
Свербило так, что хотелось заменить ему чай если не коньяком, так портвейном, ибо, пока пьет, не поет.
К занятиям в институте относились философски: нравились лекции – ходили, не нравились – уходили. Куда? Чаще всего в открывшийся за стенами Спасо-Преображенского монастыря краеведческий музей. Из всех его залов нас привлекал один, нижний зал центрального корпуса, где открыли кафе-ресторан «Россия». Под низкими сводчатыми потолками его было летом прохладно, зимой тепло и всегда уютно. На обеденные рубль-полтора можно было взять по паре стаканов хорошего портвейна и салат из капусты, реже– салат весенний, в котором даже колбаса попадалась. Но разве в закуске дело? В общении!
Выпив и закусив, отправлялись, пока тепло и солнечно, к стенам древним, садились на траву, курили, говорили и разве что не пели: древние стены все-таки обязывали.
Как-то раз, переходя площадь от Богоявленской церкви к угловой башне, я умудрился угодить под пятитонный самосвал «ЗИС». Он, уже на тормозах, сбил меня передним бампером. Я перевернулся несколько раз. Ошеломленный, встал, выслушал несколько крепких выражений в свой адрес и шагнул к тротуару. И за что бог так любил меня?
Стасик распределился на Камчатку. Я увидел его гораздо раньше возвращения домой в фильме «Приходите завтра». Там есть сцена приземления самолета и выход пассажиров, среди которых не узнать его в любимом цветастом свитере, привезенном матерью из Риги, было невозможно.
Связи со Стасиком не терял. Регулярно отправлял ему послания, порой со своими стихами. Оригиналов не сохранилось, на памяти только такие строки:
У вас там гейзеры, вулканы разные,
У вас там море штормует сутками,
У нас – дожди, дороги грязные,
Пора осенняя с летними шутками.
И мы грустим, коль очень тужится.
Едим мы. Веришь ли, мы умываемся.
Разлука с городом работой тушится,
А в общем, тоже живем – не маемся!
Стас отвечал пересказом историй из жизни своего Корякского национального округа, обычно в юмористическом ключе. Одна из них. В Палану (центр нацокруга) возвращается с очередного съезда КПСС первый секретарь окружкома партии. «Холуи и топтуны все по струночке» на краю аэродромного поля. Идущий на посадку самолет вдруг заваливается и камнем врезается в землю. Из развалившегося фюзеляжа выползают пассажиры, не в силах не только встать, но и осмыслить случившееся. И только первый секретарь, словно олень копытом, разгребает торбазами сугроб. Подоспевшая свита вежливо интересуется, что он делает?
– Однако «зелезку» с Лениным потерял.
А «зелезка» – это орден Ленина, которым только что наградили его в Москве.
Или другой эпизод местной жизни. В Доме культуры танцы. Русские в костюмах и платьях, в зависимости от пола. Коряки независимо от пола все в кухлянках наподобие меховых комбинезонов. Все широкоскулые, узкоглазые, смуглые, курящие. И вот русский паренек прихватывает приглянувшуюся корячку, мол, пойдем, выйдем. А в ответ слышит: «Однако, моя не баба, моя – музик». Мужик то есть. Смех и грех рядом.
Через год к нему приехала жена, с которой он успел расписаться до отъезда. Люся – литератор, однокурсница Витюши Строганова, более того – закадычная подружка будущей жены Вити. Стали преподавать в местной школе вместе. Но Стас в школе проработал недолго, направили в местную окружную газету, был корреспондентом, потом редактором, а перед возвращением в Ярославль – уже вторым секретарем окружкома партии.
Там долгими вьюжными зимами сообразили они мальчика и девочку. Помню, что сына он назвал Львом – по отцу. От северных надбавок выстроили в Брагине двухкомнатную кооперативную квартиру. Вернулись в Ярославль. Он стал работать на областном радио редактором ежедневной часовой программы «Ритм», очень насыщенной и интересной. Коллектив принял его, более того, он быстро стал всеобщим любимцем за доброту и юмор. Но продержался недолго. Года через три засобирался снова на Камчатку.
– Старик, – объяснял он мне, – я уже отвык от здешней жизни, мелочной и суетной. У нас там все в другом измерении. У нас там двери не запираются. У нас там, если потребуются деньги, дают без расспросов зачем, да сколько, да насколько. У нас там спирт бочками, а икра ведрами…
«У нас там» – это на Камчатке. Уехал, оставив квартиру на сына с дочерью. Но нельзя в одну реку войти дважды. Второй приезд в край икорный, обетованный оказался не столь удачливым. В первый же отпуск Людмила уехала одна, его не отпустили: работал в окружкоме партии. А она встретила капитана траулера и так встретила, что к началу учебного года в Палану не возвратилась. Для него и трагедия личная, и проблема общественная. Еще бы: у секретаря окружкома партии жена срывает учебный процесс. Курортный роман кончился вместе с деньгами капитана и его пусть продолжительным, но отпуском, а терять работу он не хотел. Вернулись каждый к себе. Как Стас встретил её и перенес измену, не знаю, хотя догадываюсь. В подтверждение моих догадок он вскоре пропал. Ни писем, ни адреса. Через Витю Строганова, имевшего связь с родителями, узнал, что из окружкома его «ушли», приняла вновь в свои ряды газета. И на том – всё. Не знаю, что с ним случилось, и узнать не у кого, Витюши Строганова тоже нет, как и супруги его Вали, подружки Люсиной…
Все свои да наши
Если по правую руку от себя я всегда видел Стаса, то по левую (можно и наоборот) стоял Володя Кутузов, сын сапожника из древнего русского города Романова-Борисоглебска с советским наименованием Тутаев. Володя по этому поводу высказывался образно: «Захотите жить х..ёво, приезжайте в Тутаёво».
Вот уж кто с людьми, даже гораздо выше его по статусу, сходился запросто. В разговорах первый секретарь обкома партии Федор Иванович Лощенков был у него Федей, декан наш Лев Владимирович Сретенский – Лёвой, что уж говорить о преподавателях… Откуда такие панибратские замашки у сугубо провинциального паренька, понять не мог.
Писать в газеты начал гораздо раньше меня. Еще школьником напечатался в газете «Пионерская правда», что, естественно, произвело в школе форменный ажиотаж, и с тех пор ни о какой другой профессии не помышлял.
В замыслах был амбициозен, в суждениях безапелляционен, в поступках решителен, этакий маленький Суворов или все же Кутузов?! Я, формируя нашу троицу наподобие васнецовских трех богатырей, где себе, как уроженцу Мурома, отводил место в центре, Стасу справа – он и был по характеру Добрыня, а слева сам бог велел поставить Володю. Настоящий Алеша Попович, не простой простак.
Еще в институте, курсе, наверное, на втором женился. Избранница – студентка нашего физмата скромненькая Таня Дмитревская, среднего роста, худощавая, черноволосая, весьма симпатичная и очень-очень умная девочка. Я понимал его, Танечка – вполне достойная пара, но не понимал её: в нём-то, друге моем, что нашла она?
Родители Тани довольно пожилые, на Перекопе очень известные. Оба врачи, причем отец – уважаемый и среди пациентов, и среди коллег специалист в диагностике и лечении туберкулеза, достаточно распространенного среди текстильщиков легочного заболевания. Они жили на Красноперекопской улице в довоенных домах сталинского ампира с высокими потолками, обширными прихожими, ванными и кухнями (квартиры все-таки предполагалось делить на комнаты, поэтому вспоминается: «хотели коммунизм, а получили коммуналки»), где они свою квартиру делили только с родной дочерью Татьяной.
На их более чем скромной свадьбе я был свидетелем во время росписи и единственным гостем за скромным свадебным столом. Родителей ни с той, ни с другой стороны. Очередная ли это блажь Кутузова или результат интеллигентного сопротивления старших Дмитревских, не знаю, но получилась самая тихая из многочисленных свадеб, на которых я успел побывать. Ни песен, ни плясок, «ни драки до утра». В полногабаритной квартире Дмитревских у Тани имелась своя очень маленькая комната, в ней и сидели. Почему не в обширной большой комнате метров в 25-30 или не на кухне, размеров не меньших? Родители явно давали понять, что выбор дочери не одобряют. И я понимал почему.
Он входил в очень интеллигентную семью, где, кажется, были даже один академик из Ленинграда и парочка-другая профессоров. Здесь ценились скромность, умеренность, верность и, не побоюсь сказать, знатность. Не прежняя, дворянская, – по роду, а нынешняя, советская, – по труду. Володя со своими простонародными привычками и разухабистой размашистостью никак не вписывался в заданные рамки, но скоро поменял ситуацию, перетянув родителей на свою сторону. Через год-другой они души в нем не чаяли.
Помогло ли вхождение в новый круг ему самому? Да. Во всяком случае, заметно расширился его до того сугубо провинциальный кругозор. Появилось увлечение наукой. Он возглавил в институте студенческое научное общество, сам работал в архивах. И в сборнике «Рядовые ленинской гвардии» были опубликованы наши работы, моя – о первом председателе Ярославского горисполкома Давиде Закгейме, его – о красноармейце Илье Тутаеве. Вполне реально обоим маячила аспирантура.
После института поработал учителем в самом отдаленном районе области – Пошехонском. Иначе не получилось. Отдав должное просвещению, был принят в главную областную газету «Северный рабочий». Это надо заслужить. Очень скоро проявил себя отличным репортером, именно репортером, а не рядовым корреспондентом отдела информаций. Репортер – тот, кто из рядовой информации способен сделать событие. Он мог, и он делал. Года не прошло, как оброс таким количеством необходимых связей, что оставалось только руками развести в удивлении. Я видел у него на рабочем столе, кроме кучи ведомственных телефонных справочников, еще и большую записную телефонную книжку, пухлую и от частого употребления рыхлую. Телефоы – это люди, но не простые знакомые, а информаторы. За короткий срок он заполнил её полностью. Его оценили в редакции и зауважали читатели. Но…
С ростом журналистского опыта и авторитета сохранились и даже укрепились панибратские замашки. Он мог среди ночи поднять кого-нибудь из начальников для разговора, а то и выговора, что, в конце концов, и подвело.
Однажды, сильно подвыпив, устроил в ресторане дебош. Вызванный наряд милиции доставил его в отделение. Кутузов в «кутузке», нарочно не придумаешь. К полуночи его отпустили восвояси, считая успокоившимся. Не тут-то было! В той самой личной телефонной книжке у него имелся рабочий номер министра внутренних дел СССР. Откуда? Это же информация сугубо секретная. Имелся, и всё тут. Хмель гудел, «трубы горели», оттого посреди ночи он «по-свойски» позвонил Николаю Александровичу, тому самому, Щелокову, чтобы тот лично наказал глупых милиционеров, неуважительно с ним обошедшихся. До министра, разумеется, не добрался, хватило адъютанта. Тот, пообещав доложить министру «как только, так сразу», уточнил личные данные звонившего « исключительно для доклада». Голова все еще гудела, соображалка не включилась, Володя выложил всё как на духу и, успокоившись, уснул. Поутру в кабинете редактора газеты ему популярно объяснили, кто он такой, как его зовут и что он из себя представляет на самом деле. С газетой пришлось расстаться.


