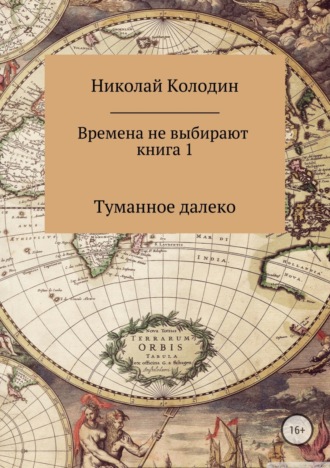
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
Рабочий сад… Основанный в конце XIX века последним владельцем фабрики Карзинкиным, он сразу стал любимым местом отдыха рабочих и оставался таким всегда. Летом в выходные дни все шли сюда отдыхать. Расстилали под древними дубами одеяла, и целый день проводили здесь – ели, пили чай, пели песни. Дети играли под тенистыми дубами. Какие же это были дубы! Голову поднимешь – через крону небо лишь чуть-чуть просвечивает. Даже в самые жаркие дни в «Рабочем саду» стояла прохлада.
Если днем я приходил сюда в пионерский лагерь, то по вечерам – на танцы. Сейчас трудно представить, что еще лет пятьдесят назад тут жизнь била ключом. Здесь были чайная, ларьки, танцплощадка, летний кинотеатр, концертная площадка. Слева от танцплощадки – большой крытый зал с местами для настольных игр, тут же библиотека с книгами, газетами и журналами, а сбоку с отдельным входом – бильярдная.
Именно бильярд полюбился мне больше всего. И, «оттрубив» свое, устремлялся к большому старинному столу под зеленым сукном, чтобы погонять шары. Моим партнером был наш баянист. Конечно, силы неравные, но интерес не снижался.
Наш пионервожатый – Вадик Красавин. Наверное, мы обращались к нему по имени и отчеству, но они забылись. Вот уж кто полностью оправдывал свою фамилию! Когда нас приводили всем лагерем на «перекопский» пляж и он обнажался до плавок, то это была «натура». Загорелый, бронзоволикий, с густыми, коротко стриженными курчавыми волосами, он походил на ожившую скульптуру Аполлона из древнегреческой мифологии. Теперь, когда в моде культуризм, с искусственной накачкой мышц при помощи всевозможных белковых наполнителей, добиться массы несложно. Но, когда видишь такую фигуру, невольно вспоминается выражение «гора мышц» – словом, масса есть, красы нет. Вадик – совсем иное дело. Я, будучи не пионером, а горнистом на вольных хлебах, числился заодно чем-то вроде помощника вожатому первого отряда. Потому общался с ним накоротке. Вадик, рассказывая о себе, подчеркивал, что в раннем детстве был часто болевшим заморышем, но не хотел этого и пошел в спорт. Сложилось так, что приглянулся он тренеру по классической борьбе.
Он пытался и меня приобщить к «уникальному», по его выражению, виду спорта. «Понимаешь, – утверждал он, – легкая атлетика чаще всего развивает ноги и нижнюю часть тела, гребля плечи и грудь – верхнюю половину тела, а борьба, как никакой другой вид, гармонично развивает все мышцы тела, и человек действительно становится атлетом, каким привыкли мы видеть его на старых рисунках». И я пошел с ним в секцию. Занимались они в небольшом зальчике городского Дома физкультуры, что напротив клуба имени Сталина (бывший храм Андрея Критского), в алтарной его части, вход в который был со стороны Которосли. Мне пришлось раздеться и даже побороться с одним из мальчиков. Но тот быстро уложил меня и так внушительно, что я долго приходил в себя, сидючи одиноко на скамейке и ожидая конца занятий. Больше затащить меня в спортзал не представлялось возможным.
Что касается Вадика Красавина, то судьба его сложилась причудливо, как и в целом судьба страны. Окончив медицинский институт, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и полностью погрузился в науку. Полностью, да не совсем. Как и большинство из нас в то время, он постоянно слушал, но, как оказалось, слушал не то. Модное двустишие тех лет: «О новостях родной Руси мы узнаем по Би-Би-Си». Ко всему принял участие в конкурсе радиослушателей какой-то программы, полагаю, связанной с обожаемым им джазом. И победил. Наверное, люди из органов беседовали с ним. Но надо знать Вадика: в своих убеждениях он оставался неизменен. Приз он получил, а институт оставил, точнее сказать, вынужден был оставить. Какое-то время перебивался без работы, но вроде бы недолго. Его взял под свое крыло институт медико-биологических проблем, занимавшийся медицинской составляющей наших космических программ. Повезло. Могло закончиться хуже.
В городском пионерском лагере я всерьез увлекся шахматами и скоро стал обыгрывать своих учителей. В шутку даже стали называть гроссмейстером, но в шутку – не более. Я уговорил мать купить мне фигуры с доской и стал играть дома. Партнер появился довольно странный – Костя Старов, улыбчивый увалень, по жизни немного недоразвитый. Помню, когда он стал работать, то очень любил, чтобы зарплату давали мелкими купюрами. Дай ему две сотенных – заплачет, что мало, а две сотни рублями – улыбка до ушей: во, сколько отвалили! Но во время игры в шахматы преображался, и выиграть у него удавалось редко.
Самым памятным событием, относящимся к городскому лагерю, стало первое признание в любви. И не с моей стороны. Пионервожатая отряда, к которому я был прикреплен, очень красивая девушка, студентка нашего пединститута, отрабатывала летнюю практику. Жила она неподалеку в Творогове, и домой нам было по пути. Каждый раз после полдника мы на пару отправлялись в путь, и она часто брала меня за руку. Мне было неудобно: маленький, что ли? Никаких иных объяснений и в голову не приходило. А она, заметив напряг мой, с грустью замечала: « Эх, был бы ты хоть на три-четыре года постарше…».
И опять мне невдомек. Одна мысль: с чего это она состарить меня возжелала? Мне и так с ней хорошо. И только в последний день все встало на свои места. Она попросила меня после прощальной линейки не уходить домой, а дождаться, пока она не получит деньги за работу. Дождался, конечно.
Опять неторопливый путь. Разговор с недомолвками. Но, не доходя до своего дома, она повернулась ко мне, обняла и, приблизив лицо свое так близко, что виделись только большие ее серые глаза и слезинка на пушистых ресницах, поцеловала. Меня опалило. Поцеловала в губы.
– Как же люблю я тебя, длинный мой малыш, – сказала она и стремительно бросилась к дому. – Не провожай и не ищи.
Не сразу пришел в себя и долго не мог отделаться от ощущения потери. Еще дольше не мог забыть. Но больше мы не встретились ни разу, хотя жили неподалеку.
От прораба до артиста
Со школой № 56 я простился в середине июня 1955 года. Было торжественное построение во дворе школы с вручением свидетельств, а отличившимся в учебе – Почетных грамот. Я до такого уровня не дотянул, получив тройку по русскому языку и литературному (!) чтению. Подвел экзаменационный диктант. Но читал я намного больше сверстников, и тройка по литературному чтению обижала. Обиды не скрасила даже письменная благодарность, врученная там же. Потом был не оставшийся в памяти выпускной бал.
А дальше – свободное плавание. Идти в девятый класс не очень стремился, предпочел техникум. Выбор невелик: автомеханический, химико-механический, легкой промышленности, торговый и строительный. Первые два отпадали из-за моей нелюбви к точным наукам, к легкой промышленности я относился легко. О торговом вообще нет речи, профессия тогда настолько не уважалась, что признаться в учебе там не смог бы.
Выбор пал на строительный техникум, потому, может, что жили мы с матерью на частной квартире в полутрущобной окраине, представлявшей скопление не домов даже, а мазанок из глины, без радио и без света, да что там света – без туалета. Все это в непролазной топи и грязи. Естественно, что мечталось о другом. Искал заведение долго, но обнаружив, оказался ошеломлен увиденным.
Среди двух рядов в большинстве своем одноэтажных деревянных домов и домиков в створе улиц Чайковского и Гражданской (ныне проспект Октября), высился желто-белый дворец в четыре этажа, занимаемый техникумом. Сейчас понимаю: обычный сталинский ампир. Может быть, рядом имелись здания и красивее, и лучше. Скажем, по той же Гражданской, но в ряду других, не менее интересных строений. Этот же – один, как перст указующий!
И я пошел туда со своим свидетельством, метрикой и соответствующими справками. В вестибюле, полном гудящей толпы таких же искателей счастья, на стенах висели проектные работы. Эти тонкие линии, меня, так любившего карандаш и рейсфедер, очаровывали и манили. Домой не шел, а плыл в тумане надежд и мечтаний, видя себя непременно в каске на лесах строящегося дворца. Дворца обязательно. Пусть в виде дома культуры либо клуба. А еще виделись улицы из аккуратных кирпичных одноэтажных домов, белых в зелени садов, на месте нынешних мазанок моего «Шанхая».
– Все, буду строителем, – решительно заявил матери. Та робко напомнила, что надо бы сначала сдать вступительные экзамены.
– Да ты что, их всего-то три, не то, что за седьмой класс. А первый, так и вообще диктант, что я, на трояк не напишу?
Откуда уверенность? Короче, настроен был весело, решительно и чувствовал себя учащимся техникума. Представлял, как первого сентября приду в тот дворец и стану полноправным его обитателем.
Сдавать пришлось в первом потоке, что представлялось удачей. Нетрудно представить, каким ударом явился для меня результат, обнаруженный в списке, вывешенном для общего обозрения. Несколько раз принимался просматривать и каждый раз, дойдя до своей фамилии, обнаруживал «неудовлетворительно».
Домой явился опустошенным. На все вопросы матери только отрицательно мотал головой, из чего она быстро сделала правильный вывод …
– Ничего, Колька, пойдем в девятый класс, – утешала и ободряла она.
– Ну, уж нет, – отрезал я, – буду пробовать дальше.
А дальше – значит, попытаться поступить в одно из училищ. Интерес представляли художественное и музыкальное. Но в первом мне нечего было делать из-за крайне плохого зрения. А вот другое – да, моё! Голос имелся, музыкальный слух тоже, а уж репертуар, дай бог всякому! Так я рассудил и другим днем отправился на улицу Собинова. Но здесь меня ожидала неприятность иного рода. Поступление оказалось возможным лишь при достижении 14-летнего возраста. Я возмущался, доказывая, что при успешной сдаче экзаменов к моменту зачисления необходимый возраст наберу, – все бесполезно. Даже документы не приняли.
До сих пор думаю, а может, и вышел бы из меня артист? Проверить возможности так и не представилось. Зато избранное первоначально строительное направление, пожалуй, в чем-то было предопределено свыше. Иначе чем объяснить, что спустя два года я окажусь на стройке, где пройду практически все этапы строительства, начиная от так называемого «нулевого цикла». И даже покончив с непосредственным участием в строительстве, долгое время буду связан с ним как журналист.
Приближалось начало учебного года, и нужно было определиться. К счастью, все мы – выпускники «штурманской» школы – оказались прикрепленными к только что сданной новой школе в Починках. Радовало и то, что она новая, но в большей степени то, что она гораздо ближе сороковой школы, находившейся у клуба Сталина, куда чертолаповские ходили до того.
Плач по урожаю
Знакомство с новым зданием отложили, отправив старшеклассников на уборку урожая. Когда сегодня слышу «плач» по разваленным колхозам, вспоминаю свои школьные и студенческие годы. Никогда мы не начинали учебу первого сентября. Никогда. В лучшем случае – в середине октября, чаще в ноябре, работали «до белых мух», то есть до снега. Колхозам плохо было всегда. Мал урожай – подбираем остатки, хороший урожай – помогаем пристроить его так, чтоб не сгнил до нового года. В колхозах господствовал лозунг: «Поможем школьникам и студентам убрать урожай!»…
Первого сентября ранним утром во дворе школы нас погрузили в крытые грузовики и повезли, а мы весело горланили: «Снова нас везут куда-то, и неясен нам маршрут»… На самом деле конечную остановку знали: село Вощажниково. Но где это и зачем это – неясно. По прибытии с помощью бригадира распределились по домам на постой. Старшим у нашего класса на время работы в колхозе назначили молодого преподавателя немецкого языка, очень интеллигентного и очень скромного, о чем ему ежедневно и не по одному разу приходилось жалеть. К каждому обращался на «Вы», но для нас это равнозначно, как если б на каждого надели шляпу. Все-таки мы – перекопские, а это совсем иной менталитет, требующий другого, более жесткого, подхода.
Но у меня лично с Германом (так звали старшего) сложились вполне дружеские, даже в какой-то степени доверительные отношения. Как выяснилось из разговора, он закончил в Муроме то ли педагогический институт, то ли педагогическое училище, и понятно, мы не раз вспоминали Муром. Это и сблизило, но никаких послаблений в работе не давало. А трудиться приходилось в полной мере подростковых возможностей.
Нас троих, самых высоких (кроме меня, это Вова Белоусов и Витя Кириченко), определили на погрузку зерна. Сколько же нам было лет? Четырнадцать! И мы на погрузке. Взваливаешь мешок на спину, причем надо распределить точно посередине, иначе он обязательно будет сползать на приспущенный край, и тащишь его к телеге, иногда к машине. Ноги подгибаются, в глазах красные круги, а то и темнота. Притащишь мешок, сбросишь его и назад, идешь как можно медленнее, чтобы дух перевести, «дыхалку» сбившуюся наладить. А тебя подгоняют. Мне тяжелее товарищей, поскольку они значительно крепче физически, а Володя еще и активно занимался вольной борьбой. Настолько активно, что по утрам после обязательной и продолжительной гимнастики бегал. А соседи его – как раз Кириченки. И мать частенько сыну Витеньке пеняла:
– Вовка-то вон опять физкультурничает, не то что ты…
Витька лениво отмахивался:
– Да на фиг мне, я и так здоровый.
Он действительно был здоровый, даже здоровенный. Выглядел значительно старше своих лет. И на молоденьких учительниц посматривал так откровенно, что они краснели. А он только лыбзился и уходил своей необычно легкой танцующей походкой.
Но всё это происходило уже позже. А пока мы лопатили и таскали зерно. Еще тяжелее оказалась уборка льна. Культура эта занимала тогда в нашей области довольно значительные площади, если и уступавшие посевам зерновых, то незначительно, а в Вощажникове, как мне казалось, даже превосходила их. Но если уборка зерновых уже тогда в значительной степени механизировалась, то уборка льна стопроцентно – ручной труд.
Поутру, выйдя в поле, мы вставали на краю его, и каждому выделялось две полосы, которые и предстояло убрать в течение дня, то есть где-то часов до трех. И встав в самую неловкую позицию, то есть кверху задом, мы начинали драть лен. А он необычайно цепкий и жесткий. К концу дня руки в крови, спину не разогнуть и мысль только одна: на хрена нам такая радость?!
Скоро понял, что надо как можно скорее валить отсюда, и перешел на вязку снопов. Желающих в избытке не наблюдалось, и понятно почему. В целом вязка – дело нехитрое, но если имеешь элементарный навык. У меня он имелся. Навязав снопов, собирал их до кучи и ставил головкой друг к другу.
Для окончательной просушки снопы подвешивали в риге – огромном сарае. Здесь же и молотили вручную цепами, выбивая зерно, точнее – семечки. Темные и маслянистые, они необычайно вкусны. Мы молотили и цепами, и языками, успевая семян поклевать. Кстати, свежемолотые семена льна не имеют ничего общего с тем льняным маслом, что продается сегодня по баснословным ценам. Работа сопровождалась песнями, анекдотами, розыгрышами. Анекдоты, по школьной традиции, в основном типа «юмор из сортира», но, тем не менее, веселили.
До чего же уютно было в том полутемном амбаре, особенно если снаружи моросил нудный осенний дождь. Выскакивая время от времени, чтобы покурить, тут же стремились назад.
Часа в три шабашили и расходились по домам. Нас распределили человек по пять. Сейчас не помню ни соседей своих, ни хозяев, в памяти одна только дочь их Маруся. Среднего роста, русоволосая, сероглазая, с очень ладной фигуркой, она сразу же поразила меня.
Чувство оказалось взаимным. По вечерам мы уходили подальше на окраину села. Устраивались где-нибудь, лишь бы не капало, и сидели до упора. Разговаривали. Оказалось, что она, закончив семилетку, осталась работать в колхозе, что удивляло. Ведь тогда редкий родитель не мечтал вытолкнуть своё дитя в город, на вольные хлеба. Она осталась.
Маша – девушка искренняя, чистая, наивная. Да и я под стать. Только в самом конце «колхозной практики» мы умудрились поцеловаться, зато потом не могли остановиться. Я развеселил её рассказом о своих детских сомнениях. Конечно, о поцелуях думал и раньше и даже по-своему представлял, как это произойдет со мной. Смущала одна деталь: если целоваться губы в губы, то куда девать носы, они ведь должны мешать? Как же она смеялась! И затем всякий раз, когда я предпринимал попытку поцеловаться, она спрашивала, мол, нос не мешает?
Убрав и перемолотив весь имевшийся тут лен, мы отправились по домам. Расставались с Марусей в слезах, горячих поцелуях, искренне обещая писать письма. Первое отправил сразу же по приезде и вскоре получил ответ. Со следующим задержался, а потом школьная жизнь закружила, завертела, стало не до писем… И вдруг где-то через год, оказавшись на рынке с компанией друзей-пацанов, вдруг услышал, как кто-то меня зовет. Оглянувшись, увидел мать Маруси и её саму. В своих самых нарядных (для выхода) плюшевых жакетках, они махали мне приветливо, улыбаясь и радуясь неожиданной встрече. А я… Я сделал вид, что не понял, и, ускорив шаг, прошел дальше. Застеснялся? Наверное. Но до сих пор жжет чувство стыда.
Лампея, Енаха и прочие
Часто у кухонного окна на столе я рисовал ближайший соседний дом. Даже на фоне убогого строения Страховых тот выглядел несравненно хуже. Избушка в два окошка по лицевой стороне, одно кухонное, другое – комнатное, под равной толевой крышей и стенами, обитыми неровным горбылем. Не было даже элементарного крыльца, служившего в прочих домах своеобразным «предбанником», который, во-первых, все же предохранял дом от стужи (все-таки две двери – не одна), а во-вторых, заменял сарайку. Здесь хранились зимние припасы, включая дрова, и всяческая, не нашедшая в доме места, но необходимая в хозяйстве ерунда.
Я рисовал, смотрел и думал, как же живут в такой халупе? Убедиться в том пришлось очень скоро, ибо с рождением у Страховых второй дочери в жилье нам отказали. Но еще до того мать договорилась с хозяйкой дома напротив, Евлампией Сумкиной, и мы перебрались к ним.
Комнатка была маленькой, она вмещала лишь две койки по двум стенам и убогий стол посередине, с одним местом у окна. Это место было с нашей стороны. Со стороны хозяев стол примыкал прямо к кровати. И если я делал уроки у окна, то хозяйкин сын Генаха – напротив окна.
Как ни темны были в сущности своей Овчинниковы, но казались людьми просвещенными в сравнении с Евлампией (в миру просто Лампея). Родом из самого захолустья Вологодчины, откуда-то из-под Тотьмы, она переселение со дна будущего Рыбинского водохранилища пережила подростком. Каким-то образом сразу устроили её работать на комбинат «Красный Перекоп» в самый грязный приготовительный цех – трепальщицей, то есть она занималась раздиркой хлопка, спрессованного для удобства транспортировки в кипы, иначе говоря, «рыхлила» хлопок перед тем, как он отправлялся на чесальные машины. Труд, пыльный и грязный, не требовал образования и квалификации. Так и проработала здесь всю жизнь.
Удивительное дело: прожив всю жизнь в городе, она ничего не переняла у городских, ну, ничегошеньки. Говорила так же, как принято в их Тотьме, одевалась так же, даже питаться умудрялась так же. Любимым блюдом у вологодских было толокно, которое разводили они в воде до состояния киселя и хлебали его ложками. При всей своей всеядности к толокну я не мог привыкнуть, и если есть у меня блюда нелюбимые, то, прежде всего, оно. Даже посуда была какая-то допотопная. Суп при мне все еще варили в чугуне, большом и никогда, по-моему, не мывшемся. Во всяком случае, при мне – ни разу. Там слой жира и копоти толщиной в палец. А им хоть бы что. Уже при мне чугунок треснул. Уж как она тосковала и плакала по нему…
– Ить еще до войны купили и все крепкий был, а тут на тебе…
Ввязывался и убеждал её, что все когда-нибудь разбивается, ломается, портится. Но тщетно. Переведя дух, она вновь заводила свою песню. И ходила по кругу, как в той притче Жванецкого, где вчера большие, но по пять, а сегодня маленькие, но по три.
– Ишшо давеча ставила в нем кашу, и баско было (баско – хорошо, славно, красиво)…
С чугуном тем она достала всех нас и сына тоже, он заорал, выматерился, и на том душа её успокоилась.
Но если бы одним чугунком все ограничивалось! Увы! Дом Сумкиных единственный не имел даже сортира в огороде. Я еще, когда рисовал их «особняк», обратил на то внимание и недоумевал, куда же они ходят «по нужде». По малой, рассуждал, можно и за углом, а по большой? И, перебравшись сюда, перво-наперво озаботился этим. Оказалось, что для всех нужд использовалось стоявшее на кухне грязное ведро. В него ссыпали очистки, мусор всякий и в него же ходили, причем по нужде как большой, так и малой. А учитывая, что все жильё – фактически одна комната, разделенная до половины площади слабенькой перегородкой, то запах (тот еще!) проникал всюду. Генаха, парень хулиганистый от природы, норовил сесть на ведро в то время, когда мы с матерью садились за стол. И ведь деться некуда!
Мать сразу же стала уговаривать Лампею сделать крылечную пристройку и согласилась внести свою часть денег. Видимо, такой расклад показался хозяйке выгодным, она, пусть не сразу, согласилась. Выписали машину необделанного теса – горбыля – и наняли Сережу Овчинникова. Он быстро сколотил пристройку.
Вспоминая, в который раз поражаюсь исключительному авторитету матери у людей самого разного культурного и социального уровня. С нашим появлением стала меняться и Лампея, стал меняться их быт. Убрали поносное ведро в пристройку. Оклеили обоями стены, до того обычные, глиняные, с давнишней потекшей побелкой. Провели электричество, и над столом, где мы с Генахой делали уроки, повисла лампочка. Без абажура, патрон на проводе, но свет! В тазу Лампея пыталась время от времени мыть миски и кастрюли, ложки-поварежки.
И уж совсем иная жизнь началась, когда я собрал детекторный приемник, воспользовавшись элементарной схемой из журнала «Юный техник». Приемник состоял из индукционной катушки, намотанной вручную, селеноида, маленького кристаллика вроде обычного, соляного, провода с игольчатым наконечником и наушников. Селеноид и наушники были приобретены в магазине на Комосомольской улице. Да еще пришлось забраться на крышу, чтобы по краям конька прибить две рейки и натянуть меж ними антенну. Игольчатый наконечник и являлся завершением антенны. Мать поверила в мое предприятие, Лампея – нет. И когда я лазал по крыше, торчала на улице и ворчала, мол, толь порвет. Но вес у меня наилегчайший, да и старался не навредить, поэтому крыша не потекла. А вот радио заработало. Конечно, с тем селеноидом найти говорящую станцию (не говорю – нужную, потому что тогда в стране действовала всего одна радиостанция) – совсем не то, что крутить ручку верньера (настройки). Требовалось аккуратно иголочкой нащупать одно-единственное место, обеспечивавшее поступление звука. И я нащупал. Но нас в доме четверо – наушники не поделишь. И нашел выход, положив наушники, точнее один из двух, в стакан.
Настал час триумфа. Пригласив всех за стол, я начал искать станцию. Дело почему-то затянулось. Генаха уже скривил рот, мол, опять «профессор» ерундой (его словами сказано гораздо крепче) занимается. Мать сидела отрешенной. Лампея смотрела недоверчиво. Но тут из наушника полилась музыка. По радио транслировали какой-то концерт. Мне не забыть того блаженно-счастливого выражения лица Лампеи. Она только шептала:
– Баско-то как, баско…
1953 или 54-й год, то есть всего шестьдесят лет назад. Сейчас, сидя у огромного экрана с двумя пультами в руках телевизора и «дивидишника», сам уж не верю, что так было. На протяжении одной жизни! К примеру, для внука Артема тот приемник – не прошедшее даже, а давно прошедшее время.
Сын Лампеи – Гена, Генаха, а в её материнских устах – Енаха, крепыш толстогубый, толсторожий, рыжий и бесстыжий. Но когда речь заходила о нем, как правило, в связи с какой-то очередной его выходкой, Лампея, поджимая губы, говаривала:
– Знамо дело, красивый Енаха, так ведь с хари не чай пить…
Меня такая характеристика даже тогда повергала в изумление. Он, безусловно, смышлен, не по возрасту силен, очень подвижен, но назвать его красивым могла только мать. Хотя… в вологодском глубинном менталитете, как я потом понял, красивый – прежде всего здоровый, а олицетворением здоровья в их глазах – парень с мордой, толстой и красной . И тут все сходится.
Однажды на свадьбе у соседки Маши Щукиной, выдававшей замуж дочь свою непутевую, умную и добрую Вальку, я вместе с другими пацанами наблюдал празднование из-за распахнутой двери. Тут же были и не приглашенные за стол взрослые. Они, как принято, обсуждали жениха с невестой, а заодно и гостей. Наблюдения их сводились к тому, стала ли рожа красной после выпитой браги или нет. Если покраснела, значит, брага на пользу, если побледнела, то и стопка не в пользу, и сам не жилец. Таковы понятия.
Генаха всегда косил под блатного. Песни пел при полном отсутствии слуха, исключительно тюремные, с жутким подвыванием и на один мотив. Счастье его, что не приглянулся «чечену», а то пошел бы он по тюрьмам с короткими перерывами по известному циклу: «вышел, украл, выпил, сел». Но он-то счастья своего не понимал очень долго. И даже, бросив школу, начав самостоятельную рабочую деятельность, всегда тяготел к «фартовой» жизни. При этом очень много читал, очень много помнил и понимал, – словом, был далеко не дурак.
Еще одна характерная черта его – драчливость, причем чаще всего совершенно бессмысленная, основанная на винных парах. Трезвый парень как парень, а хоть чуток внутрь попало – пиши пропало. Он шел на улицу и искал приключений на свою голову. Пока морду в кровь не набьют, не успокоится. Лампея воспринимала это как нечто само собой разумеющееся:
– Дык у нас в деревне и завсегда так. Завсегда с кольями да вилами. Другой раз кого и насмерть запорют…
Однако за пьяным «Енахой» своим бегала, стараясь не допустить печального исхода. Как-то первого мая, придя с демонстрации, я застал своих домашних в тихом ужасе и трансе. Пройдя в комнату, увидел Генку на кровати в разорванной праздничной белой рубахе, с разбитой в кровь физиономией и храпящего на всю улицу Пестеля. Утром мы с ним выпили по стопарю, и я отправился демонстрировать вместе со всеми свою преданность делу построения самого справедливого общества. Генка не пошел. И вот результат. Мать мне рассказала, что вначале, добавив где-то, он прибежал домой за ножом, через двадцать минут явился с разбитым носом и без ножа. Набросал за пазуху гвоздей (для чего, спрашивается?), вновь помчался с криком: «Всех порешу!» Таким образом добежал до дома Николая Маранова, бывшего майора, подбежал к нему с воплями – и умылся соплями. Кровавыми. Рука фронтовика оказалась тяжелой, а удар точным. Одно слово – фронтовик. И так до следующей пьянки.
Но при всем при том был крайне стеснительным в отношении к слабому полу. И если пытался как-то выразить свое отношение к кому-либо из девчат, то обязательно заканчивал матом. Мы, бывало, собравшись на канаве и свесив ноги вниз, болтали, пели, смеялись, а Генка обычно пасся где-то рядом, его в общую компанию не допускали.
Он и женился нелепо. Лучший друг по работе на шинном решил порвать с надоевшей подругой и передал её Генке. Ей-богу, передал! Тот взял, а она не возражала. Такая вот любовь. Жизнь прожили, в меру ругаясь и скандаля, не без драк. Лида, он звал её Лидуха, родила ему сына, при этом изменяя направо и налево. Знал ли Генка об этом, не ведаю. За то время, пока жили у Сумкиных, мы как бы сроднились. Позже постоянно ходили друг к другу в гости. Они с матерью получили комнату в «розовом» доме напротив Федоровского собора. Я постоянно бывал у них, особенно по дням праздничным в бедные студенческие годы, потому что знал: брага и какая-никакая закуска у Лампеи для нас с Енахой всегда найдется. Я и хоронил её, помогая Генке. Сам он кончил плохо, сгорев на самопальном алкоголе в лихие девяностые.
С ним мы делили не только стол на время уроков, но и хлеб. Когда матери вместе уходили на работу при совпадении смен и мы оставались одни, он всегда предлагал что-нибудь приготовить «пожрать». Мы жарили на нашей большой сковороде картошку с салом, если имелось мясо, жарили его, кипятили чайник и гоняли чаи с сахаром, гуляя по полной. Готовил он отменно, не очень озадачиваясь соблюдением чистоты и гигиены, но здесь я не уступал и следил за чистотой.
Мясо обычно приносил работавший на мясокомбинате сосед и отдавал задешево при одном условии: брать следовало все или почти все. Причина банальна: с мясом он заявлялся прямо с работы, не заходя домой, а домой он приходил уже поддатый и с чекушкой в кармане. Бывший фронтовик и офицер, он, как и многие другие, не смог после войны найти место в мирной жизни. Они, вчерашние десятиклассники, попав на фронт, получали только одну профессию – солдатскую, предусматривавшую два умения – убивать и не быть убитым. Да, и еще одно умение: пить горькую. Фронтовые сто грамм каждый день на протяжении четырех лет войны – еще тот тренинг. И они пили… Дядя Коля из их числа. Бабы жалели его, еще больше жену, любившую своего ненаглядного Колю. И ждали, потому, сколько бы мяса ни принес, больше «пятерки» не брал. Выгода, однако. Но был у той выгоды минус, особенно летом. Холодильников тогда не знали. А стоящие в магазинах и больницах хранилища именовались ледниками, каковыми и являлись. По весне на реках нарезались ровные ледяные блоки, доставлявшиеся по месту назначения и укладывавшиеся определенной толщей под слой опилок.
В Чертовой лапе обходились безо льда. Мясо солили круто и закладывали в какую-либо емкую посудину. У нас тому служила пятилитровая кастрюля. Заложив мясо, на крышку клали несколько кирпичей, позже – булыжин. Мера предосторожности не зряшная. У соседей Сергиенковых имелся огромный кот. Нет мяса – нет и кота. Только появилось мясо, он тут как тут. Любую поклажу, сколь бы тяжелой ни была она, скидывал, мясо разбрасывал, чтобы ухватить самый большой кусок, и был таков. Генка не раз ловил его после, а иногда и во время преступной кражи, бил жестоко и безжалостно. Однажды при мне, желая убить кота, ударил головой об угол дома. Отбросил в картофельную борозду, как нам казалось, бездыханного. Но нет. Через пару минут тот, вздрогнув всем телом, приподнялся и пополз к своему дому. А через несколько дней уже бегал вовсю, но к нашему дому не приближался, только пристально следил за всем из огородных зарослей, дожидаясь своего часа. И дождался. Уж куда мы ни прятали ту кастрюлю, даже наверх куда-то затаскивали, даже подвешивали в авоське. Ничто не помогало. Так и приходилось делить мясо на пятерых.


