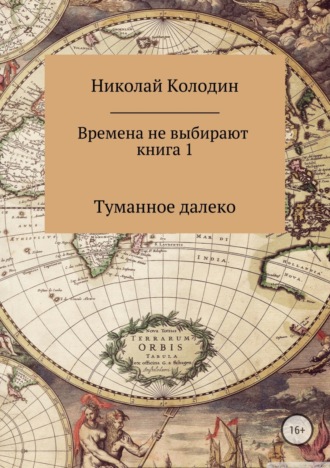
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
Меня в Короткове сразу же заинтересовало, почему у него такое женское имя – Ада. Или даже Адка. Оказалось, имя далеко не женское и даже более того. Он, родившийся да начала Великой Отечественной войны, назван был родителями Адольфом. Ясно, что во время войны и долгие годы после неё имя это ассоциировалось исключительно с Гитлером. Ада страшно комплексовал по этому поводу…
Его жена, красавица Галя, служила экономистом. Еще во время строительства дома родила ему сына, что стало поводом для общего веселья. Обычно оно выражалось в том, что после получки сбрасывались по два рубля, покупали водки по бутылке на двоих, простой закуски в виде конской колбасы, селедки либо кильки, плавленых сырков и черного хлеба и ждали конца рабочего дня. Летом шли на Донское кладбище, зимой собирались в отапливаемой с помощью бочки большой комнате недостроенного дома. Неспешно пили, закусывали, шутили. Расходились, довольные жизнью и собой.
Вскоре после новоселья Галя родила второй раз и опять сына. Казалось, что счастью в этой семье нет предела. У Ады всегда имелась брага и самогон. По выходным там часто шумела гулянка. Карьера его круто пошла в рост. Поммастер, мастер, начальник участка, затем начальник цеха. Они получили трехкомнатную квартиру в новом доме и уехали с нашей улицы. И я не знаю, когда тяга к веселью переросла у него в обычное пьянство. Он умер совсем еще молодым от цирроза печени.
В крайней квартире №36 проживала семья Сивковых: глава семьи Сергей, супруга его Клава и их сын, ставший с помощью соседа хорошим танцором и закончившим, кажется, железнодорожное училище. Имелась и дочь, помоложе брата, но пошустрей. Они старались жить тихо, незаметно и ни в каких подъездных и уж тем более общедомовых разборках не участвовали. Во всяком случае, Сергей. Клава нет-нет, да и заглядывала к нам на огонек, чтобы обсудить самые насущные проблемы личного и общественного характера. Порой их тихая дискуссия на кухне затягивалась, но обычно укладывались в какие-то час-полтора.
Сергей – мужик интересный. За что бы ни брались застройщики, от рубки леса для пиломатериалов и столярки до кирпичей и шлакоблоков, он всегда оказывался как бы не у дел, ну, никак не доходило до него распределение трудовой повинности. Это, согласитесь, талант надо иметь. Николай Страхов, бывший мой квартирный хозяин и учитель, последние годы трудился в местном ЖЭКе сантехником, а напарником имел как раз Сережу Сивкова. И всякий раз, беседуя на кухне с уважаемой им Зоей Александровной, крыл его по-всякому с преобладанием слов нецензурных и неповторимых. Крыл за лень, ладно бы, только за лень, больше за постоянное стремление въехать в рай на чужом горбу, что бывшему зэку «западло».
Еще на стройке Сергей Сивков часто бюллетенил из-за желудка, гастрита или из-за чего-то другого. Мужики не всегда верили, ворчали, но относились, в целом, терпимо. У нас, надо сказать, вообще не было каких-то свар или склок, очень хороший, трудолюбивый и миролюбивый народ подобрался. Болезнь меж тем прогрессировала и перешла в онкологию. Он умирал медленно и мучительно. Я не раз заходил к нему поговорить, подбодрить и все стадии умирания наблюдал наяву. В последние дни он больше напоминал живую мумию, которой уже не требовалась еда в обычном понимании, зато требовались морфиноподобные препараты для снятия боли. Морфий не только притуплял боль, но и вызывал наркотическое возбуждение. Клава матери моей жаловалась: «Совсем спятил, дочку прихватывает, словно бабу какую-то, сам притом встать в туалет самостоятельно не может…
Сергей был первым покойником в нашем подъезде. Может, оттого похороны его стали горем общим.
Первый адрес памятен до слез, ибо это место…
Где без стука ходят в гости,
где нет зависти и злости…
Милый дом,
Где рождения встречают
И навеки провожают
всем двором…
Мы все учились понемногу…
Еще в середине учебного года в своей ШРМ я двинул в массы лозунг: «Есть три достойных профессии – артист, юрист и журналист!» Понятно, что учителя сразу заклеймили:
– Как же рабочий класс, рабочие профессии…
– А никак, кто хочет быть рабочим, пожалуйста. Не хочу трудиться в системе, где одни делают вид, что работают, а другие, что платят им…
– Как тебе не стыдно, Колодин, ведь ты же сам из рабочей семьи…
– Потому и не стыдно…
Получался не спор, а унылая перепалка. Другое дело – сами избранные профессии. К тому времени стало ясно, что артистическая стезя не для меня: собственные артистические данные если и не отсутствуют совсем, то крайне ограниченны. Следовательно, первым не быть, а стоять в массовках не по мне. Юристом стать мог. Люся Панкратова собиралась на юридический факультет не то в Горьком, не то в Иванове и приглашала за компанию. Разве мог я возражать? Но она передумала и с факультетом, и со мною. Да и славно, какой к лешему юрист из меня, если и за себя-то не всегда в состоянии ответить. Оставалась профессия журналиста – единственная, в которой, чувствовал, могу чего-то добиться.
К сожалению, для поступления на факультет журналистики мне не дали медицинской справки по причине плохого зрения. При этом сам глазной врач советовал поступать на филологический факультет педагогического института. Удивительно, что справка по форме 286 с моими глазами путь в журналистику закрывала категорически, а вот для преподавания русского языка с ежедневной проверкой кучи тетрадей открывала настежь. Спятить можно от такой избирательности. Но делать нечего, стал готовиться к поступлению в пединститут.
Собирал нужные документы, сохранился один, строго обязательный – производственная характеристика с интересным последним абзацем: «Он (то есть я) является редактором комсомольско~молодежной фабричной газеты, состоит членом добровольной народной дружины, без отрыва от производства успешно окончил 10 классов, а с марта месяца 1959 года, взяв на себя повышенные социалистические обязательства, борется за звание ударника коммунистического труда».
Ударником я не стал, но читать такое все равно приятно, тем более не помню, чтобы брал на себя в хозотделе какие-либо обязательства. Ну, серьезно, что это за ударник, да еще коммунистического труда, с метлой!
Как же билось сердце, когда поднимался по старой чугунного литья лестнице бывшего клуба дворянского собрания на Республиканской, 108. Какие планы строились и роились в сознании! Но повторилась история с поступлением в строительный техникум, только там первым вступительным экзаменом было изложение, а здесь сочинение. Результат тот же: дальше просят не беспокоиться.
И кто знает, чем завершились бы вступительные муки мои, если б не «наш любимый Никита Сергеевич». Именно в тот год Н.С.Хрущев провел очередную реформу, на этот раз высшего образования, заключавшуюся в том, что принимались в вузы, в основном, молодые люди, имевшие стаж работы не менее двух лет. Тогда же создали при вузах подготовительные курсы, наподобие послереволюционных рабфаков.
Заведующей подготовительными курсами назначили начальника отдела кадров пединститута Веру Васильевну Аполлонскую. Может, ей не хватало количества будущих абитуриентов или по какой иной неведомой причине, но она буквально уговаривала меня поступить на эти платные курсы. Меня же не очень тянуло на них, и не только из-за денег, скорее, не хотелось вновь погружаться в систему вечернего обучения, тягостную невероятно.
– Ты не раздумывай, – уговаривала Вера Васильевна, – и поступишь на следующий год.
– Точно?
– Да я сама тебя за руку на первый курс приведу.
Согласился. А что, те же четыре раза в неделю по четыре урока, как и в ШРМ, не привыкать.
Еще летом на праздновании 950-летия Ярославля познакомился с невысоким рыжеватым пареньком с улыбкой во весь рот. Оказалось, он также не поступил и идет на подготовительные курсы. Так я встретился со Стасиком Алюхиным, ставшим моим лучшим другом на все студенческие годы. Нас объединяло не только чувство юмора (оба почитали Гашека, Ильфа с Петровым, Козьму Пруткова), но и стремление стать журналистами.
Народ на курсах подобрался солидный. Со мной за одним столом сидел армейский капитан. Отличный мужик, окончивший школу еще до войны и забывший напрочь все, чему когда-то учился. Присвоение очередного звания постоянно откладывалось, поскольку майор относится к старшему командному составу и посему обязан иметь высшее образование. Уж как он, бедный, мучился! Дают задание: образовать причастие от глагола блестеть. Задумался капитан, а потом, смотрю, пишет: «блистатый». Конечно, я засмеялся, а он покраснел до самого подвортничка кителя и так посмотрел на меня! Застыдившись, молча написал ему в тетрадь: «Блестящий, может быть и прилагательным». Мы подружились. Капитан поступил-таки, правда, на биолого-географический факультет, где практически не было конкурса, и сразу получил майора.
В нашей компании курильщиков, собиравшихся у окна на лестничной площадке, были еще двое: Алик Василевский, позднее – наш однокурсник, и Юра Охотников – красавец писаный: высокий, стройный, черноглазый, чернобровый, с улыбкой Алена Делона. Он из нас самый остроумный, находчивый и, что важно, наиболее грамотный. Уровень культуры – потрясающий. Даже жена, и та профессиональная артистка. И вдруг где-то зимой страшная новость: Юру Охотникова убили. У него была шикарная полногабаритная квартира на проспекте Октября, тогда еще улице Гражданской. Его обнаружили лежащим в луже крови на полу. Что за трагедия разыгралась там, так и осталось тайной.
Занятия на подготовительных курсах отнимали все свободное время. Мало высидеть четыре урока, надо еще из Чертовой лапы добраться до трамвайного кольца на Комсомольской площади, там дождаться трамвая, чтобы на нем доехать до Первомайской. Затем по Большой Октябрьской, минуя площадь Подбельского (нынешнюю Богоявленскую), домчаться до института. Занятия заканчивались позже десяти вечера, и начинался путь домой, когда трамваи ходят не так часто, а на улице мороз. Домой являешься к полуночи. И сразу – глубокий сон. Выручала способность высыпаться по максимуму за минимум времени (я в молодости очень мало спал, хватало четырех-пяти часов крепкого без сновидений сна).
Экзамены сдавали сразу по окончании курсов, то есть в конце мая, и до конца августа маялись в неведении: зачислены или нет. Наконец пришла заветная бумага, которую храню как зеницу ока. Не бумага – песня заздравная, у которой все строки заглавные. Некоторое недоумение вызывали два момента. Первый – неужели найдется дурак, способный «не явиться к указанному сроку по неуважительным причинам». Второй – «привезти с собой постельные принадлежности».
В тот же день с дружком Ромкой (по паспорту Роберт, а другим его именем было Робертино) Богажковым отметили радостное событие. Отметили, как обычно. И был я не то чтоб пьян, но весел бесконечно. И глубокой гулкой августовской ночью мы в компании, увеличившейся до четырех человек, вышагивали по самой середине только что заасфальтированной нашей улицы Закгейма, распевая во весь голос песни, и особенно часто:
Через Би-Би-Си я знаком с любым джазистом
И с чувихой похиляю я любой,
И пускай друзья меня зовут капиталистом,
Потому что я – советский бизнес-бой…
И вновь колхоз, силос, навоз…
На первый курс было принято 50 человек, или две группы. Это первый, если память не изменяет, набор на историко-филологический факультет широкого профиля. Поэтому группы поделили условно на историков и литераторов. Нам, историкам, больше давали истории, литераторам соответственно – русского языка и литературы. Но специальность оставалась общей: учитель русского языка, литературы, истории и обществоведения. Не проучились и одного дня. Первого сентября состоялось общее собрание первокурсников, где нам сообщили о незамедлительной отправке на сельхозработы. Так началась студенческая жизнь.
В колхозе бригадир первым делом поинтересовался, умеет ли кто-нибудь запрягать лошадь. Мне приходилось. И мы со Стасиком Алюхиным выделились из общей группы, занимаясь исключительно транспортировкой в колхозные закрома убранного с полей урожая, в основном, кукурузы на силос. Грузили вилами, а кукуруза за два метра, поэтому самый мелкий захват был, ох, как нелегок. Зато, набросав воз, мы ложились поверху, трогали коня и сворачивали по цигарке. Как же это здорово: лежать и смотреть на плывущие поверх тебя облака! Совсем не то, что смотреть на них, задрав голову. Лежа, становишься частью захватывающего небесного процесса.
Работали с перерывом на обед часов до пяти вечера, то есть уходили с поля, когда темнело. Разместили по домам колхозников. Нам изба досталась неплохая, обширная. Но спали все вповалку на полу. Я предпочел печь. Горячее ложе пришлось делить с другим будущим журналистом Володей Кутузовым. Никто не хотел лезть на печь с клопами, мы же решились. Кровососущих оба не боялись, ибо знакомы с ними с детства (ну, укусит, так не насмерть же!). Володька – парень юморной, говорил, утрированно окая, и на все про все знал ответ.
До сна еще надо дожить. До того каждый вечер мы отправлялись в дом, где разместились наши девчата. Парни наши, что называется, тертые, а девочки, составлявшие большинство, только наполовину с рабочим стажем. Другая половина поступила в вуз по квоте для отличников. Все девочки рафинированные, из очень зажиточных и благополучных семей. И притирка происходила постепенно, но уже по окончании уборочных работ все стали свои в доску.
Ходили вместе в сельский клуб, где танцы традиционные сменялись не менее традиционной «козулей», в ходе которой участники по очереди поют, точнее, выкрикивают частушки. Ну, тут равных мне среди наших не нашлось. И ведь мало спеть, хотелось еще удивить, поразить. А как? Кроме частушек, уж совершенно матерных, у меня в запасе было несколько таких, ну, на грани. Девочки наши, слушая их, закрывали лицо ладонями, так, чтоб и стыд свой за меня показать, но и увидеть всё, и услышать.
Оттопывая посреди замусоренного клубного «зала» свое очередное коленце, отчаянно выкрикивал: «Я иду, она стирает, я ей вынул из порток…» Далее многозначительная пауза, во время которой девочки ахали, ожидая совершенно похабного продолжения. Пауза завершалась для них неожиданно: «Не подумайте плохого, милка, выстирай платок».
По дороге домой девчата просили меня спеть еще что-нибудь. Срабатывало правило: когда слишком много рафинированного, хочется хоть немного «говнеца», и они ждали его от меня. А мне что, выдавал. Но старался-то для одной только.
Наташа Лебедева, невысокая, огненно-рыжая и очень-очень, как потом выяснилось, ласковая. С толстенной косой ниже пояса. К тому же далеко не глупая. Приглянулась – не продохнуть! Но ухажер из меня аховый, то есть никакой. Захожу как-то раз к ним в дом. Она лежит, коса по подушке разметалась. Робко спросив согласия, присел на краешек кровати. И вдруг:
– А хочешь, косу обрежу…
– Не нравится?
– Что ты, наоборот.
– Тогда, значит, не обрежешь.
– Давай на спор…
Не успела согласиться или возразить, как я хватанул ножницами почти у затылка. Поднапрягся (коса толстая) и обрезал практически под корень. Да еще и процитировал, мол, «была у девушки коса, её коса – её краса».
Девчонки долго меня потом позорили, рассказывая, как проплакала Наташа целую ночь. Но, удивительное дело, не отринула самодеятельного цирюльника. Более того, наш роман получил продолжение в городе. Начались «свиданки» с жаркими поцелуями и объятиями. Наташа жила в старинном доме с колоннами на углу Республиканской и Гражданской. Свидания завершались в обширном гулком подъезде с паркетными полами. Одно из объятий привело к падению моих очков, которые, конечно же, стукнувшись о гранитный паркет, разлетелись вдребезги. Как добрался до дома без очков и в темноте – загадка. Но чувства как-то сразу поостыли, отношения никогда не возобновлялись, хоть и остались мы добрыми друзьями.
На фотографии всей группы, сделанной сразу по возвращении из колхоза, она сидит с какой-то немыслимо сложной прической из густых рыжих волос. Без косы.
По следам ионофанок
К занятиям приступили в середине октября. Первые дни состояли из знакомства со старинным зданием. Едва сделав первые шаги по коридорам, я навсегда остался покоренный им. Вначале просто бродил по замысловатым коридорным закоулкам (таких здесь немало) еще будучи слушателем подготовительных курсов. Затем исподволь читал все, что попадалось под руку, касающееся истории его и архитектуры.
В 1880 году особняк, оцененный в 28 тысяч рублей, был продан женскому училищу. 1 октября 1880 года, по инициативе епископа Ярославского и Ростовского Ионафана, для подготовки учителей открывается епархиальное женское училище (с 1893 года – Ионафановское) на Богословской горке. «Ионафанки» находились на полном содержании училища, проживая в том же здании. Там, где ныне находится читальный зал университетской библиотеки, до революции располагалась общая спальня воспитанниц. Став учебным заведением, особняк значительно расширился. Балконы и парапеты здания украсила изящная решетка, а в вестибюле появилась знаменитая чугунная лестница. Сделали пристройки, площадью значительно превышавшие старинный особняк. Со стороны двора – двухэтажный корпус и домовую церковь Покровско-Марьинскую. В нижнем этаже церкви располагалась больничная палата. По Никитской (Салтыкова-Щедрина) улице – четырехэтажный корпус.
И вот я, новоявленнный студент, стою на шикарном старого фасона крыльце с надписью, удостоверяющей, что это именно Ярославский государственный педагогический институт имени К.Д.Ушинского. Вход в здание с массивными дверями и бронзовыми ручками, со львами, символизирующими респектабелность, надежность и прочность сущего всего. Может, потому для нас – студентов – он не существует, здесь нас не пропускали. От входа небольшой тамбур, справа доска объявлений, слева – вахтер, за спиной которого две преподавательские раздевалки и огромная доска с ключами. Прямо напротив – две маленькие двери: одна в библиотеку, другая в змеистый узкий коридор с массивной подвальной частью, в которой размещались библиотека, бухгалтерия и прочие технические службы.
Верхний второй этаж, на который вела старой ковки чугунная лестница с шикарным огромным зеркалом на первом же переходе, являло последовательную череду административных кабинетов от ректорского до кабинета парткома. Из кафедральных аудиторий три, зато какие: философии, политэкономии и истории партии!
Студенческий и вообще разночинный вход со стороны улицы Салтыкова-Щедрина. От двери на две стороны – спуск в цокольную часть. С левой стороны – раздевалка, с правой – общая столовая и преподавательский буфет. В столовой в бытность мою студенческую стояли две шикарные, огромные, старинного китайского фарфора вазы, под которыми и пятикопеечный винегрет съедался как отдельное блюдо ресторанного меню. К сожалению, столовой пользоваться приходилось редко, поскольку учились во вторую смену, а перерыва для обычно немалой очереди не хватало.
По небольшой короткой лестнице поднимаешься на первый этаж, поворот налево, вдоль по коридору, еще одна лестница, и попадаешь к себе на факультет. Это четырехэтажное здание по улице Салтыкова-Щедрина мы делили с физматом, они занимались в первую смену, мы – во вторую.
Наша аудитория – первая в коридоре второго этажа под номером восемь. Напротив деканат с доской расписаний. Первое отличие от школы – расписание не постоянное, поэтому учебный день начинаешь у доски. Здесь же всевозможные объявления и приказы декана, директора, позже ректора, проректоров, заведующих кафедрами.
Деканат мал невероятно. Первая комната метров шести, в которой умещается только письменный стол секретарши с пишущей машинкой, слева – дверь в комнату декана, такого же объема. Деканы же наши, вначале Николай Иванович Резвый, потом Лев Владимирович Сретенский – мужчины габаритные и выглядели в четырех камерных стенах стесненно. Помнится, в одном из концертов смотра художественной самодеятельности факультета была поставлена комическая опера, выходная ария которой завершалась так:
И очень трудно выразить в словах,
Как тяжко, братцы, в клеточке у Льва…
Колхоз на раскачку времени не оставил, и в учебный процесс пришлось включаться с ходу. Конечно, отсутствие ежедневного поурочного контроля расслабляло, но не нас, рабочих ребят, за время занятий в ШРМ и на подготовительных курсах научившихся беречь время.
Предметы и преподаватели
Но предметы! Предметы! Не уверен, что пошел бы сюда, зная, с чего придется начинать. Старославянский язык, историческая грамматика, введение в литературоведение, археология… Преподаватели столь же разные, как и преподаваемые ими предметы. Старославянский язык и историческую грамматику нам давал некто Костя Маков, то ли ассистент, то ли почасовик, короче, не из основы. Костя невысокого роста, лысый, несмотря на очевидную молодость, которой стеснялся, с безмятежной улыбкой и чистыми глазами подвыпившего ребенка.
Едва взойдя на кафедру, он с ходу начинал бормотать:
– Не лепо ли ны бяшеть, братие, начати старыми словесы…
И дальше по тексту увлеченно, но монотонно, не поднимая глаз, не слыша аудитории. Вспоминалось есенинское: «загузынил дьячишка ледащий»… Вспомнил, вероятно, вслух, ибо аудитория колыхнулась. С тех пор, если преподаватель начинал читать строго по тексту, неслось «загузынил».
Костя стеснялся возраста, постоянной подвыпитости, неряшливого внешнего вида… Кончил плохо. Однако зачеты нам поставить успел. Зачет есть, а знаний нет, о чем сожалею.
Еще один не познанный до конца предмет – «Введение в литературоведение». Вводил нас не кто иной, как сам директор института Андрей Степанович Гвоздарев, человек добродушный, улыбчивый, говоривший тихо и неспешно… В качестве примера для разбора использовал отрывок из монолога Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума»:
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен…
Следовало определить размер стиха. Оказывался ямб, но что это такое – узнать не удавалось, Андрей Степанович тихо и незаметно для себя засыпал. Мы – люди взрослые – не будили его и также тихо занимались своими делами. И что меня теперь роднит с пушкинским Онегиным, так это перефразированная характеристика: «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить», хотя, если верить диплому (сам уж того не помню), экзамен сдал на «хорошо».
За странную любовь Андрея Степановича к грибоедовским строкам лекции его меж собой мы именовали «дымными».
– А что у нас сегодня третьей парой?
– Третьей? Опять дымим…
И только после преждевременной кончины его 13 мая 1960 года мы узнали о нелегкой судьбе простого и очень легкого в общении человека, всегда и для всех открытого.
Он многое знал, но немногое мог. К тому же немало времени и сил отнимали директорские и кафедральные обязанности. Потому до нас знания свои не донес.
Где уж нам уж…
Гораздо большие проблемы доставлял русский язык. Первый же диктант привел преподавателя в ужас, переходящий в неистовство. Русский язык у нас тогда вела Ия Васильевна Рыбакова, невысокого роста, полноватая и симпатичная блондинка с большим чувством юмора, но… Горячая и вспыльчивая.
На первом занятии она дала нам обычный школьный диктант для десятиклассников. Написали удовлетворительно только наши девочки – отличницы вроде Наташи Лебедевой и Ирочки Быковой, да еще слепой Валя Зиновьев. Ия Васильевна не вошла, влетела в аудиторию, размахивая листочками с диктантом, словно горьковская мать пачкой прокламаций.
– Я всегда говорила, что пединститут для неудачников. Ну, девчонки ладно, им, собственно, кроме как в «пед» и «мед», которых хуже нет, идти некуда. Но мужики! Значит, ни на что негодны. На девять мужских диктантов – восемь «неудов». Причем не по шесть-восемь ошибок, а от восемнадцати до сорока!
Последняя цифра показалась нам подозрительно преувеличенной. Но она выдернула листок, испещренный красными чернилами. Это была работа ветерана корейской войны Анатолия Ивановича Гузнищева, старосты нашего, за годы не то что забывшего правила, но и буквы, кажется, не все помнившего.
Ия Васильевна, прочитав его фамилию, осознав перебор в отношении рекомендованного соответствующими органами студента, поутихла.
– Ну, я вас научу, я не слезу с вас, пока вы не станете грамотными, – уже спокойно заключила она.
И взялась, да как! Одними «яйцами вареными и сваренными» измучила в конец. И уж совсем, как несмысленышей, учила нас запоминать исключения из правил еще дореволюционной практикой. Например, шипящие без мягкого знака на конце «уж, замуж, невтерпеж» заучивали стишком:
Где уж нам уж
Выйти замуж,
Нам уж замуж
Невтерпёж.
Или другое правило: ко второму спряжению глаголов относятся все глаголы на –ить, кроме «брить» и « стелить». Глаголы-исключения мы опять же проговаривали вслух, словно молитву:
Терпеть, вертеть, обидеть,
Зависеть, ненавидеть,
Синонимы «видеть», «смотреть».
Нам было и смешно, особенно вначале, и обидно – в дальнейшем, но Ия Васильевна неумолима. Мы – парни рабочие, трудностей не боялись, от них не прятались и не ныли. Мы хотели учиться, на русский накинулись со злостью и твердили:
Вот бутон,
А вот батон,
Вот бидон,
А вот бетон…
Она своего добилась: к концу семестра «удовлетворительно» диктант писали все, разве что Толик Гузнищев иногда спотыкался, да и то не каждый раз. А уж к концу года нередкими стали хорошие оценки. Здесь важно еще что: мы плохо знали правила, некоторые не знали их вообще, но мы много читали. И не какой-то макулатуры типа «фэнтези», а настоящей, добротной русской классики, что неизбежно воспитывало чувство языка.
Ию Васильевну сменила Софья Федоровна Молчанова – полная ей противоположность. Чрезвычайно до мелочей интеллигентная, воспитанная, выдержанная. Она говорила очень чистым грудным голосом, всегда негромко, но оттого еще более внушительно. Не помню случая, чтобы она не то чтобы закричала, а просто повысила хоть на тональность голос. Нет, всегда в одной неспешной ритмике и негромкой тональности. С ней мы осваивали и освоили пунктуацию…
Вообще кафедра русского языка была сильна своими кадрами. Прежде всего, это сам заведующий кафедрой Григорий Григорьевич Мельниченко, выпускник Краснодарского государственного педагогического института, который окончил в 1930 году. Семь лет спустя становится преподавателем Ярославского пединститута и уже не расстается с ним. В конце Великой Отечественной войны являлся деканом филологического факультета, затем несколько лет руководил диалектологическим кабинетом. С 1949 по 1982 год, то есть более тридцати, заведовал кафедрой русского языка. Профессор, доктор филологических наук.
Годы моей учебы пришлись на самый расцвет научной деятельности этого крупного ученого, впрочем, тогда, скорее, рядового. Невысокого роста, полноватый и лысоватый (последнего обстоятельства стеснялся), он даже по институту ходил в берете. Рот его горел сталью и гремел металлом. Видимо, при протезировании не удался стоматологу прикус, поэтому даже при разговоре постоянно слышался лязг стукающихся зубов. Непривычно.
Главным делом всей жизни Григория Григорьевича стало создание диалектологического атласа русского языка. К делу подходил основательно. При его участии было организовано 15 экспедиций преподавателей и студентов по изучению говоров в Ярославской области. Откровенно говоря, не знаю, что имеется в виду, но моей группе курсе на втором предложили в летние каникулы поехать к родне в деревню и записать местные говоры. Раздали нам опросники, и отправились мы по родным весям. Я, естественно, в свое Малитино. Несколько вечеров терзал свою тетушку Надежду Александровну вопросами из вопросника и просто вопросами. Она, надо сказать, вначале отвечавшая неохотно (все-таки своих дел не переделаешь), затем втянулась и помогла мне составить хорошую тетрадку с редкими полузабытыми словами и целыми выражениями, которые я сдал на кафедру и получил твердый зачет.
В 1961 году выходит «Краткий ярославский областной словарь», объединивший материалы всех ранее составленных словарей, списков слов и других источников, содержащих местную лексику. Позднее он трансформировался в десятитомный «Ярославский областной словарь». Этот фундаментальный труд сделал его ведущим в стране языковедом-диалектологом. Он прожил долгую и полную научного поиска и находок жизнь – 87 лет, до конца оставаясь верен главному делу, последний десятый том словаря вышел в 1992 году, за два года до его кончины.
Самым верным и надежным помощником его в нелегком труде по составлению словаря стала В.А.Паршина. Очень хорошо сказала о ней Светлана Боева, считавшая себя её ученицей: «Баба Вера». На лекции она могла вдруг прервать объяснения и пуститься в воспоминания, как она с внуком ездила в Китай, или про Григория Григорьевича Мельниченко, перед которым преклонялась до самой смерти.
Вера Андреевна – редкой души и доброты человек. Ольга Карпова, методист заочного отделения, проработавшая с Верой Андреевной 32 года, вспоминала:
– Училась на заочном отделении девушка-отличница. И, как бывает с некоторыми отличницами, боялась госэкзамена. Добоялась до нервного расстройства, да такого сильного, что слегла в больницу. Пролежала два года – родители совсем отчаялись, не верили, что дочь выздоровеет и окончит институт. Тогда к ним пришла Вера Андреевна со словами:
– Приводите дочку, помогу.
За экзаменационным столом Вера Андреевна принимала экзамен, а Ольга держала руки бывшей отличницы: они тряслись так, что костяшки стучали по столу. Естественно, ответ был далек от идеального – члены комиссии пытались задавать дополнительные вопросы. Но как кто-нибудь из них открывал рот, Вера Андреевна кричала: «Молчать!». Чего-чего, а командовать она умела. Поставили девчонке положительную отметку. А на выпускном вечере, когда выпускникам заочного отделения вручали дипломы, мать девочки преподнесла Паршиной огромный букет цветов, стоя на коленях.
Она всегда кого-то навещала в больнице, кому-то приносила поесть, решала бесконечные студенческие проблемы. Однажды на заочном отделении раздался ее крик в адрес молодой мамаши, которая в коридоре с ребенком на руках ждала своей очереди сдавать экзамен:
– Что же ты делаешь? Ты же его не так завернула!
Студентка пошла сдавать, а Вера Андреевна прямо в коридоре перепеленывала чадо, убаюкивала его.
К внуку Алешке относилась заботливо и была с ним дружна. Она заменила ему родителей (отца Алеша не помнил, а мать почти сразу после рождения сына уехала в Ленинград – преподавать).
Она искренне верила, что в ее лекционных отступлениях решающим фактором является её биополе. Может, и ошибалась, но эта вера помогала ей делать добро. Если она звонила кому-то, то именно тогда, когда человеку бывало особенно плохо.


