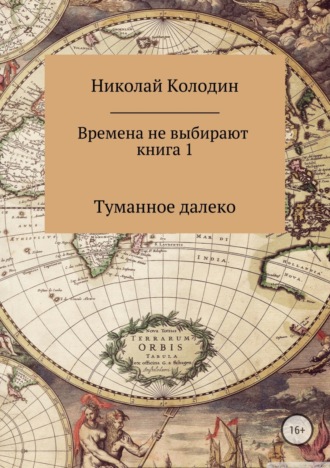
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
Не докурив последней папиросы…
Длительное время, как одолевшее наваждение, мог целыми днями бормотать стихотворение полностью или частично. И, конечно, уже совершенно спокойно относился к своим сочинениям, сознавая, что ничего подобного мне не создать. Думалось, что пока…
Больше всего обсуждали тогда стихи молодых поэтов: Ахмадулиной, Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Окуджавы. Журнал «Новый мир» опубликовал подборку стихов Евгения, среди которых было совершенно необычное для советской литературы тех лет: «Постель была расстелена, а ты была растеряна и спрашивала шепотом, а что потом, а что потом …»
И вдруг новость: Евтушенко едет к нам. Действительно приехал. Встреча проходила в переполненном актовом зале. Он читал свои стихи, рассказывал о себе, о литературной и окололитературной жизни Москвы, о только что завершившейся поездке по странам Африки, отвечал на вопросы. И, конечно же, читал стихи. Запомнилось немногое. Одно понравилось особенно:
Я на сырой земле лежу
в обнимочку с лопатою.
Во рту травинку я держу,
травинку кисловатую.
Такой проклятый грунт копать —
лопата поломается,
и очень хочется мне спать,
а спать не полагается.
И так неожиданно музыкально-распевно звучали они в его устах, что замерший до того зал, не сразу пришел в себя. А следом звучало совсем уж личное:
… А мне бубнят,
и нету с этим сладу,
что я плохой,
что с жизнью связан слабо.
Но если столько связано со мною,
я что-то значу, видимо,
и стою?
А если ничего собой не значу,
то отчего же
мучаюсь и плачу?!
Аудиторией он владел как никто другой, читал так, как невозможно повторить. В ту раннюю пору чувствовалось его стремление походить на Маяковского. Та же манера держаться на сцене увлекая и утверждаясь. Те же резкие взмахи руки. Та же громогласность. И даже сами стихи иногда так схожи. Мне, еще не забывшему фабричную проходную, где всякий раз я чувствовал свою некую приподнятость над сверстниками, оставшимися по ту её сторону, близки были его строчки:
Те, кто тома ворочает,
и те, кто грузит кокс,
все это
кость рабочая.
Я славлю эту кость!
Но оставил поэт «Рабочую кость» при себе, не прозвучала она тогда, Евгений тонко чувствовал аудиторию и понимал, что студенчеству ближе иное, что-то типа «О чем поют артисты джазовые». И он читал:
Здесь песни под рояль поются,
и пол трещит, и блюдца бьются,
здесь безнаказанно смеются
над платьем голых королей.
Здесь столько мнений,
столько прений
и о путях России прежней,
и о сегодняшней о ней…
Но, удивительное дело, совершенно не помню его африканских стихов, хотя он читал их, и не одно. Не задевало. Не трогало. А вот французские впечатления врезались: «Какие девочки в Париже, чёрт возьми! И чёрт – он с удовольствием их взял бы!»
Потом двинулись в гостиницу. Шли нестройной толпой посередине улицы, зная что до Свободы Республиканская пуста. Шли, естественно, пешком, продолжая начатый в актовом зале разговор о большой поэзии. Евтушенко курил сигарету за сигаретой, видимо, натерпелся за время встречи. Сохранилась фотография, на которой мы, кружковцы, провожаем поэта. В линию с поэтом шагают Жора Маврин, Володя Кутузов (никогда поэзией не увлекавшийся), Зиновий Иосифович Рогинский в распахнутом пальто рядом с поэтом, по другую сторону Сережа Чаадаев, приглаживающий свой разметаемый ветром кок. Далее я в каком-то белом плаще и уж во втором ряду, позади, Герман Петрович Верховский. Оттерла молодежь мэтра.
Евтушенко в сером, укороченном по западной моде демисезоне, шарфе, кепке, стоптанных нечищеных ботинках размера 46-го, не меньше.
Спрашиваю:
– Как общались в Африке?
– Элементарно. Достаточно знать слов сорок по-английски, и тебя поймут. Я знал около двухсот…
В гостинице я подал только что вышедший его сборник «Стихи разных лет» с просьбой подписать. Он молча сел на приступок у лестницы, ведущей на второй этаж На секунду задумался и подписал своим резким угловатым почерком:
О, вспомнят с чувством
горького стыда,
потомки
расправляясь хлестко
с мерзостью,
то время очень странное,
когда
простую честность
называли смелостью.
И коронное «Евг. Евт.» внизу.
Это как раз тот случай, когда почерк полностью характеризует человека. Мне кажется, что он весь состоял из углов, и углы эти мешали как самому, так и ближним ему. Нельзя было не заметить, как с годами раздобрел, расширился Роберт Рождественский, как округлился, располнел до астмы Андрей Вознесенский, как усыхал потихоньку, но не теряя гибкости и стройности, Булат Окуджава. Только он один становился все более остроугольным. Я постоянно видел его в последние годы жизни по телевидению: яркие расписные рубашки висели на его плечах, как на «плечиках», а просторный пиджак только подчеркивал все возрастающую худобу…
Вернусь к сборнику. У него потрясающая судьба. Как ни дорожил им, не уберег. Дочь Уля дала почитать кому-то из подружек. Они забыли вернуть, а она не вспомнила, кому отдала. Я бранился, да что проку. Жаль, конечно, но со временем успокоился. И вдруг на книжном развале в магазине «Букинист» на углу улиц Свободы и тогда еще Циммервальда вижу знакомую книгу. Схватил. Открываю – тот самый автограф, с тем же зачеркиванием после слов «то время…». Мой сборник. Мой…
Это было время, когда стихи Евтушенко переписывалось, передаваясь из рук в руки. Но мнения делились. И помнится, вгорячах Боря Лисин вдруг заявил:
Не уважаю я в душе
ни Чаада, ни Евтуше!
Надо сказать, что Сережа Чаадаев почитался у нас чуть ли не за гения. Высокий, стройный, с черными набриолиненными волосами и горячечным взором, он ужасно нравился девушкам, а вот ребятам – не очень, и, прежде всего, из-за снобизма своего. Злые языки поговаривали, что и лишнюю букву «а» в фамилии он приставил себе при получении паспорта, чтобы стать ближе к декабристу. Но стихи у него действительно были лучшими, он единственный из нас постоянно печатался в областных и даже иногда центральных изданиях.
А судьба не удалась. После института оказался во флотской газете Владивостока. Издал вроде бы сборник стихов. Но что-то не сложилось. Вернулся в Ярославль и здесь себя не нашел. Когда встретились с ним и разговорились, оказалось, торгует на рынке.
В одной из областных газет откровенно признавался: «Будь я один, может, ходил бы оборванным, нищим, но не бросил поэзию. Часто слышишь по ящику: «Не стало хороших поэтов. Не появляется больше поэтов, как Пастернак, Цветаева. Бродский был последним в этом списке – за ним грядет пустота». Но поэты, хоть и делают из «праха» великое, вечное, состоят из плоти и крови, им тоже хочется кушать, иметь семью. И я плачу сейчас своим даром за то, что все это имею. Самая высокая цена, какая только есть». Он ушел из жизни полным сил.
Профессиональными поэтами никто из нас не стал, но в журналистику подались многие. Привил-таки нам Герман Петрович не только любовь к поэзии, но и страсть к печатному слову. Стасик Алюхин возглавлял на областном радио интереснейшую программу «Ритм», Гера Омельницкий редактировал газету «За технологические кадры», Боря Лисин – «За педагогические кадры», Лева Рябчиков до конца возглавлял отделение ТАСС по Крыму, Толик Котов стал ведущим корреспондентом одной из районных газет, уже несколько книг издал Алик Симонов, до сих пор в журналистике и автор этих строк.
К сожалению, многие повторили трагическую судьбу Сережи Чаадаева. Вспоминая состав кружка, изумляюсь трагической карме членов его. Жора Маврин повесился. Жора Андреев в армии застрелился. Рано спился золотой медалист Гера Омельницкий, пропал на Камчатке Стасик Алюхин, умер от какой-то тропической заразы в Африке Боря Лисин, успев к тому времени защитить кандидатскую диссертацию… Вспоминая их, всякий раз возвращаюсь к некрасовским словам: «Братья-писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое»…
Интересен каждый
Второй курс – новые предметы, новые преподаватели. Из них хочется отметить двоих. Прежде всего, Л.Б.Генкина, преподававшего, на мой взгляд, самый интересный период русской истории с 1700 по 1861 году. Тут и Петр I с величайшими реформами, и Анна Иоановна с «бироновщиной», и Екатерина Великая, и «бедный» Павел, и Александр I «Благословенный», выигравший Отечественную войну 1812 года, и декабристы, и Александр II– «Освободитель», отменивший крепостное право. Одним словом, потрясающий по драматизму и насыщенности период отечественной истории. И читал его человек более чем достойный – Лазарь Борисович Генкин.
Познакомились мы с ним еще раньше. В начале первого курса по возвращении с сельхозработ решили сфотографироваться на память. К фотографии у театра им. Волкова шли гурьбой, там встретили двух преподавателей историков Генкина и Рогинского, попросили сфотографироваться с нами. Если Зиновий Иосифович согласился легко, то Генкина пришлось уговаривать. Он отказывался, ссылаясь на отсутствие времени, ненадлежащий внешний вид, заключая каждый раз одной фразой: «Да я вам весь вид испорчу».
Мы горячо возражали и думали про себя: хватим горя с капризным профессором. Желаемого, однако, добились, привели обоих в подвальный зальчик фотографии у волковского театра и сделали памятный, как потом оказалось, единственный снимок всей группы. На фотографии они, как есть в жизни, готовые вскочить и бежать дальше: решительный Рогинский, смущенный происходящим Генкин.
Опасения наши не подтвердились. Лазарь Борисович оказался вполне адекватным. Как сейчас, вижу его, высокого, чуть сутуловатого, с кудрями, тронутыми сединой, рассеянным взглядом из-под мощных очков и вечно смущенной полуулыбкой. Мне казалось, что он постоянно стеснялся всего и всех, но прежде всего – себя самого. Отчего, почему? Сейчас я думаю, из-за еврейского происхождения. Предсмертная сталинская антисемитская кампания закончилась, но не забылась… И комплексовал не зря. Когда мы учились на третьем курсе, разразился жуткий скандал. На очередном партийном собрании преподаватель кафедры истории СССР Николай Иванович Резвый, тогда декан факультета, заявил буквально: «А вам, граждане-еврейцы, лучше рты позакрывать и помалкивать в тряпочку». Николай Иванович любил подчеркивать, что он «из простых», и в выражениях не стеснялся. Поскольку отпора его провокация не получила, некоторые преподаватели в знак протеста подали заявление на увольнение. Одним из первых ушел Лазарь Борисович, которого тут же перехватил Воронежский госуниверситет, где он вскоре возглавил кафедру истории СССР. Не знаю, что сказал в ответ декану уважаемый профессор и сказал ли вообще что-нибудь, но мог!
Урожденный киевлянин, он с семи лет воспитывался у дяди в городке Борисоглебске Тамбовской губернии. В восемнадцать лет возглавил уездный, а чуть спустя – губернский комсомол. И не за столом, бумажки подписывая, а в боях с «антоновцами». Затем было отделение истории Военно-политической академии. По окончании её приезжает в наш город, работает редактором местного книжного издательства и одновременно пишет кандидатскую диссертацию по истории, которую защищает в 1939 году. На фронт ушел добровольцем и провоевал до самой победы. После возвращается к научной работе на кафедре истории СССР нашего пединститута, становится профессором и до упомянутого выше скандального собрания заведует кафедрой. Автор фундаментальных исследований местной истории. Почётный гражданин Ярославля. И ему «помалкивать в тряпочку»?!
Преподаватель отменный. Читал сухо и сдержанно, что, как сейчас понимаю, не очень вяжется с профессией журналиста. Но таков характер. Он приходил с потертым портфелем, из которого выгружал кучу бумаг, на самом деле копий реальных документов. И лекция становилась настоящей экскурсией в прошлое, интересной и захватывающей, хотя несколько монотонной. Меня монотонность не угнетала. Лекции Генкина – одни из немногих, которые я записывал. Не успевая за ходом изложения, сокращал, а потом не всегда понимал записанное. Но сразу уяснил главное: Лазарь Борисович давал материал не по учебнику, а сверх учебника. И то, что сообщал на лекции, мы не знали, и знаний тех нигде, кроме как у него, получить не могли. В багаже профессора горы освоенных в архивах документов, и он делился с нами, несмышленышами. А кому скучно – что ж, он не артист. Лазарь Борисович принадлежал к той категории преподавателей, которые стремились за время своей «пары» выложить в минимум времени максимум информации. А воспримет их студент или нет, его проблема. Думаю, это правильно.
Однажды после лекции подошел к нему и спросил, как он оценивает мемуары одно время возглавлявшего царское правительство Сергея Юльевича Витте? Только что вышли его воспоминания в трех солидных томах.
– А вы что, читали их?
– Да, и мне кажется теперь, что не все верно в наших учебниках.
Генкин надолго задумался. Конечно же, он оценивал, можно ли быть со мной откровенным. И решился:
– Витте искренен. Другое дело его позиция. Она и при жизни его не всеми поддерживалась. Но вы читайте мемуары. Читайте как можно больше. В них история.
Не скажу о других, но я очень жалел о его уходе из нашего института. Подобных ему на кафедре не нашлось. Разве что Павел Григорьевич Андреев, читавший курс России как раз до 1700 года. Как лектор он даже превосходил Генкина. Маленький, сухонький, с лицом исхудалым, на котором выделялись крупный нос и озорные глаза. Имелась у него одна довольно странная привычка. Зайдя на кафедру, сбросив портфель, хватался за нос и долго держал его в кулаке, словно проверяя, на месте ли главная достопримечательность лица. После следовало: « На чем остановились?» И начинал рассказывать. Очень живо. С подробностями и деталями, которых не то что в учебнике, но и в специальной литературе не встретить, ибо опирались они на местные архивные данные.
Часто ударялся в воспоминания, довольно оригинальные.
– В гимназию я пришел «приготовишкой», существовал тогда приготовительный класс для тех, кто получал домашнее образование или показывал знания, недостаточные для начального гимназического курса. Конечно, казарменные условия, конечно, суровая дисциплина. Но…
При этом «но» он вновь хватался за нос и делал паузу.
– Но чтобы выпускник гимназии в сочинении сделал более двух, максимум трех ошибок, не бывало. Быть не могло. И никогда никто не сомневался в учителе. Придет иной папаша, купчина, в дверь шириной, и расстилается перед инспектором либо учителем: «Вы уж с моим дураком построже!» То есть даже мысли не возникало, что в плохих оценках виновен кто-либо, кроме самого гимназиста. Ныне все наоборот, и в итоге на вступительных экзаменах большинство абитуриентов делает массу ошибок, до двадцати (он в ужасе хватался за нос) и даже больше»…
Еще один колоритный персонаж – Зиновий Иосифович Рогинский с кафедры всеобщей истории, читавший нам курс истории средних веков. Бывший фронтовик, обычно ходивший в добротном цивильном костюме с претензией, на демонстрации 1 мая и 7 ноября являлся непременно в кителе, который украшало множество наград. Сверкал и звенел! При этом все время перемещался вдоль колонны, то с одной группой пойдет, то с другой, непременно что-то устраняя и улучшая. Где он, там крик и звон, крик и звон…
Лекции читал на таком подъеме, что невольно вспоминался Гоголь с его знаменитым: «Александр Македонский, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?» В отдельное представление превращались его экзамены. Он и прерывал студента, и хохотал, и дополнял, а потому мог сказать свое сокровенное «БСК!» и поставить неуд, а то и вовсе выбросить зачетку за дверь аудитории к ногам изумленных, с трепетом ожидающих своего часа студентов. В общем-то всё было понятно: фронтовик, наверное, контуженный. Неясна была лишь эта его загадочная аббревиатура. И как-то набравшись смелости или нахальства, когда мы шли к выходу после очередного заседания творческого кружка, куда он ходил практически регулярно, я спросил его об этом. Зиновий Иосифович захохотал:
– Неужели неясно: бред сивой кобылы.
Почему кобылы, да еще и сивой, уточнить не решился.
Курс он знал хорошо, объяснял доступно и весело, потому мы многое ему прощали. Как раз тогда он завершал работу над докторской диссертацией и издал небольшую книжечку страниц на 80 под названием «Поездка посла Семена Дохтурова в Англию». Книжечка небольшая, но на мелованной бумаге и с хорошими иллюстрациями оригинального текста. И получалась она по стоимости вполне приличной. Закавыка в том, что тогда институтское издательство все книги (что случалось довольно редко, чаще – рефераты) издавало исключительно за счет автора. Зиновий Иосифович нашел оригинальный выход, предложив всем нам спуститься на первый этаж в комнату издательства и купить каждому по книге.
– На экзамен без неё не приходите, – предупредил открытым текстом.
Что делать, пришлось покупать. Но я за потраченные деньги решил взять с него автограф. Он расписался с удовольствием: «Коллеге по творчеству с наилучшими пожеланиями». Книгу не сохранил: кто-то позаимствовал.
Два предмета вызывали у меня органическое отторжение: логика и атеизм. Первая по причине трудного восприятия нелогичной душой моей всяких силлогических построений. Позже в словаре Даля я прочел:
– Логика ж. греч. – наука здравомыслия, наука правильно рассуждать, умословие. Логик м., умослов… И далее: Логомахия ж. – словопрение, спор из пустого в порожнее.
Вот точнее не скажешь, все лекции и семинары по логике от начала до конца являлись этой самой логомахией. Предмет терпеть не могли, за что поплатились на экзамене. Большинство, и я в том числе, получили «Уд». Неудов не считал. Но мне-то в принципе все оценки были «до лампочки», главное – получить стипендию, а с одной тройкой я твердо на неё претендовал. К тому же понимал, что совсем не умослов, и, может, даже хуже. Но наши отличницы! Многим из них логомахия попортила диплом. Преподавал предмет некто по фамилии Стернин, так иначе, как Стервин, его никто не называл.
Он же преподавал атеизм. Предмет другой, да логомахия та же. В заключение – зачет. С первого раза и половина не получила его. Я, к собственному удивлению, получил сразу.
Еще один лишний для меня предмет – иностранный язык. Я и так-то не особо тяготел к нему, а после того, как органы забраковали мою кандидатуру для работы за рубежом, мне немецкий язык… Но без него нет зачетов, а без зачетов нет допуска к экзаменам. Приходилось мучиться. Обычно практические занятия (иных вариантов по иностранному языку у нас не было) заключались в переводе текста. Выбор произвольный. Это и спасало. В киосках «Союзпечати» покупал газету «Нойес Лебен» («Новая жизнь»), которую делали в Москве для русских немцев и вообще для «недоразвитых». Но даже она для меня сложна, потому брал для перевода исключительно передовые статьи, где добрая половина слов понятна без перевода: бесконечные упоминания лидеров СССР и ГДР, слова «социализм», «фройндшафт» (дружба) и подобные им. Читал-то я бегло, учительница удивлялась, я изумлялся больше её. С переводом тормозил, но в положенное время укладывался, хотя ни на один дополнительный вопрос ответить не мог. Да и как, если заданный на чисто немецком вопрос не понимал. Однако зачеты аккуратно получал, а в диплом забрел еще один «уд». Успешно сдав зимнюю сессию, нежданно-негаданно удостоился хорошего подарка.
Ночлежка в «Репинке»
В зимние каникулы группа наиболее активных членов студенческого научного общества по приглашению местного горкома комсомола отправилась в Ленинград. Я оказался в числе счастливчиков, не представляя, кто постарался включить меня в состав группы.
Приехали рано утром, нужный городской транспорт еще ночевал. В метро добрались до Невского проспекта. Темно, сыро, ветрено. На мне модный укороченный гэдээровский демисезончик «на рыбьем меху». Мы вышагиваем по знаменитой «першпективе», продрогнув до костей, не желая соглашаться с Николаем Васильевичем Гоголем, утверждавшим: «Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле»…
Нет, никак не получалось у нас забыть о нужном деле, поскорее оказаться в тепле. Только к девяти часам добрались к месту «гостевания». Это Академия художеств имени Ильи Ефимовича Репина (в обиходе «Репинка») на набережной Невы. Место историческое и знаменитое. Как раз напротив главного входа знаменитые питерские сфинксы, равнодушно взирающие друг на друга и вообще на окружающее. Оно и понятно. При их-то древности и знатности такая пустячность вроде нас, убогих. Все время каникул поутру, выходя из академии, шел к ним, чтобы посмотреть, поздороваться с ними, сказав какую-нибудь нелепицу типа: «Без фиксы какие сфинксы?»
Им по три с половиной тысячи лет. Питерцы убеждены, что, во-первых, ни в коем случае нельзя тревожить их сон: залезать на них, отламывать кусочки на память. Сфинксы – проводники в потусторонний мир, не исключено, что способны забрать смельчака с собой. Во-вторых, отличаются. В одном больше выражено мужское начало, в другом – женское. Прежде чем начать загадывать желание, стоит определиться, какой больше нравится.
От питерских студентов узнали, как им помогают перед сессией другие символы города – императоры Петр и Екатерина. Постамент конного памятника Петру возле Михайловского замка украшен барельефом «Битва при Гангуте». Бронзовая пятка спасенного матроса отполирована до блеска, потому что подержавшийся за нее студент «выплывет» на любом экзамене. Впрочем, никакой, даже самый счастливый матрос не сравнится с покровительницей наук Екатериной II. Отчаянный, но не отчаявшийся студент должен прийти к памятнику Екатерине возле Александринского театра и нежно коснуться декольте императрицы. Сделать это вовсе не просто, высота памятника с постаментом почти 15 метров. Но если уж доберешься до бюста царицы, в долгу она не останется.
Место для ночлежки нам еще не обустроили, но позволили снести вещи в ближнюю кладовую. Завтракали в буфете академии. Первый день нам хозяева не расписали, отдав под обустройство и знакомство.
Когда проходили главным входом, обратили внимание на стенды, извещавшие об открывшейся только-только выставке работ американского художника Рокуэлла Кента. Не пойти нельзя. И не потому, что группа состояла сплошь из ценителей и знатоков изобразительного искусства. Все проще и сложнее. На дворе 1961 год. Еще не затихли бои на фронтах «холодной войны», и мы, советские обыватели, находившиеся по свою сторону «железного занавеса», знали об Америке только то, что там есть белые, сплошь империалисты, и черные, которых бьют. И вдруг выставка американца, неизвестного, но уже, по определению, интересного.
Выставка открывалась значительно позже, и все это время мы маялись в вестибюле, пропуская юных творцов, спешивших на занятия, импозантных преподавателей, бородатых и бритых, а также людей непонятной социальной принадлежности, тоже устремлявшихся куда-то вверх по широкой каменной лестнице.
Но маялись не зря. Едва открылись двери, устремились в зал, и я застыл, еще не подойдя к картинам вплотную. Мне, воспитанному на шишкинских «Мишках» и васнецовской «Аленушке», увиденное надо было не просто осмыслить – пережить. Полотна с непривычно резкими линиями границ льда, воды и света. Бывший рыбак и плотник путешествовал много, но для своих картин избрал природу севера, и «Зима в Гренландии» – типичный образец её. Очень лаконичные и строгие картины Кента прямо-таки дышали полярным холодом. У нас самый близкий по манере к нему Георгий Нисский, с теми же разрезающими полотно резкими линиями горизонта, пример – «Московская рокада». Но у Нисского природа наша, и потому картины теплее. А здесь свет и холод, мрак и стужа. Три основных объекта: небо, лед, вода.
Впечатлений хватило на весь день. К вечеру, уставшие от ходьбы, мы вновь собрались в вестибюле, уже не думая о том, какая выпала честь – жить в Академии художеств! Думалось, как бы скорее улечься.
Нас разместили в бывшей мастерской самого Ильи Ефимовича Репина. И все бы в радость, только мастерская художника, как и положено, размещалась на самом верху здания, под крышей. Высокие потолки, огромная площадь, никак не меньше баскетбольного спортзала. Но попасть в неё можно только по узкой, наверное, «черной» лестнице, с десятками маршевых пролетов. Со своими шмотками мы тащились наверх, чертыхаясь и задыхаясь. Здесь нас ждал большой сюрприз, и даже не один. Во-первых, нам дали по тощему старенькому матрасу, байковому одеялу и нечто, напоминавшее подушку. Спальные места – на выбор на полу. А с нами девушки. Проблему решили, условно поделив мастерскую пополам, ближе к стене – девчата, ближе к двери – мы. Наши амазонки могли спать спокойно.
Второй сюрприз – вся несущая стена практически от пола до потолка увешана написанными маслом изображениями натурщиц. Разумеется, обнаженных. Ну, голых совершенно. К тому же в самых разных позах, призванных подчеркнуть то или иное женское достоинство.
Что тут началось!
– Парни, гля, а бабы-то голые…
Каждый стремился по мере своего остроумия прокомментировать ту или иную картину. Причем девчата не отставали, правда, подчеркивая недостатки изображенных, мы же искали и находили только достоинства.
Спор разрешился приходом руководителя группы Владимира Вячеславовича Радзиевского. Он только ахнул и побежал куда-то выяснять причины навязанного «разврата», требуя убрать картины. То ли не нашел никого, то ли не убедил, но вернулся красный от гнева и злости. Думал недолго, обязал в его присутствии перевернуть картины тыльной стороной. Часа полтора с помощью стремянки выполняли указание, успев возненавидеть его всеми фибрами наших юных душ. Когда стена из ярко-красочной стала уныло серой, он удовлетворенно хмыкнул и отправился к себе. Сам-то ночевал в гостинице. Едва закрылась за ним дверь, мы дали волю своему самовыражению. Если б профессор услышал хотя бы толику высказанного в свой адрес, думаю, у нас бы не появился. Но он ничего не слышал и потому все дни не отходил от нас ни на шаг, контролируя и сдерживая. Обычный его аргумент: «Вы хотите моего увольнения?» Да нет, мы хотели, чтобы он от нас отстал…
Чуть позже, еще в Питере, со слов ребят с физмата узнал, что в целом дядька он неплохой и очень даже интересный. Мечтал стать горным инженером и даже поступил в Ленинградский горный институт, но через три года ушел и стал астрономом. Достиг успеха и признания: Всемирный центр по малым планетам назвал один из зарегистрированных астероидов «Радзиевский».
Владимир Вячеславович – мужчина, рослый, стройный, импозантный, оказался незаменимым в решении то и дело возникавших проблем. И всегда рядом, всегда настороже.
Быт обустроился по-студенчески быстро и скромно. Утром завтракали в буфете, обедали, в основном, пончиками с кофе, тем более что тогда Ленинград был заполнен пончиковыми киосками, ещё чаще торговля ими велась через какое-нибудь окно. Берешь десяток пончиков и пару стаканов кофе, укладываешься в рубль и сыт до вечера. Вечером группа распадалась. Одни шли в ближнюю столовую, которая совсем неблизко, другие ехали на Невский в модное кафе с названием, кажется, «Север». Мы со Стасиком Алюхиным отыскали в ближних дворах скромный продуктовый магазин и каждый вечер шли туда, чтобы взять полкило чайной колбасы по 1 руб. 30 коп. за килограмм и батон. Сахар в репинских «пенатах» уже имелся. Возвращались не спеша. В памяти вечер, мягкий падающий снег, золотящийся в свете уличных фонарей, ограда какого-то парка с пиками по верху, тени старых деревьев и удивительная для центральной части северной столицы тишина. Можно и обсудить увиденное, а еще лучше помолчать. Нам с ним хватало молчания. У входа в академию стряхивали снег и длинным полутемным коридором шли к своей «черной» лестнице и туалету при ней. Его не обойдешь, памятуя о высоте «пенат». После туалета затяжной подъем, и дома! Ставим электрический чайник, то ли привезенный кем-то из девчат, то ли оставленный студентами. Неспешное поедание колбасы с батоном. Какая же это была колбаса! Никакие нынешние сервелаты не сравнимы. Вкусная, с запахом, возбуждающим аппетит, но главное – чисто мясная. Съедали всё до последней крошки, запивали чаем с сахаром, и на пол… И по новой обсуждение натурщиц с картин на противоположной высокой и длинной стене. Часам к девяти собирались все, начиналась травля анекдотов. Засыпали к полуночи.
Прогуливаясь по городу, не могли пройти мимо наиболее известных соборов. Казанский на Невском проспекте, созданный волею императора Павла I наподобие Ватиканского собора Святого Петра, не может не поражать выверенностью пропорций. Ведь в отличие от римской святыни поставлен не на обширной площади, а на нечетной стороне Невского проспекта. Как Андрей Никифорович Воронихин, бывший крепостной графа Строганова, умудрился вписать столь грандиозное сооружение в рамки улицы, пусть именуемой проспектом, но все же обычной городской, уму непостижимо. И еще эта полукруглая колоннада из почти ста поставленных в четыре ряда колонн. Неимоверно. Мы заходили внутрь, для студентов вход бесплатный. Одна беда – собор превратили в музей атеизма, совершенно неинтересный.
А в экскурсии по Исакиевскому собору нас сопровождал невысокий, очень подвижный, курчавый молодой человек с большим чувством юмора. В частности, рассказ он начал с вопроса: «Почему собор носит такое имя»? Ни у кого из нас ответа не было. И тогда он рассказал об анекдотичном случае. В ЖЭК по какой-то необходимости пришла коренная ленинградка Мария Исааковна Петрова. Чиновник, читая заявление, спотыкается на отчестве:
– Еврейка, что ли?
– Если я еврейка, – с достоинством ответила посетительница, – то Исакиевский собор – синагога.
Волею Петра I «первенствующий в империи» собор начался с построенной в 1710 году близ Адмиралтейства деревянной церкви во имя святого Исаакия Далматского, день памяти которого 30 мая совпал с днем рождения самого Петра. И именно в том храме два года спустя он венчался со второй своей женой Екатериной Алексеевной. Нынешний собор построен полтора века спустя.
Еще одно знаменательное знакомство – выставка Николая Константиновича Рериха, творчество которого в столь полном объеме, кажется, впервые представили советскому зрителю. Откровением было всё, начиная с фамилии, которая пишется через «ё» – Рёрих. Интересны картины, которые, как писал один автор, «отличаются напряженной эмоциональностью, лаконичностью выразительных средств (контурный рисунок, локальные контрастные тона), а в поздний период – усложненным аллегорическим замыслом».


