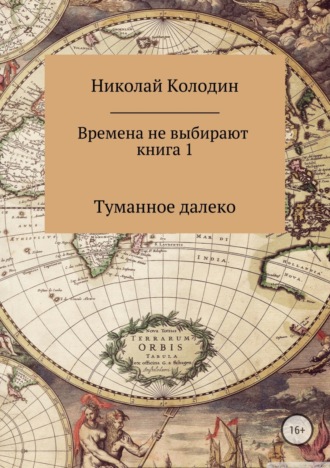
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
Появлялись и музыкальные произведения: один за другим он сочиняет то пять, то семь прелюдий буквально в несколько дней. Точнее сказать – успевал записывать, многое так и осталось не перенесенным на ноты. Всего же к концу жизни сочинил свыше 200 произведений для фортепиано, для струнного квартета и для органа. Творческий подъем летних месяцев 1909 года потребовал гигантского напряжения. В сентябре они с Софией возвратились в Петербург. У них не оказалось ни работы, ни денег, ни друзей, но что-то необъяснимое держало его в городе, где он сочинил лучшую свою музыку и написал лучшие картины. Зато, увы, не удержал молодую жену, не привыкшую к такому образу жизни. Она вернулась домой.
А сам он – на пределе, с проявлениями душевного расстройства. Добужинский вспоминал: «Вернувшись в начале зимы в Петербург, я стал беспокоиться, что он не показывается у нас, и пошел к нему. Нашел его абсолютно больным. Я срочно сообщил об этом его жене в Вильнюс и его другу Ч.Саснаускасу, который жил в Петербурге…» Перед Рождеством София забрала мужа в Друскининкай.
Иногда он гулял, иногда садился к инструменту и, как прежде, начинал импровизировать. Затем наступило резкое ухудшение. Его увезли в Варшаву, а оттуда в близлежащие Пустельники, где он остался в небольшой частной клинике для душевнобольных. Ему запретили рисовать и заниматься музыкой, что только ухудшило состояние. В больнице провел больше года. К исходу весны 1910 года в состоянии появились обнадеживающие признаки. Ему разрешили немного рисовать и сообщили о рождении дочери. Короткая записка с поздравлениями Софии и маленькой Дануте была последним его письмом. Но ожидаемой выписки не последовало. Он сбегает из больницы. Кружа по лесу, не может найти дороги и оказывается в больнице с воспалением легких и кровоизлиянием в мозг. 10 апреля 1911 года художника не стало. Он не достиг даже возраста Христа.
Это был живой, сердечный и открытый человек. Единственное, что могло его вывести из себя, – это просьба «объяснить» содержание той или иной его картины. Он негодовал: «…почему они не смотрят. Почему не напрягают свою душу!». В общении вёл себя скромно, не стремился выделиться. Обладал гипнотическими способностями, но прекратил эксперименты, поняв, что результаты их нередко огорчают людей. Несмотря на свою скромность, оказывал сильное влияние на окружение. «Когда Чюрлёнис был с нами, все мы были лучше. Рядом с ним не могло быть ни плохого человека, ни злых чувств», – вспоминала супруга английского консула в Варшаве Галина Вельман.
Удивительное дело: как не везло в жизни ему самому, так не везло его творческому наследию. Рукописи многие пропали, ноты частью безвозвратно утеряны. Картины… С ними вообще история редкостная. После смерти художника интеллигенция Литвы принялась собирать его картины. В 1913 году в Вильнюсе, чтобы скупить все творения художника, организовалась даже «Чюрлёнская рота». Но началась первая мировая война, средств достаточных собрать не удалось, возникла опасность уничтожения картин. Все собранные срочно вывезли в Москву, они хранились на квартире Юргиса Балтрушайтиса и только после 1920 года вернулись в Литву. В 1921 году сейм Литвы принял закон о галерее Чюрлёниса. На следующий год картины выкупили у вдовы, они и стали основой музея. В1936 году работы Чюрлёниса прибыли в новый культурный музей Витаутаса Великого. Здесь экспонировалось почти всё творческое наследие художника. Казалось, что созданы самые благоприятные условия для хранения картин, для знакомства с ними. Однако началась вторая мировая война. Часть картин спрятали в сейфе банка Литвы. О спрятанных в сейфе картинах вспомнили только во время наводнения Немана в 1946 году, когда цикл «Зодиак» и другие темперы уже мокли в воде.
Чюрленис разделил участь многих талантов. Слава опаздывала, и только смерть выявила, что его искусство затронуло многих. Сравнивая Чюрлениса с Врубелем, умершим за год до того, Добужинский отмечал, что у обоих был "почти одинаковый конец", тот и другой – "одиночки в искусстве".
Наследие Чюрлёниса не исследовано и не объяснено до конца. Одни считают его предтечей абстракционизма, другие – предвестником русского авангарда. Максимилиан Волошин однажды назвал Чюрлёниса «дилетантом» и добавил, что бог дилетантов не любит! Бенуа, улыбнувшись, ответил: «Наверно, потому, что бог сам дилетант»… Ответ подразумевал, что у бога при сотворении земли и неба тоже не было опыта и ему не у кого было учиться.
Не могу сказать, что в музее очаровался работами Чюрлёниса, но потрясен однозначно.
Посещением музея наша культурная программа и ограничилась. Все свободное время мы проводили на пляже, солнечная теплая погода тому благоприятствовала. Алдона в купальнике, как мне казалось, способна была вдохновить любого, а если на ощупь, то даже слепого, и я часто закрывал глаза…. Местный пляж на пологом берегу Немана, или по-литовски Нямунаса, невелик, но очень благоустроен. Высокий противоположный берег порос лесом, густым и темным. Мне говорили, что вплоть до конца пятидесятых, то есть за три-четыре года до моего приезда, с той стороны выходили «лесные братья» и открывали автоматный огонь по загорающим русским, хотя, точнее сказать, советским, ибо здесь были все, даже чукчи и узбеки.
Вода в Немане чистая, однако даже теплым летом довольно холодная, и, чтобы искупаться, требовалось определенное мужество. На первых порах. Потом привыкаешь. Но все равно это не наши Которосль или Волга.
Здесь я втянулся в настольный теннис, который литовцы упорно именовали пинг-понгом для того только, чтобы избежать русского наименования. Но интересная деталь. Играют два литовца. Вокруг отдыхающие, для которых язык общения – русский. Литовцы меж собой отношения выясняют на родном, а вот матерятся исключительно на русском. Мат в прибалтийском исполнении, да еще вкрапленный в поток не русской речи звучал необычно эмоционально. Я, вспомнив, рассказал Алдоне студенческую хохму: «Какая разница между матом и диаматом?» – «Мат знают все, но делают вид, что не знают. Диамата не знает никто, но все изображают знающих. То и другое –оружие пролетариата». «Мирового пролетариата», – уточнила умненькая Алдона. Почему все иностранцы легко перенимают именно русский мат? Еще одна наша загадка ?
Мой словарный запас литовского рос не по дням, а по часам, коренным в нем являлось словосочетание «кьек кайнуая», или «сколько стоит?» Литовцы, особенно молодые, русский понимали отлично, все же в школах ежедневные обязательные уроки по нему. Хоть что-то должно остаться в головах. Но если на базаре ты будешь спрашивать по-русски, то в лучшем случае тебя заметят не сразу, в худшем не заметят вообще. А спросишь по-литовски, продавец – сама улыбка. Потом ты можешь говорить на любом наречии, но подошел со знанием пусть двух, но родных ему слов, и тем ему дорог.
Не знаю, может, скажу вещь не совсем патриотичную, но ни тогда, ни тем более сегодня, после нашего всеобщего раздрая, не понимаю местных русских, упорно не желающих говорить на языке страны проживания. Если уж судьба занесла в края неродные, так будь добр жить с местными дружно. А на бытовом уровне и требуется совсем ничего: говорить с ними на одном языке, разумеется, родном для них. Тем более, что и изучить-то его как разговорный особого труда не требуется. По сравнению с русским все языки, кроме тех, что с иероглифами, нетрудны.
Наши свидания и долгие посиделки в укромных уголках неизбежно вели к финалу, где Алена-Алдона сыграла главную роль. Она оказалась девушкой не только без комплексов, но и без вариантов. Именно она сделала предложение, на которое надо было как-то отвечать. Но как?
Она мои сомнения расценила как скромность и стала продвигаться еще стремительнее.
– Одна проблема, – говорила она, – надо или ехать в Ярославль, или остаться тут в Друскеники.
– А Вильнюс?
– В Вильнюс нельзя. Отец против брака с русским.
– Здрасьте. Он же у тебя коммунист и вроде даже партизан. Откуда такая неприязнь?
– Никакой неприязни, голый патриотизм. В Литве женщин меньше, чем мужчин. Он считает: чтобы сохранить нацию, литовки должны жениться только на литовцах…
– А литовцы?
– Их больше, и они могут выбирать.
– Если остаться здесь, где я найду работу? Не на кухню же с тобой идти.
– Кому ты нужен на кухне! Нет, я уже подыскала тебе место.
– Где?
– В школе.
– Местной?
– Ну, да. Здесь есть средняя школа.
– Что же я буду преподавать, не зная литовского?
– Русский язык. Он обязательный, шесть часов в неделю в каждом классе начиная с пятого.
– Ты что, уже договорилась?
– Конечно. Завтра у меня выходной, и нас ждет директор. Отличный, кстати, дяденька.
На следующий день мы пошли в местную школу. Она находилась на краю городка и вплотную примыкала к лесу. Двухэтажное здание всего лишь, но вылизанное от и до. Чистота как снаружи, так и внутри. Территория школы – целый парк со стадионом.
Директор, сравнительно молодой литовец, отлично владел русским языком. Поинтересовался, откуда? Оказалось, закончил Ленинградский пединститут имени А.И.Герцена. Разговор перешел в конкретное русло. Сразу около тридцати часов русского языка и русской литературы. Она отдельно. Для проживания – на первое время комната, через год, если не сбегу, – квартира.
Серьезный подход, но я не мог не сказать об одной закавыке: хоть институт закончил, диплома не получил. Наш выпуск первым перешел на новую систему подготовки, согласно которой требовалось отработать не менее двух лет и представить в институт характеристику. На основании её комиссия решала: выдать диплом или нет.
Директор успокоил, заявив, что знает об этом. Но если он правильно понял Алдону, я уже буду работать третий год, и вполне могу рассчитывать на получение диплома уже в следующем году. Он подождет. Я ему понравился.
– Слышала? – спросил я, выйдя из школы.
– Что именно?
– Всё через год, включая свадьбу. Ты согласна на такой вариант?
Алена молча кивнула, явно рассчитывая на большее. Но мы полагаем, а бог располагает.
Я уезжал дождливым хмурым утром. Провожала меня одна Алена. На перроне она заплакала. Я сдерживался, хотя на душе было муторно. Поезд пришел вовремя, предоставив на расставание пять минут. Я уезжал, видя на перроне Алену-Алдону, прекрасную даже в такую пасмурную погоду, даже не в купальнике и даже в слезах.
На западной границе
Литва, в отличие от Латвии и Эстонии, – страна с явным преобладанием кореннного населения: из 3 700 000 человек три миллиона литовцы. Далее по численности идут русские, поляки и евреи. Поляки, понятно, тут издревле, само Литовское княжество длительное время пребывало в унии с Речью Посполитой, у них даже вера общая – католическая. Русские заселились после Великой Отечественной, как и в соседних республиках. Что касается евреев, так где их нет? Еврей и в Африке еврей. Не зря же Моисей столько лет водил их по пустыням. Самые ассимилированные – поляки, с яркой представительницей их я вскоре познакомился и немало подивился.
Однажды при выходе из столовой нас встретила красивая, обаятельная, с каким-то киношным изыском девушка, предлагавшая экскурсию в Гродно. Бродяга по натуре, я кинулся к ней первым. В назначенный день и час к главному корпусу подкатил видавший виды автобус, мест на двадцать, с той самой красавицей впереди. На ветровом стекле стояла табличка «Гродно». Я спешно в сторонке затягивался сигаретой. И не прогадал. Когда забрался в автобус, свободным оказалось одно место – рядом с кинодивой. Вблизи она виделась совсем распрекрасной. А тут еще сиденья узкие, сидели, фактически прижавшись друг к другу.
Поскольку она все время что-то объясняла: «Посмотрите направо… посмотрите налево», – мне редко удавалось вклиниться, чтобы сказать свое, ей приятное. Но удавалось.
Разговор, не особо мудрствуя, начал с традиционного:
– Меня зовут Николай, а тебя?
– Угадай, – улыбнулась она.
Небольшой выбор польских имен, почерпнутых из журнала «Советский экран», позволил продолжить разговор и знакомство.
– Малгожата?
– Ни.
– Данута?
– Ни.
– Ядвига?
– Ни.
– Ну, як же? – следуя украинскому «ни», вырвалось у меня.
– Та Ева.
– Ничего себе!
– Что значит «ничего»? Очень даже чего. Это имя – уже на самых первых страницах Библии, значит, одно из самых древних имён, применяемых сегодня. Не так?
– Так, конечно, и что оно значит7
– Ты не ведаешь?
– Ни…
– Ева от древнееврейского Нава и означает «приносящая жизнь», «дарующая жизнь».
– А если я захочу назвать ласково, то как?
– Можно Евушкой, Евочкой, Евкой, Эвитой.
– Причем тут Эвита?
– А в польском Ева и есть Эва, ласково Эвита.
– И много таких «неправильных» в русском произношении польских имен?
– Хватает. Например, у вас Эдита Пьеха, а у поляков она – Эдыта…
– Знаешь, мне вот что подумалось. Если Ева – такое древнее имя, то, может, и Евангелие от него?
– Не знаю. Но по польским законам у ребенка может быть два имени. Одно берется из католического календаря, для большинства поляков-католиков это свято. Но в церковных святцах имя Ева присутствует, поэтому при крещении другого брать не нужно. Хотя я для себя выбрала.
– Какое?
– Иоанна.
– Почему?
– Потому что в переводе с древнеиудейского Иоанна означает «помилованная Богом». А среди самых известных женщин с этим именем – Иоанна Мироносица, ученица Иисуса Христа.
– А какое нравится больше?
– Ева. Не зря же её так любят мужчины, начиная с Адама.
– Ну, в отношении Адама еще вопрос…
– Не розумею.
– Рассказывают, что, когда господь предложил это Адаму, тот замялся. Не выдержал господь:
– Тебе что, ребра жалко?
– Да нет… но предчувствие какое-то нехорошее…
Ева расхохоталась так, что полностью легла на меня, автобус напрягся, водитель повернулся…
– За дорогой следи, усач, – подсказал я ему, ласково придерживая упокоившуюся у меня на коленях пра-пра-пра… Еву.
Тот сморгнул и согласно кивнул, мол, всё ясно, жми дальше. И я жал…
Автобус бежал по типично европейской, прекрасно асфальтированной дороге без заплат и ухабов, засаженной с обеих сторон фруктовыми деревьями, в основном – яблонями. Мы пересекали три границы: России, Литвы, а теперь еще и Белоруссии. Ныне все три государственные, и в двух из них ныне я – иностранец. Какую страну потеряли!
Сам город, в который мы продвигались, километрах в восьми от Польши. Гродно нарисовался неожиданно. Миновав современные окраины, въехали в старый город. Действительно, старый в своей многовековой узкости, обветшалости и запущенности.
О нем еще в Ипатьевской летописи XII века говорится как о городе на границе с балтами и Полоцким княжеством. Центром и сердцем его ныне является Советская площадь, с которой и начался наш блиц-осмотр. Ева громко извещает, что в сквере на углу Советской в 1956 году закопали в полный рост стоявший тут ранее памятник Сталину. Отсюда виден великолепный костел святого Франциска Ксаверия, один из самых красивых католических храмов Беларуси. Строился он орденом иезуитов почти сто лет, а на освящение были приглашены союзники в Северной войне король Речи Посполитой Август II и император Российской империи Петр I.
Внешний облик костела, не изменившийся с тех пор, поражает богатством позолоченных балюстрад, балконов и статуями святых. Примечательностью его являются часы на башне, механизм которых относится к XV столетию. Часы, до того украшавшие старую ратушу, установлены гораздо позже, но и по сей день точно отсчитывают время. Другая примечательность костела – жестяные ангелы на башнях. Существует поверье: если ангелы повернутся друг к другу лицами, наступит конец света. Хотя сделать этого они не могут, поскольку флюгеры поворачиваются в одном соответствующем ветру направлении.
Советская улица приводит к невыразительной площади Ленина, зато далее – прекрасный парк Жилибера, при входе в который – памятник Ленину, рукой указывающий на улицу Горького, то есть путь на Прибалтику, где есть сыр, колбаса и много пива. Свернув налево, можно увидеть Кирху, появившуюся в конце XVIII столетия, когда гродненский староста Антоний Тизенгауз пригласил немецких ремесленников, провез их по улице, где они увидели красивые каменные дома с фасадами в стиле барокко. «Это ваше жилье», – сказали мастерам. Те уши развесили, согласившись остаться для работы в Гродно. Но за фасадами ничего не было, и им пришлось достраивать дома, но уже в дереве. Один из двадцати таких домиков сохранился, и нам показывают его.
Далее по улице Замковой – летняя резиденция польских королей, так называемый Новый замок, в котором проходил знаменитый «молчаливый» сейм 1793 года, завершившийся вторым разделом Речи Посполитой. Замок практически полностью разрушен во время Великой Отечественной войны. После здесь располагался обком партии, о чем до сих пор напоминает звезда на шпиле. Потому ныне Замок выглядит очень даже советским. Рядом замок Старый – любимая резиденция короля Стефана Батория. От былой роскоши не осталось и следа, но старые стены по-прежему величественны и монументальны.
Стефан Баторий очень часто останавливался в Гродненском замке, а из самого Гродно фактически сделал столицу Речи Посполитой. Стефан Баторий очень любил Гродненский замок и сам город. Он часто приезжал сюда, любил охотиться. Говорят, что дочь лесничего стала его любовницей и даже родила ему сына, о чем жена короля, конечно, не знала. В 1586 году Стефан Баторий прибывает в Гродно, как потом окажется, навсегда. 7 декабря он отправляется в костел и чувствует там недомогание. Спустя пять дней в резиденции ему становится еще хуже. Он открывает все окна замка, чтобы легче дышалось. Но и это не помогает, сердце останавливается. Стефан завещал похоронить его в Гродно. Но его захоронили в Кракове, где покоятся все польские монархи.
С городом замок связывает прямо-таки картинный арочный мост. Запомнились валы, окружающие замок.
Далее на нашем пути церковь Святого Бориса и Глеба (Коложская), основаннная еще в XII веке. Храм не раз подвергался разрушениям. Так, в 1853 году во время оползня обрушилась восточная часть стены, которую заменили деревянной. «Примечательно другое, – вещает Ева. – У стен церкви, по легенде, похоронен известнейший полководец Давид Городенский (1283–1326)».
К сожалению, порой мы не находим упоминания даже о лучших полководцах своего времени. Один из них – Давыд Довмонтович Городенский (Гродненский), правнук святого Александра Невского. Жизнь его до самой кончины прошла в борьбе с крестоносцами. В хрониках Давыда именуют кастеляном, или старостой Гродненского замка, но это как бы по совместительству, фактически же – князь Псковский и наместник великого князя литовского и русского в Гродно. В Пскове он и появился на свет. Его бабушка Мария – внучка Александра Невского. Мальчик «с младых ногтей» воспитывался воином. Жизнь у «стремени отца» приучила его к многодневным походам, к ночёвкам в любую погоду и время года под открытым небом. К моменту смерти отца ему было около 17 лет, и поставить его боевым князем Псковское вече не могло.
В 1299 году северорусские земли поразил страшный мор, среди умерших оказались и родители Давыда. Отец, литовский князь Довмонт, умирая, наказал сыну ехать на родину. Тот наказ выполнил. Великий князь литовский и русский Гедемин не только взял его на службу, назначив каштеляном (комендантом) Гродно, но и выдал за него дочь – красавицу Бируте.
Давыд проявил свои способности уже зимой 1305/1306 года, когда многотысячное войско крестоносцев напало на Гродно. Неоднократные попытки захватить его с ходу не удались, а через два дня на помощь подошли войска оповещенного Давыдом великого князя литовского и крестоносцев разбили.
Видя в Давыде Городенском наиболее опасного врага и не сумев уничтожить его в открытом бою, крестоносцы отомстили подло. Давыда предательски убили кинжалом в спину в шатре (по другой версии, его копьем в спину). Дружинники на щитах принесли тело Давыда в Гродно, где, по преданию, его похоронили у стен Борисоглебской (Коложской) церкви. Над могилой насыпали курган, до наших дней не сохранившийся. Князь Давыд Городенский погиб в самом расцвете сил и жизни, не проиграв ни одной битвы. Его судьба схожа с судьбой прадеда – Александра Невского, тоже предательски умерщвленного. Возможно, не будь того предательского удара, с крестоносцами покончили бы гораздо раньше…
Маленький городок, но сколько в нем достопримечательностей! На обратном пути говорить гиду уже нечего. Но мне, склонившись и прямо на ухо, она шепчет: «Вранье все это с Коложской церковью». Мы сидим по-прежнему рядом и тесно. Я чувствую плечом её тугую девичью грудь, а ладонями огонь бедер. Обоих эта близость палит. Дальше – больше. Я уже держу её руку в своей руке. Она не сопротивляется и даже, как мне кажется, поддается, идет навстречу моим желаниям. Но времени нет. Скоро уж и санаторий. Я успеваю назначить свидание у бара в восемь вечера.
– Придешь?
– А ты?
– Еще спрашиваешь…
– Там видно будет, – уклоняется она с улыбкой, подающей огромные надежды. Я окрылен. И когда автобус останавливается, задерживаю её руку в своей. Когда выбирается последний пассажир, старушка в чепчике, она ловко освобождает свою руку и обращается к водителю, огромному мужику, с ручищами, по лопате каждая ладонь, и как бы между прочим сообщает:
– Знакомьтесь: мой муж Збышек, а это Николай из Ярославля.
Збышек протягивает ладонь, в которой моя просто теряется. А уж как теряюсь я!
– Так вы супруг?
– А як же, супрух…
– Но как же, это…, ну, то.
– Та. От це и любо, от це и гарно.
Теряюсь окончательно. Что ему любо? Что другие тоже любят его Еву? А гарно, что она запросто валится к соседу на колени?
Лингвистическая притча. Жил-был Адам. Один-одинёшенек на всём белом свете. Сжалился Бог и сказал: «Приведу-ка я тебе Еву»… Так родилась фраза: «Не приведи, Господи!»
Ну, полячка, ну, красотка!
Год на год не приходится
Так думаю, вспоминая последний период работы в Бурмакино. И не в связи со школой. В дела личные вмешались международные. И как! 2 августа 1964 года военные корабли США, по утверждению американцев, были атакованы северовьетнамцами. Через несколько дней конгресс США принял «резолюцию по Тонкинскому заливу», открывавшую военные действия с использованием военно-морских сил. Я размышлял словами одного киногероя: «Какое мне дело до вас до всех, а вам – до меня». И зря. Еще не успел за вечерним чаем обсудить с дедом вьетнамскую коллизию, как вызвали в школу (мать позвонила на телефон директора). Она взволнованно прокричала (связь неважная), что меня срочно вызывает военкомат.
С этими не поспоришь и, договорившись о подмене, срочно выехал в Ярославль. На другой день был уже на улице Зеленцовской в нашем Красноперекопском райвоенкомате. Дежурный, ознакомившись с повесткой и паспортом, препроводил в кабинет военкома. Тот чем-то неуловимо напоминал школьного военрука Кобылина, такой же плотно круглый и краснолицый. Но вежливый, сесть предложил. Какое-то время мы смотрели друг на друга вроде продавца с покупателем. Затем он приступил к делу.
– У тебя белый билет?
– Да.
– С формулировкой «годен к нестроевой службе?»
– Да.
– Её я и хочу предложить тебе.
– В смысле?
– Министерство обороны приняло решение о возобновлении издания дивизионных газет…
Он замолчал, вероятно, чтобы дать мне возможность прочувствовать важность сказанного. Я прочувствовал:
– И что?
– Тут такая карусель. Газеты открыть в каждой дивизии не получается из-за отсутствия должного количества редакторов. Поэтому военкоматам предложено подобрать людей, готовых занять вакантные должности.
– Я-то причем?
– Предложено подобрать из числа филологов с высшим образованием…
– Бывают и с низшим?
– Не умничай, и без того тошно. Приказ надо выполнять, а у нас из состоящих на учете ты один такой.
– Какой?
– Соответствующий.
– Что конкретно вы предлагаете?
– Значит, так: ты увольняешься, проблем не будет, и отправляешься в город Львов, где тебя зачисляют в военно-политическую академию на отделение журналистики. Там вас готовят по ускоренной программе, и через два года выпуск. Звание – лейтенант. Должность – редактор. Служебный потолок – майор… Ну, как?
Я задумался. Всерьёз. Подобные предложения не каждый день получаешь. Понимал: принять предложение – значит, в корне изменить судьбу, то есть навсегда и без возможности возврата. Вспомнился Муром, имение графини Уваровой, военный городок, все мое детство под строевые песни. В кабинете военкома в памяти всплывали не веселые минуты на армейском стадионе «Звезда», не кино в воинской части, не глушение рыбы в Оке с понтонов, а бесконечная маршировка и муштра. Я представил себя в шинели при фуражке и погонах, сутулого, в очках… И так тошно стало.
– Могу отказаться?
– Конечно, а зачем? Что ты имеешь сейчас? Работу в деревне за сто двадцать рэ…
– Сто тридцать.
– Хорошо, сто тридцать. Но ведь и всё. Дальше только проблемы: с жильем, питанием, одеждой. Там и зарплата больше, и все проблемы решает за тебя армия.
– Я могу подумать?
– Думай. Полчаса. Через тридцать минут жду.
Я вышел на улицу. Вернулся на Комсомольскую площадь. Взял в гастрономе бутылку пива и отправился на берег. Там под «Николой» пил пиво, курил и размышлял. Но как-то несконцентрированно. Вспоминались и Муром, и Бурмакино, и Чертова лапа, и школа, и институт… Сказать, что уж совсем был категорически против, нельзя, ибо видел открывавшиеся перспективы и предлагаемые блага. Но я не просто дитя войны, а еще и дитя военного городка, хорошо знавший минусы армейского бытия. Пусть не все. Но многие. И боялся, понимая, что армия все-таки не моя стихия.
Вернувшись в кабинет, сразу заявил о нежелании отправляться во Львов.
– Ты что, не понимаешь, какое выгодное предложение получил?
– Понимаю, но не принимаю.
– Так, иди и еще хорошенько подумай. Сейчас двенадцать. Вот после обеда, то есть через час жду тебя и твоего согласия.
Надеюсь, понятно, от военкома я вновь направился в гастроном, только вместо пива взял бутылку молдавского вина «Рошу де дессерт», считая, что сейчас как раз тот случай, когда «без пол-литра не разобраться» (хорошее, кстати, вино, и дешевое).
Опять под «Николой» пил, курил, грустил от трудноразрешимого выбора. Чуточку захмелев, утвердился в окончательном решении и отказался.
– Ну, и дурак, – резюмировал военком.
– Наверное, – согласился, получая назад военный билет. (Признаюсь, потом не раз жалел).
Начало нового учебного года ознаменовалось событием из ряда вон выходящим. Приехав 15 октября домой, отправился на свидание с новой своей симпатией Люсей Юхтиной. Летом после танцев в саду ДК подхватил девушку и предложил проводить, она легко согласилась. Очень даже легко. Не насторожился. И зря. Люся жила в одиннадцатом или двенадцатом переулке Маяковского. Это далеко за Волгой. Назад к причалу я бежал, боясь опоздать к последнему пароходу. Успел. Отдышался. Решил: больше ни за что и никогда! А вечером почему-то отправился на встречу с ней. Так мы и прохороводились все лето. Я уже был своим у неё дома. К нам она уже приезжала без меня, коротая время с матерью. И, пожалуй, не зря, моя суровая мама была от Люси без ума.
Тем памятным октябрьским вечером она огорошила меня:
– Хрущева-то сняли.
Я встал, остолбенелый:
– Как сняли, ему же только что юбилей всей страной отмечали.
– Сняли, как миленького.
– И кто же рулит теперь?
– Да вроде Бежнев какой-то.
Люся, младший научный сотрудник НИИМСКа, от политики была далека, как от космоса. У меня же новость не выходила из головы. Дома спросил у матери подтверждения.
– Не сняли, а освободили по собственному желанию, – уточнила она.
– Как же… Оттуда по собственному только вперед ногами.
– Ты уж скажешь…
Спорить не хотелось, попил чайку и юркнул под одеяло. Но сон не шел. Я вспомнил вдруг обладателя странной фамилии. На апрельском торжестве, транслировавшемся по телевидению, всех потряс эпизод с огромной очередью желающих прислониться к юбиляру. И вдруг она замерла, затормозилась. К Никите Сергеевичу подобрался Брежнев. Он как-то слишком жарко обнял юбиляра и намертво припал губами к его губам. Было в том нечто странное, мы еще не знали страсти будущего Генсека к поцелуям. Очередь томилась, а тот все никак не мог оторваться. Вроде бы уж и Никита Сергеевич занемог, затряс руками. Но все же наконец Брежнев, весь просиянный, отвалился от губ и тела юбиляра. И тут до меня дошло: Брежнев тогда не поздравлял Хрущева, а прощался с ним. Заранее. До октября.
Как уже говорил, жить стали по-брежнему. В последние годы единственное, на что тот ещё был способен, это, запинаясь по слогам, прочитать написанное (чего стоят пресловутые сиськи-масиськи, то есть систематически).
В то время ходила такая байка. Умирает Суслов. Все близкие собрались на поминки. Лечащий врач умершего сидит в углу. На него подозрительно смотрит Леонид Ильич. Врач не выдерживает: «Известно: наш враг – склероз! – Нет, – решительно возражает Брежнев, – главный враг – расхлябанность! Мы уже полчаса сидим, а Суслова все нет!»
Но, может, и не байка, может, самая что ни на есть быль. Во всяком случае, хорошо помню телевизионную трансляцию тех самых похорон. У гроба с прощальным словом к соратнику и верному другу обращается Леонид Ильич. Долго надевает очки, тщетно пытается скрыть горе, наконец преодолев душащие его слезы, разворачивает лист: « Дорогой (взгляд в текст) Михаил Андреевич…» Он что же, не помнил, как звали лучшего друга и соратника?
А ведь с ним во главе мы прожили долгие восемнадцать лет!
От земли до небес
Одно из юношеских воспоминаний. Вместе с комсомольским билетом в комитете комсомола фабрики №2 комбината «Красный Перекоп» вменили мне обязанности народного дружинника. Как-то наша пятерка вместе с членом комитета веселой и решительной Валей отправилась в место злачное и к вечеру небезопасное – парк при клубе XVI партсъезда. Там мы нашли картежников, которые на требование прекратить игру и разойтись реагировали высказываниями типа «а хуху не хохо». Валентина оставила меня и полуслепую Тому Баталову рядом с отпетыми игроками, а сама с другими ребятами отправилась на поиски милиции. По телефону из клуба вызвала наряд, милиционеры быстро приехали и загрузили картежников в «черный воронок». Помнится случай тем, что старшей в нашей пятерке была мало кому известная, кроме нас, разумеется, Валя Терешкова. Сдается мне, что и выпуск стенгазеты, о котором я уже говорил, был инициирован ею же.
Сообщение о её полете в космос застало меня – студента пединститута – на пути к другу и сокурснику Вале Зиновьеву. Едва переступив порог, я заорал:
– Женщина в космосе, и я её знаю.


