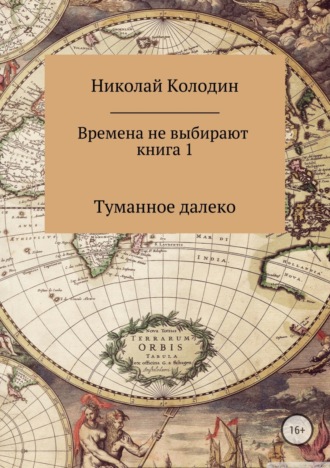
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
– Иду-иду успокойся, – как можно мягче сказал, стараясь предотвратить брань в адрес ни в чем не повинной девушки. Подействовало.
Сима для выхода на улицу причесалась, приоделась, только что губы не накрасила. Невысокая и грузная, она переваливалась на коротких и больных ногах, как уточка, и требовалось усилие, чтобы плестись в ногу с ней.
– Что рожу воротишь, стесняешься тетки больной…
– Чего ты не дело несешь?
– Знаю, на хрен я вам обоим нужна…
– Вовсе нет, а Витя любит тебя.
– Суку свою он любит, а не меня.
– Причем тут она?
– Притом. Вам, мужикам, только бы хрен свой замочить.
Подъехавший трамвай – это ли не спасение! Но как же я ошибался… Народу оказалось много. И толстая, неповоротливая Сима застряла на площадке, как пробка: сама не может продвинуться и другим прохода не дает. А стоять, видимо, тяжело.
– Расселись тут всякие (мать-перемать), и откуда столько набралось (мать-перемать), понаехали, отожралися: хари, что жопы, – на одно лицо…
Сима, распалясь, упускала из виду: сама-то откуда в Ленинграде взялась. Запамятовала. Она меж тем переключилась на другую тему с тем же акцентом.
– А эти в Смольном, паразиты (мать-перемать), только о себе и думают. Мне вон старухе только на хлеб да ихнюю вареную колбасу и хватает. А сами поди икру жрут ложками, да вино хлещут ведрами, да девок «дерут» табунами…
И все это криком таким, что на улице слышно. Народ вокруг неё незаметно рассасывался, никто не хотел быть рядом, но и возражать никто не собирался. Более того, когда речь зашла о Смольном, где размещался Ленинградский обком КПСС, на лицах окружающих читалось явное понимание. То, что Сима выражала вслух, остальные держали в душе. Партийное руководство тут не пользовалось авторитетом. Да и откуда ему было взяться, если во главе обкома стояли такие руководители, как некий Толстиков. Рассказывали, что однажды ему следовало посетить просмотр нового спектакля. Но некогда. Он вызывает своего литературного референта: «Посмотри пьесу и завтра мне текст на стол». – «Но в ней же еще и подтекст». – «И подтекст на стол!».
Ленинградцы убеждены, что после обожаемого ими Сергея Мироновича настоящих руководителей у них не было. Сталинского беспринципного холуя Жданова поочередно сменяли Толстиков, Козлов, Романов. Последний вообще считал себя достойным царской фамилии настолько, что на все мероприятия приходил со значительным опозданием, дабы присутствовавшие приветствовали его вставанием… Но это будет значительно позже.
Пока в трамвае Сима словесно бесчинствовала, я не знал, куда спрятаться от стыда, а нужная остановка все не приближалась.
Когда Сима, в последний раз обматерившись и подозрительно оглядев вагон, остановилась взглядом на мне, сказала: «Выходим», – я вылетел из трамвая пулей. На базаре всё повторилось: тот же мат, те же обвинения всех и вся, долгая муторная торговля за каждый грамм и рубль, всегда заканчивавшийся уступкой старавшихся избежать скандала продавцов. И ведь знала, что делала. При выходе с рынка она, осмотрев меня с двумя сетками-авоськами в руках, торжествующе произнесла:
– А ведь вам, засранцам, что тебе, что Вите моему, так не суметь.
Я согласился абсолютно искренне:
– Нет, не суметь!
Из Ленинграда я уезжал сумрачным и дождливым утром. Витя был на работе, мы с ним простились накануне душевно и под рюмочку. Симу, даже если б она выразила желание проводить меня, я бы ни за что не взял. Хватило совместной поездки на рынок. Провожала Маша. Но что-то у нас уже ощутимо не клеилось. Конечно, она поцеловала меня на прощание и просила писать, в душе я чувствовал: продолжения не будет. Так оно и произошло. Обменявшись двумя-тремя письмами, мы остановились. А с Витей переписывались долго. Он даже прислал мне вырезку из газеты «Известия» от 23 августа 1973 года с фотографией и подписью под ней: « Более 70 человек входят в группу народного контроля завода «Вулкан» Ленинградского объединения имени Карла Маркса. Активисты следят за качеством выпускаемой продукции, экономией материалов, дисциплиной труда. На снимке (слева направо): гальваник Е.Милашкина, слесарь-сборщик В.Блаженов, председатель группы народного контроля мастер ОТК Н.Воронин».
Витя на снимке с приглаженными непокорными вихрами, вытаращенными от старания лучше выглядеть глазами и мамиными расшлепанными губами. Сын Симы от и до.
Хорошо, хоть сохранилась вырезка. А то ведь ни одного снимка, хотя в тот раз из Ленинграда я привез их целую пачку. Но видовые. Одних скульптур Летнего сада несколько десятков. Даже фотографии вместе с Машей нет.
Следующая наша встреча состоялась в конце шестидесятых, когда я уже работал редактором вузовской многотиражки «За педагогические кадры». Нас собрали на обучающий семинар. В первый и единственный раз он проходил в Ленинграде, в городском Доме журналиста. Где, на какой улице конкретно, не помню. Помню, что это дворец, с шикарной широкой лестницей, ведущей из парадной наверх. Там, на втором этаже, в уютном небольшом зале, и проходили наши заседания. В памяти сохранилось обилие лепнины, позолоты, гранита и мрамора. И буфет с редкостными для Ярославля апельсинами, безумно дешевой красной икрой, что около 30 рублей за килограмм (на трешку почти стакан), и шикарным портвейном «Агдам», который мы употребляли в перерывах между занятиями вместо чая. Я, только отметив командировку, позвонил на Кондратьевский. Трубку взяла Сима. Я сказал, что приехал и, как освобожусь, приду к ним, чтобы передать гостинцы от матери. Сима заорала дурным голосом:
– Раздолбай недоделанный, опять с зюрзаком и стесняешься. Чтоб к вечеру был здесь.
Я сказал, что нас удобно разместили в гостинице, и на том разговор завершил. Но не кончилось еще последнее занятие, как меня вызвали в коридор, где ждал Витя.
– Так, где вещи? В гостинице? Поехали…
– Она здесь же, в этом здании.
Понимая, что сопротивляться бесполезно, я сбегал за портфелем, и мы направились на Кондратьевский. В итоге семинары проходили, словно в тумане, и чему посвящались, осталось вне сознания и понимания. Если бы знать, что эта встреча последняя, если б знать…
Вдруг перестали приходить письма. Я писал, но безответно. Потом пришло письмо от соседки, сообщавшей, что Сима умерла, а Витя без неё пьет беспробудно. На работу еще ходит, но дома появляется не всегда. И это был конец. Больше никаких вестей из Ленинграда.
Гомер
Третий курс самый, наверное, легкий в институте. Предметы все нужные, преподаватели все знакомые. Даже те, кто лекций не посещал, читать перед экзаменами научились. Здесь остановлюсь. Что значит «читать научились»? А то, что в принципе все умели и раньше, хотя с разной скоростью. Я, к примеру, книжку в 300 страниц, данную на ночку, за ночь и прочитывал. Но перед экзаменами по литературе мы обычно получали на руки список произведений, из которых составлялись вопросы билетов. Получалось в среднем от 40 до 60 книг, а на подготовку, в лучшем случае, – неделя. Что-то уже читал ранее и надеешься вспомнить, но все равно книг двадцать берешь в библиотеках и несешь домой. Реально ли прочитать их? Конечно, нет. Поэтому научились читать не словами, и даже не предложениями – абзацами. В памяти от такого чтения мало что оставалось, но до экзамена хватало. Книги же, которые не успеваешь прочесть и абзацами, быстренько стараешься освоить прочтением предисловий. В советское время издательства к выпуску литературы относились серьезно, и вся классика выходила с хорошими предисловиями. Короче, делалось все для того, чтобы наши весьма посредственные знания оценены были не меньше, чем на «хорошо», а лучше, если на «отлично». И ведь срабатывало.
Наивно полагать, что только этим учеба и ограничивалась. Чем труден первый курс? Тем, что осталась в прошлом урочная система, позволявшая постоянно отслеживать подготовку. И вдруг никаких тебе уроков, никаких домашних заданий. Гуляй, рванина, от рубля и выше! Но все, учившиеся в вузе, знают, что поурочная система здесь заменяется системой семинарских занятий. А семинар, в отличие от урока, пропустить нельзя, ибо в таком случае неизбежна отработка один на один с преподавателем. Выступающих на семинаре мы назначали сами, но так, чтобы по кругу прошли все. Если преподаватель выступлениями и прениями оставался доволен, остальные получали зачет «автоматом». Правда, некоторые преподаватели проверяли еще наличие конспектов, а уж особо неодаренные требовали максимального повторения в конспектах текстов собственных лекций, обычно дословно повторявших учебник.
Подготовка к семинарам занимает свободное от занятий в институте время. У нас имелась еще одна проблема – Валя Зиновьев, или Гомер. Мы звали его, как знаменитого грека, не только за слепоту, среди нас он был самым умным и памятливым: однажды услышанное запоминал сразу.
Учебной вузовской литературы, выполненной по системе Брайля, не существовало. Поэтому мы собирались у него дома и читали необходимые разделы вслух. И Валя внимает, и у нас в памяти что-нибудь остается. В наш круг, кроме меня, входили Стасик Алюхин, Рудик Казанкин и Анатолий Иванович Гузнищев. Реже – «фельдмаршал» наш, Володя Кутузов. И уж совсем изредка Веня Степанов. Постоянный участник посиделок – двоюродная сестра Валентина – Галина. Она приходила, чтобы помочь Вере Михайловне, а чаще – заменить её в приготовлении обеда.
Отчим Виктор Михайлович пасынка очень любил и даже уважал, невзирая на разницу в возрасте. За что? За то, что не укрылся болезнью от жизни. И еще за невероятные его знания, поистине энциклопедичные.
Читали в очередь, приблизительно по часу. Валя всегда предельно внимателен, сознавая, что еще одной возможности познакомиться с текстом у него нет. А память у него – дай бог каждому! Он запоминал практически все прочитанное вслух, независимо от того, кем и как текст читается. Анатолий Иванович, из нас самый старший и потому самый малограмотный, читал с ошибками, постоянно возвращаясь к ним для исправления. Нас это утомляло. Рудик, учительский сын, читал без ошибок, но уж очень монотонно, даже заунывно и часто вгонял в сон…
Зиновьевы жили в старом дореволюционой постройки доме в створе Мукомольного переулка, где имели в подвале комнату метров тринадцать. Там умещались кровать родителей и диван, на котором спал Валентин. А между ними – стол. Пространства для прохода фактически не оставалось, и приходилось протискиваться, чтобы сесть. Мы с глазами горящими и душой свободной, молодые и голодные, собирались в том подвале и до начала занятий (то есть около трех часов) читали с перерывом на перекуры. Мама Валентина Вера Михайловна учитывала и нашу молодость, и наши аппетиты и готовила к концу занятий полный обед с борщом, жареной картошкой и компотом. Деньги же, полученные дома для столовой, экономились и копились. Тратили их во время сессии, отмечая каждый сданный экзамен. Меж собой эти послеэкзаменационные сборы называли «мытухой». Деньги шли на вино. А сам стол собирали и обряжали родители Вали. Именно обряжали. В то время как мы пили из разнокалиберных стопок и стаканов, раскладывая нехитрую снедь по разномастным тарелкам и алюминиевым мискам, здесь на стол всегда выставлялись хрусталь и фарфор. На мой вопрос, не жалко ли, ведь всякое может случиться, Вера Михайловна всегда отвечала: «А для чего тогда все это? Пыль собирать?»
Мытухи проходили очень весело, хоть и без танцев. У Валентина имелся классный проигрыватель с набором очень редких пластинок. В частности, тогда у него имелось два больших диска с песнями запретного и очень популярного Петра Лещенко. И, чуточку хватив портвейна, мы дружно затягивали: « Здесь, под небом чужим,…» Не пел только Виктор Михайлович, который, в отличие от посиделок читательских, на мытухе присутствовал непременно и после пары рюмок, обычно молчаливый, становился страшно разговорчивым:
– Колёк (это ко мне), ты послушай. Вот я – повар, а работаю механиком в горпищеторге, обслуживаю автоматы с газводой. Мне, может, неинтересно это…
– Леший, – встревала Вера Михайловна, именуя его исключительно фольклорным именем, – ты бы лучше помолчал и дал ребятам поговорить…
– Молчу, – отвечал он, прикладывая руки к сердцу.
Валентин, чтивший отчима как отца родного, махнув рюмку-другую, комментировал по своему:
– Леший талантливый, ему бы чуток образования, большим человеком стал бы.
Виктор Михайлович среднего роста, средней упитаннности, с давно поредевшей прической, белобрысый и безбровый. И маленькие его глазки под маленьким лбом, который при намарщивании убирался вверх к затылку и потому глаза казались совсем и не глазами вроде. Говорил редко, предпочитая молчать и слушать. Если не спал, что-нибудь делал: строгал, паял, жарил, парил, варил, водил Валентина в библиотеку общества слепых, что на улице Рыбинской. Для него Валентин и не родной вовсе, а глядя со стороны, так больше, чем родной. Валя мог на отчима и прикрикнуть при случае, а Виктор Михайлович – никогда. Оттого, что не просто жалел, любил!
Родом из сельской ярославской глубинки, он рано призвался в армию, а служить довелось на Дальнем Востоке, потому самой Великой Отечественной войны не хлебнул. В разгроме японцев участвовал, но тоже не очень активно, ибо их корпус находился в резерве. Сколько ни пытал я его о той войне, ничего путного добиться не мог. Виктор Михайлович морщил лоб, поджимал гузкой губы (имелась у него такая привычка) и отделывался ничего не значащими общими словами. Один раз, правда, разговорился:
– Помню, японки все к нам бегали…
– Откуда они взялись?
– Жили там. Это ведь Курилы, тогда их территория.
– Попробовал японок?
– Было дело. Очень они любили нас, русских мужиков…
– За что?
– Да за это самое. Япошки ведь низкорослые, и член у них небольшой, а в сравнении с нашим так просто крошечный. Японки сами говорили…
Но столь длительный диалог исчерпал все его силы, и он надолго умолк.
Демобилизовавшись, в деревню не вернулся, приехал в Ярославль, служил в «пожарке» и вскоре познакомился с Верой Михайловной. С тех пор вместе и ни одного скандала, ни одной ссоры. Вот ведь как судьба распорядилась.
Вера Михайловна – коренная ярославна, вышла замуж еще до войны за красавца-командира Красной Армии. Он ушел на фронт в самом начале войны и не вернулся. Погиб, не увидев сына. Так что ребенка растила и воспитывала одна и горя хлебнула сполна.
Невысокая, симпатичная, очень дружелюбная, она обладала редким даром привлекательности. Не внешности, хотя и тут все было в порядке, привлекательности душевной. Пообщавшиеся с ней сразу зачисляли её в разряд своих близких друзей за искреннее желание понять, помочь, простить. Внешне она выглядела заметно эффектнее Виктора Михайловича. Почему же предпочла его? Так ведь и выбора особого не было. Вдова с ребенком не нарасхват. А он показался мужчиной основательным, серьезным, скромным. Так и стали жить вместе.
Вера Михайловна работала буфетчицей в кафе «Европа», что располагалось тогда в здании на углу улиц Свободы и Комсомольской. И его переманила. Поработал поваром, отмечался начальством, но тянула техника, и ушел в механики в том же горпищеторге.
Валентин – судьбы трагической. Наше военное поколение любило все, что горит и гремит. В частности, практически у всех были свои «поджигахи», представлявшие изогнутые под прямым углом трубки малого диаметра. Другой частью являлся изогнутый на самом конце гвоздь с туго натянутой резиной. В трубку плотно набивалась сера от спичечных головок, затем оставалось только спустить резину указательным пальцем. Гвоздь устремлялся внутрь ствола, и происходил взрыв. Чем больше серы, тем громче взрыв, но и опасность подрыва «поджигахи» в руках – больше. Сколько тогда ребят покалечилось!
У Валентина история другого рода, но из той же серии. В классе пятом-шестом с друзьями они взрывали собранные на свалке патроны. Тогда их была тьма. Технология знакомая. В земле роется небольшое углубление, в которое укладываются патроны. Сверху их укрывают чем-нибудь легко воспламеняющимся и не гаснущим на ветру. Лучше всего подходили опилки, положенные на ворох старых сухих газет. Затем именно края газет поджигались спичками, оставалось только отбежать, залечь и ждать, когда грохнет.
Именно так и сделали они, но почему-то не грохнуло. Валентин пошел посмотреть, в чем дело, наклонился, и тут рвануло. Остался жив, но глаза… Один полностью уничтожен. На беду другой давно покрылся бельмом. И куда только ни возили его родители, чтобы видел хотя бы тот глаз с бельмом, даже в Одессу к знаменитому Филатову добрались, но безрезультатно. Лет в четырнадцать он ослеп полностью и учебу продолжил в костромском специнтернате для слепых и слаб
овидящих.
– А что, – вспоминал он в минуты затишья на наших учебных бдениях, – там даже очень хорошо.
– И по родителям не скучал?
– Только первое время. Потом привык, да и некогда было скучать, очень плотно расписывался день: школа, подготовка уроков, кружки, спортивные секции…
– Господи, да какие спортивные секции?
– Самые разные, даже соревнования по бегу были.
– Иди ты!
– Честно, просто по дорожке рядом бежит тренер, ты по слуху ориентируешься на него, если же, случается, начнешь сходить с дорожки, он поправит прямо на бегу. У меня даже грамоты по бегу были…
Среднюю школу закончил успешно и стал поступать на историко-филологический факультет. Экзамены, в том числе и вступительные, а также зачеты и контрольные сдавал следующим образом: протыкал в толстой тетради по системе Брайля шилом буквы, затем, оставшись один на один с преподавателем, читал, грубо выражаясь, «по натыканному», указывая и сложные написания в орфографии, и знаки препинания. Жажда полноценной жизни оказалась столь велика, что все пять лет не имел он ни одной четверки, только отличные оценки. Мы в том помогали, как могли…
Может показаться странным, но нас, молодых, безнадежно холостых и убежденно свободных, особенно заботила проблема его женитьбы. Мы занялись этим настолько серьезно, что уже на втором курсе подобрали ему невесту. Однокурсница из группы литераторов Наташа Потемкина, маленькая, аккуратная, красивая. Да-да, красивая, хотя, казалось бы, к чему слепому красота! Но мы думали иначе и приступили к осаде. Наташа – девушка серьезная, и для начала мы позвали её на наши чтения. Добрая душой, Наташа откликнулась мгновенно и уже на следующий день сидела в нашем окружении и первой начала читать. Мы без конца уходили курить, задерживались специально, чтобы оставить их наедине друг с другом. Мы знали, что Валентин со своей коммуникабельностью долго не промолчит, разговорится, а это на первоначальном этапе главное, считали мы. И не ошиблись. Через пару дней они друг с другом болтали так, что мы сами себе казались лишними. В конце концов, мне поручили сделать Наташе предложение от имени Валентина. Я готовился к долгому разговору, но Наташа неожиданно согласилась сразу:
– Он мне нравится, и я согласна выйти за него.
Ложности мы создаем себе сами. Истина старая и непреходящая. Заманив Наташу в нашу компанию, мы, понятно, не сказали Валентину об истинной причине её неожиданного для него появления. А тут заявляюсь я и говорю о её согласии выйти за него. Валентин обмер, начисто лишившись своей разговорчивости. Помедлив, тихо спросил:
– А сам-то чего не делаешь ей предложения, если такая красивая.
– Еще в колхозе намекал на желание близко подружиться, она отказала, обозвав меня нахалом и бабником.
Валентин опять замолк. Я терпеливо и молча ждал продолжения. Оно последовало, но не в том ключе, на какой все мы рассчитывали. После длительной паузы он сказал, что хочет подумать и посоветоваться с матерью. Казалось бы, уж кто-кто, а Вера Михайловна приложит все силы, чтобы брак состоялся. Увы…
Наташа еще какое-то время приходила, затем перестала, а во время зимних каникул вообще уехала из Ярославля к родственникам в Баку. Итог нашей длительной подготовки: она одна, и он один.
– Почему? Может, у него не всё в порядке по мужской части, – прямо спросил я у Виктора Михайловича.
– Если бы, – грустно откликнулся он. – Я мою его в ванной. И из пены иной раз такое покажется…
– В чем же дело?
– В Вере Михайловне. Она считает, что невестка будет обижать Валю. И только при ней он может жить спокойно.
– Но она же не вечна.
– Попробуй докажи ей …
Материнская любовь… Вечная и бесконечная. Часто эгоистичная. Ну, не хочется отрывать от себя кровиночку свою. Финал неизбежно печален, драматичен и трагичен. Но об этом чуть позже.
У нас сложилась интеллектуально очень сильная группа. Сразу несколько отличников, а красный диплом один – у Валентина. Но и без работы остался он один. Слепой учитель в школе?… Только в кино. Для начала мы добились, чтобы его приняли на предприятие общества слепых в качестве надомника.
Страшный исход. Он дома один. Слушает записанную на магнитофонную ленту лекцию об экзистенциализме и клепает на черных ботиночных шнурках металлические наконечники.
Все ребята из нашего узкого круга разъехались. Я продолжал ходить к Валентину. Старался прихватить пачку свежих газет. Я ему – новости советские, а он мне – заграничные, «забугорные», подслушанные по Би-Би-Си либо «Голосу Америки». Валя стал жутким диссидентом, которому не нравилось у нас абсолютно всё, с чем я никак не мог согласиться. Меня лично многое устраивало, и вообще я горд был за свою самую свободную страну, за наши достижения в космосе и балете… Спорили отчаянно. Он мне говорит про низкую зарплату, я в ответ – про фонды общественного потребления, он мне – про слабую медицину, я – про бесплатную медпомощь…
Не без нашей помощи Зиновьевы получили к тому времени двухкомнатную квартиру на проспекте Толбухина. Сидели обычно на кухне, потому что я курил и курил много. Как он, некуривший и некурящий, выдерживал только!
Мы не отступились от главного и находили время, чтобы ходить по инстанциям, добиваясь для Вали места в школе. Пройдя все круги чиновничьего ада от районного до республиканского, вышли на Министерство образования и добились своего. Из столицы поступила команда принять меры к трудоустройству обладателя красного диплома. И место сразу нашлось. Причем в вечерней школе для таких же слепых, располагавшейся на первом этаже дома, где жили Зиновьевы теперь.
Он оказался талантливым педагогом. Стремительно за несколько лет вырос до завуча, а затем и директора той школы, сохранив за собой преподавание истории в старших классах…
Валя, обретя соответствующий статус и материальное обеспечение, полнился опытом и полнел телом. Фигура с чертами обтекаемыми стала вполне приличествовать директорской должности. А всё оттого, что поесть Валя любил, а вот сжигать полученные калории не мог, негде было. И вся физическая нагрузка заключалась в хождении по комнатам, благо квартира «трамвайчиком». Он слушал библиотечные записи в кассетах и вышагивал комнатные километры. Совсем худо стало, когда рак менее чем за год сжег мать. Она умирала в страданиях физических и нравственных, понимая, что оставляет сына одного на не очень дееспособного мужа. Виктор Михайлович к тому времени катастрофически терял зрение.
Два слепых в доме для слепых. Это видеть надо. Неизбежная неухоженность, особенно на кухне, плодила тараканов в неимоверном количестве. И не в отдельно взятой квартире, а по всему подъезду. Хозяева их не уничтожали, потому что не видели их. Я, конечно, с этой разновидностью фауны был знаком давно, но в таком количестве встретил впервые. Чувствуя полную безопасность, те бегали по кухонному столу, полу и подоконнику даже днем. Каждый свой приход я, как мог, очищал кухню от них, собирая в банку, которую плотно закрывал и, уходя, выбрасывал в мусорный бак во дворе. Но разве могли редкие мои приходы изменить ситуацию?!
– Галя, – звонил я первой своей женщине. – Ты не боишься, что тараканы сожрут Валю вместе с Лешим?
– Ой, и не говори. Я без конца таскаю отраву. Жрут паразиты, как хлеб…
– А результат?
– Дохнут. Выметаю на полный совок, тут же набегают соседские.
С Галей мы сохранили отношения почти дружеские. И неудивительно, что именно она позвонила мне, чтобы сообщить о смерти Валентина. Он умер совсем молодым, не дотянув до пятидесяти. Подвела излишняя полнота.
Сразу же подъехал к ним. В большой комнате уже стоял гроб. На кухне копошилась Галина с незнакомыми мне женщинами в черных платках.
Виктор Михайлович смотрел на меня мутными слезящимися глазами в полной прострации. Он, похоже, не очень воспринимал окружающее. Кроме одного: порвана последняя нить, связывавшая его с прошлым, оставляя с одиноким настоящим без будущего. Он бродил, спотыкаясь из большой комнаты в маленькую, тыкаясь об углы разом ставшей для него незнакомой жилплощади. И всё что-то бормотал, бормотал.
Я прислушался. Он беседовал с Валентином, укорял его:
– Ну, что ты удумал? Вон и картошки запасли на всю зиму, и луку, и чесноку. До весны проживем без забот… А ты вон что… Не дело, понимаешь, не дело…
Видеть и слышать без слез я не мог. Украдкой смахивал их. Но Галина увидела. Принесла полстакана водки.
– Выпей. Полегчает. И лучше иди домой…
Валю хоронили сумрачным, стылым зимним днем. К могиле, вырытой рядом с могилой матери, приходилось пробираться через сугробы и ограды.
Не стало нашего Гомера, и оказалось, что именно он незримо связывал нас. После его ухода никогда мы вместе уже не собирались, ни группой, ни узким кругом. Никогда.
Ванильно-шоколадный роман
На короткое время возвращаюсь в прошлое. Наши чтения с Валентином продолжались, история с неудачным сводничеством стала забываться. Продолжились и послеэкзаменационные «мытухи». Как-то так получалось, что всякий раз моей соседкой на них оказывалась двоюродная сестра Валентина Галина. Она недавно вышла замуж, родила двух девочек. Муж, трудно поверить, какой-то дипломатический работник, до приезда в Ярославль трудился в Германии. Это он привез большие виниловые диски с записями песен запрещенного Лещенко. Не Лёвы, конечно!
Худенькая блондиночка с короткой стрижкой не особенно привлекала мое внимание. Но решающим фактором стала не красота, а теснота. Телесная близость часто эффективнее духовной. Так и с нами. С каждыми посиделками близость становилась все теплее и теплее, пока не воспламенилась до невыносимости. И однажды, когда все уже стали собираться, она прошептала;
– Не уходи!
Я охотно подчинился, догадавшись о причине её решимости. В тот раз отсутствовали и Виктор Михайлович, и Вера Михайловна, а за хозяйку по их просьбе была сама Галина. Все ушли, я задержался, Валентин напротив спал, лежа поверх одеяла.
Нас словно бросило друг к другу. Мы целовались и целовались, пока горячность не дошла до точки кипения. И уже не оглядываясь на Валентина, улеглись. Я был несдержан и неопытен, поскольку подобное со мной происходило впервые, и знал только, что мужчина должен находиться сверху (что и сделал незамедлительно), а партнерша снизу. Что делать дальше, не знал, зато она знала великолепно, все-таки двух дочек не аист принес. Понимая мою неопытность, взяла и дело, и тело в свои руки. И ухнул я в яму безумной, безудержной страсти. Поскольку у меня подобное происходило впервые, я и расслабился раньше, чем она могла проникнуться мной, но, спасибо ей, виду не подала. Мне же о непременном проявлении взаимности как высшей формы контакта и мысли прийти не могло. Откуда им взяться?!
Потом мы торопливо приводили себя порядок, не глядя друг на друга, полные смущения и невзрослой стеснительности.
Расставаясь, успели договориться о встрече. Вечером она пришла в легкой белоснежной плиссированной юбочке, легком голубом свитерке с глубоким вырезом. Как говаривал классик-юморист, «вся такая воздушная и вся к поцелуям зовущая». Мы танцевали в парке ДК, пили в буфете пиво, жевали ватные бутерброды, перемежая всё это поцелуями украдкой. Иначе и не помыслить. Не то чтобы мы пуритане какие-то, нет. Просто не принято тогда было выставлять свои чувства напоказ. Это сейчас открыто целуются и обнимаются, и не только парни с девчатами. Чего стоят горячие объятья на грани истерики в спортивных состязаниях, когда здоровые мужики тискают друг друга и целуют во все открытые места.
Я, помнится, на одно из первых своих свиданий с дочкой лагерного физрука отправился с огромным букетом хризантем, выпрошенным у соседки по Чертовой лапе за полтинник. Они жили в собственном деревянном доме на Малой Пролетарской, что позади Федоровского собора. От дома до трамвая я пробирался полями позади всех Починковских и Твороговских линий, в трамвае букет прятал меж ног, но, выйдя из трамвая, вынужден был нести тот букет, как некий крест. Пространство вокруг Федоровского собора тогда сплошь в одно– реже двухэтажных деревянных домах. Улочки без какого-либо покрытия, заросшие травой, ограниченные по краям канавами. Меж канавой и домами – тропочка. Я пробирался ею, с замирающим сердцем, красной от стыда физиономией и негнущимися ногами. Одним словом, гусь в цветах. И все казалось, что за каждым полуоткрытым окном смотрели на меня осуждающие глаза толчковских обывателей. Но испытание стоило того. Едва открыв дверь и вручив букет, на глазах родителей удостоился горячего, совсем не товарищеского поцелуя. Что-то потом не срослось у меня с каштановой красавицей, но для родителей её я навсегда остался примером, и при встречах они оба непременно оказывали мне свое уважение. А отец даже, как-то подобрав меня совсем никакого у трамвайного кольца, чуть ли не на себе донес до дома на Закгейме…
После танцев мы не брели лениво по набережной Волги, как подобает отдыхающим от трудов праведных, а неслись по ней в поисках места, достаточно укромного и удобного. Мы хотели и хотели сильно. Настолько, что первый же встреченный на пути забор показался надежным приютом. А забор огораживал выход к спуску, предназначенному под котлован наземной части будущего моста через Волгу.
Спуск он и есть спуск. Едва мы спустили с себя то, что требовалось, как покатились вниз. То ли я проявил поспешность, то ли она выбрала неверную позицию, но стремительно спустились до основания и уже на ровной площадке завершили начатое. От ерзанья по траве её белоснежная юбка позеленела. Она только рукой махнула, мол, все равно темно. Хуже было то, что выбраться из будущего котлована оказалось куда тяжелей, чем спуститься. Карабкались вверх на четвереньках, уже не думая об одежде и внешнем виде. Главное, зацепиться не за что. Под руками только трава, та или скользит в руках, или вырывается с корнем.
Выбрались. Отряхнулись. Насмеялись. И захотелось повторить, да еще как захотелось! Набережная завершалась у железнодорожного моста проспектом Ленина, тогда совсем коротким, однако располагавшим весьма уютным детским парком. Самое то! Один неожиданный нюанс. На ночь парк не только закрывался наглухо, но еще и охранялся. Мы решили преодолеть препятствие со стороны глухого тупичка по левой его стороне. На что рассчитывали? На везение, да еще на вероятность пролома. Ну, не может в России существовать забор без дыры. Увы, ни дыры, ни щели не оказалось. Исключительной крепости ограда из кованой чугунной решетки более чем двухметровой высоты. Препятствие при наличии плиссированной юбки непреодолимое. И каким же сильным было наше влечение друг к другу, что мы таки его одолели. Вначале я на своих плечах подтянул её до самого верха, затем она осторожно и самостоятельно спустилась вниз. Мне было легче.


