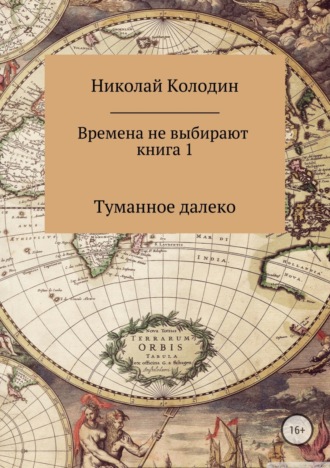
Николай Николаевич Колодин
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
Сразу за забором густые заросли высокой травы, а может, каких-то цветов. Там и умостились. Хорошо! Темнота, тишина, ароматы… Почти на самом пике наслаждения, до которого оставались мгновенья, и сладостные всхлипы Гали должны были завершиться глухим вскриком, а я готов был закрыть рот её поцелуем, дабы не нарушить тишины и покоя вокруг, в тот самый момент сзади и надо мной почувствовалось нечеловеческое дыхание. Затем что-то уперлось мне в спину. Не прекращая работы, обернулся и увидел огромную морду овчарки, дышавшей тяжело, но не тяжелее нашего. В ночной темноте как-то пронзительно жутко белели её оскаленные зубы и блестели недоверчивые огромные глаза. Я понял без слов, что собака размышляла, с чего начать поглощение: с носа, уха, а может, и с чего-то ниже. От догадки то, что ниже, потеряло потенциал, соответственно пропал интерес к самому процессу. Кошмар!
Тут из темноты раздался голос: « Ты это, парень, извини, это… Думал, за цветами лезут».
Охранник значит, не сатанинское видение. Уже легче. Голос исчез вместе с собакой мгновенно, словно растворившись во мраке. И это хорошо. Плохо, что ворот нам не открыли, и назад пришлось выбираться тем же партизанским способом. Казалось, что нелепый кошмар навсегда лишит меня радости интимной жизни. Не тут-то было!
Преодоление препятствий, видимо, все-таки напрягло партнершу, но отнюдь не погасило огонь желания. Она решительно повела меня к улочке с красивым названием «Загородный сад», где родилась и выросла. Здесь по левой стороне стояли земские, еще деревянные двухэтажные дома бывшей губернской больницы для сотрудников с невысоким рангом. Сама Галя к тому времени обитала в современном доме на улице Салтыкова-Щедрина.
Глухой ночью дом стоял темным, безмолвным и менее всего располагавшим к тому, чем хотелось заняться. Но Галя уверенно постучала в одно из окон. Кто-то выглянул, молча выслушал горячий Галин шепот. После чего она махнула мне, стоявшему на углу, как «на стреме». Я приблизился. Одно из окон приотворилось.
– Валяй первым, – прошептала она.
Скачка с преодолением препятствий продолжилась. Мы оказались в маленькой, метров пяти, комнатке, где из всей мебели имелась кровать с двумя стульями и хилый, раскачивающийся стол у окна, на который мы вставали, преодолев первый рубеж. Спуститься с него, шатающегося, оказалось не легче, чем взобраться на окно.
– Где мы? – прошептал я.
– У Генки, друга по детскому садику…
– Ничего себе «друган».
Пока я рассуждал и размышлял вслух, она успела раздеться и укрыться одеялом. Я с радостью и щенячьим восторгом последовал за ней…
Закончилось лето, встречи стали редкими, но потому, наверно, еще более продолжительными и, пожалуй, содержательными. Мы встречались у меня на Закгейме в дни, когда мать работала в ночную смену. Мы оставались одни, и никто ни в чем не мог помешать нам. Великое везенье. Мы выбирались из постели только по необходимости что-то съесть, попить, ну, и по крайней нужде. Я был молод и влюблен, она также молода и влюблена, но к тому же опытна и, как оказалось, ненасытна в любви. Я поражался, откуда в этом худеньком теле столько сил.
От неё вкусно пахло ванилью, шоколадом, еще какими-то неведомыми мне кондитерскими ароматами. Я дышал ими, возбуждаясь и набираясь сил. Ласкал сверху донизу. Она смеялась:
– Что ты там ищешь?
– Себя.
– Серьезно?
– Умереть – не встать. Слушай сюда. Девушка заказывает себе ночную рубашку длиной в три метра. – Зачем? – удивляется портной. – У меня муж ученый, для него главное – поиск.
Мы хохочем в полный голос, пока я не спохватываюсь: все-таки два часа ночи.
Целую грудь. Она сопротивляется.
– Почему?
– Она у меня маленькая, мне неловко.
– Здрасьте, причем тут объем. В ладони умещается – значит, грудь.
– А если не умещается?
– Не скажу. Меня знаешь, что в самом начале поразило больше всего?
– Что?
– Грудь оказалась такая мягкая.
– А с чего ты взял, что она должна быть твердой?
– У Валентина на горке статуэтка девушки. Помнишь?
– Ну…
– Я иногда, когда никто не видел, брал фигурку в руки и гладил её грудь, это волновало и возбуждало. Грудь, как и вся скульптура, была каменно твердой. Мне почему-то думалось, что и в жизни так же.
Галина смеется:
– Дурачок ты мой необразованный. Грудь всегда мягкая, а твердеет лишь при беременности и кормлении, но все же не до окаменелости.
Основы интимной жизни познавались неспешно, зато основательно. Наш роман раскручивался стремительно. Новый год я встречал с коллективом сотрудников кафе «Европа», где Галина, здешний кондитер, представляла меня совершенно серьезно как «своего парня» (это при двух детях и муже). Я не возражал, ибо удовольствие от встреч с ней глушило все соображения и доводы.
Однако уже следующим летом мы расстались. Для обоих – мучительно. Но таких рыданий, какие я услышал тогда, слышать больше не довелось.
На Ленинских горах
Зимняя сессия завершилась только хорошими и отличными оценками, что, хоть виду не подавал, душу грело. А тут еще одна нечаянная радость. Моя работа о Закгейме попала в сборник лучших студенческих научных работ, за что меня включили в группу студентов, отправлявшихся на зимние каникулы в столицу.
Нас разместили в Доме студента МГУ на Ленинских горах. Каждому выдали временный пропуск. Всем знаком силуэт здания главного корпуса МГУ. Это сама высотка и два, в половину меньших, боковых корпуса на одной с ней линии и такой же этажности корпуса, перпендикулярные боковым. В боковых нас и поселили.
У меня сохранился пропуск в корпус «Б», наши девочки – в соседнем, то ли «В», то ли «Г». Такие же, но постоянные пропуска имелись у всех студентов. Попасть в женский корпус можно, только сдав пропуск на вахте, а вахтеры отнюдь не бабушки-одуванчики. По виду люди служивые и бывалые, у этих не проскочишь и этих не уболтаешь. Получить пропуск назад можно только до 22.00, минута-две позже, и оставшийся пропуск отправляется к директору Дома студентов, далее следовало незамедлительное выселение, а то и отчисление из университета. Строгости вызваны, как мне сегодня кажется, отсутствием опыта совместного проживания иностранных студентов с нашими.
Шел 1962-й год. Начало развития международных контактов. Даже в ближней к столице провинции, такой, как Ярославль, иностранцы если и появлялись, то исключительно в качестве сотрудников иностранных посольств, и с провинцией знакомились они в сопровождении и под жестким контролем соответствующих органов. Позже для сопровождения стали привлекать студентов или институтских работников, не имевших со стороны тех органов замечаний.
В огромных корпусах Московского университета во время зимних каникул жили только мы – ярославцы и иностранные студенты, не выехавшие по каким-то причинам на родину. За пределы столицы они выезжать не имели права и мыкались по пустому Дому студентов или бродили по Москве. В основном, это представители знойной Африки. Ладно бы арабы, сильно смахивавшие на торговавших с лотков азербайджанцев и иных уроженцев Кавказа. Тут заскакиваешь в лифт, а там полно негров. Мы уже научились различать их континентально. Американские, те, скорее, серо-шоколадные. А из Африки, особенно экваториальной, чернее ночи. К тому же все студенты представляли свою местную элиту, то есть вождей или их приближенных. А тех разукрашивали с детства, наверное, чтобы свои отличали и уважали. Делалось так: на лице прорезались линии, заливавшиеся каким-то составом, в результате вместо лица получалась африканская маска… Ехать с такими породистыми красавцами в лифте не очень приятно. А девочки наши просто боялись и всегда у лифта ждали кого-нибудь из нас.
Жилые помещения Дома студентов представляли двусторонние боксы с общей прихожей. На каждой стороне комната метров в десять-двенадцать с двумя кроватями и письменным столом посередине, как раз под окном. Рамы в окнах наподобие нынешних стеклопакетов, только из прочного металла с прорезиненной окантовкой. Если открыть, сквозняк жуткий, все-таки сам двенадцатый этаж в здании на высоких, хоть и Воробьевых горах, гарантирует приличный ветер. Потому, попробовав один раз, больше окно не открывали.
Нашим соседом оказался араб из Ирака. Для иностранца выглядел очень по-русски, то есть затрапезно. Растянутый свитер, широченные брюки, разбитые поношенные ботинки. Весь какой-то недочесанный. Но имя! Фуад Исмаил аль-Хафаджи. В переводе, если память не изменяет, означает «Лев, сын Солнца». На льва походил мало, а тепла излучал много и улыбчивостью своей, и непоказным дружелюбием, и открытостью. Получал он две стипендии, одну от университета, вчетверо большую, чем наша, и еще одну – из Ирака. Ту, вторую, часть они, будущие студенты, либо их родственники, вносили полностью еще до отправки в Союз на счет представительства своей страны, так что бедным тут делать было нечего.
Он повел нас завтракать в столовую на первом этаже, чистую, светлую и огромную, как футбольное поле. Использованную посуду не тащили к мойке, а ставили на ленту транспортера, делившего обеденный зал пополам. Самым вкусным блюдом здесь показались нам сосиски с тушеной капустой либо макаронами. Одна порция – две сосиски, мы брали по две порции с одним гарниром и кофе. Отличный завтрак.
Там же, в столовой, мы предложили Фуаду поужинать дома, мол, принесем с собой что-нибудь русского. Тот согласился, добавив, что в свою очередь приготовит рыбу по-иракски. На том и расстались. Задержавшись в центре Москвы, к вечеру, довольно позднему, мы помчались на улицу Горького, нынешнюю Тверскую, где в угловом магазине «Подарки» купили приличный марочный портвейн, две бутылки по 0,7 за пятерку. Прихватили хлеба, сыра и чайной колбасы. С тем и заявились.
Собрались в нашей комнате, уж больно у Фуада не прибрано. К столу он принес огромную сковороду какой-то каши. Оказалось, что это мелко порезанная рыба, кажется, палтус, приправленная рисом с луком и густо политая томатным соусом. Тогда еще не знали слова «кетчуп».
Порезали принесенное быстро и крупно, разлили по стаканам, хотел сказать, граненым. Нет, здесь стаканы тонкого стекла и даже с легким рисунком. Для иностранцев всё без грани, надо понимать. Не заморачиваясь в деталях, подвинули стакан и к Фуаду, тот отчаянно замахал руками.
– Нет-нет. Коран запрещает.
– Да разве это алкоголь, – дружно возразили мы, – всего-то 17 оборотов.
– Что значит оборотов?
– Ну, крепости значит.
– То есть это не алкоголь?
– Напиток, называется портвейн. Ты на бутылки посмотри, разве в таких огромных емкостях может быть алкоголь? У нас об отношении к выпивке отвечают так: если это вопрос – нет, если предложение – да! Последний аргумент убедил его окончательно. Он взял стакан в руки. Пригубил.
Мы со Стасиком двинули по полной и осторожно стали пробовать неприглядное на взгляд месиво. Оказалось, очень вкусно…
Фуад, меж тем, преображался, как аленький цветочек. Глазки, и без того как у всех арабов масляные, стали всепрощающе мечтательными, а сам он чуточку отрешенным.
– Я, наверное, пойду к себе. Можно стакан взять с собой?
– Какой разговор, бери.
Он принес из своей комнаты тарелку, положил немного рыбы, мы сунули туда же пару бутербродов, и он удалился. Нам ничего не оставалось, как доделать оставшееся и лечь спать.
Рано утром, часов около шести, раздался осторожный стук в дверь. Тихо вскочив, я быстренько убрал со стола бутылки.
– Кто там?
– Фуад, можно зайти?
– Давай!
Он зашел, осторожно прикрыв за собой дверь.
– Вы меня обманули. Это все-таки было вино, Я всю ночь не спал, глотал понемногу, и так хорошо было, так хорошо!
– Ну. А мы что тебе говорили: пей, не пожалеешь.
– Теперь не жалею. Я зашел спросить: вы сегодня вечером чай собирать будете?
– Как вчера?
– Да, как вчера. Очень-очень хорошо…
– Будем. Только ты денег подкинь.
Фуад вынул, видимо, уже приготовленную десятку. На неё мы взяли четыре бутылки. Вечером всё повторилось, но уже полстакана Фуад выпил в нашем присутствии. Он опять поалел, разговорился. Оказывается, его отец – друг и приятель руководителя Ирака, Абдель Керим Касема, пришедшего к власти в результате переворота. Как раз тогда же, то ли накануне нашего приезда, то ли чуть раньше, Касема сверг очередной любитель порулить страной. Что с отцом, Фуад не знал.
– Что делать собираешься?
– Учиться до конца, ведь деньги за мое обучение перечислены в самом начале полностью, а мне всего два курса осталось.
– А потом?
– Вернусь на родину.
– И что там будешь делать?
– В тюрьме сидеть.
Сказано это было спокойно, как о чем-то совершенно обыденном. Чисто восточная покорность судьбе.
– Да, тут без стакана не разберешься, – подвел Стасик итог.
Мы подняли стаканы. Фуад ополовинил. Мы проглотили полностью. Чаепитие, как и неизбежный в таких случаях разговор по душам, продолжились. Уходил наш друг араб походкой нетвердой и обнадеживающей.
Чаепитие продожалось. И к нашему отъезду Фуад не просто познал суть русского застолья, он полностью погрузился в него. Мы расставались уверенные: теперь «сын Солнца» – действительно наш человек.
Фуад – не единственный иностранец, с которым довелось общаться. Нина Желтухина, уже пару лет переписывалась с вьетнамцем, который, кроме писем, иногда присылал ей посылки с бананами. Она, добрая душа, угощала нас. Так что с экзотическим фруктом мы познакомились гораздо раньше, чем он появился на прилавках. А теперь оказалось, что её вьетнамский друг учится в Московском университете, более того, они договорились здесь встретиться. Но как его найти? Нина обратилась за помощью к нам со Стасиком. Для начала выяснили, что зовут его Нгуен Зуй Ти, а искать его надо в соседнем мужском корпусе.
– Ребята, найдите его, а то неудобно получается, – и дала нам маленькую его фотографию.
Отправились мы, уверенные в быстром завершении поисков: имя известно, местонахождение установлено, фото в наличии, всё – привет! Увы… Вышедшие к нам в хол вьетнамцы все как один не только на одно лицо, но и в совершенно одинаковой одежде, одинаковых сандалиях, галдели, словно грачата на весенней грядке.
– Тихо, – гаркнул я.
Они стихли и глядели на меня во все глаза, но без испуга.
– Нам нужен Нгуен Зуй Ти… Знаете такого?
– Нгуен Зуй Чи?
– Ти, а не Чи.
Они долго чикали-чирикали, куда-то уходили, кого-то приводили, да все не то. Нгуен Ти, но не Зуй; Зуй Ти. но не Нгуен, и так часа полтора. Наконец привели того, что назвался в полном соответствии с искомым. Вынули фотографию, сравнили – не тот. Посовещались: а может, все-таки тот? Решили идти за Ниной, пусть сама сравнивает и выбирает своего жениха по переписке. Оказалось, да, тот самый, нужный. Нгуен пригласил нас вместе с друзьями на послеобеденный чай.
В такой же точно малогабаритной комнате, что и у нас, собралось никак не меньше десятка вьетнамцев. Сидели гуртом, но три места для нас держали свободными. Было шумно и скучно. Нина общалась со своим Нгуеном, остальные вьетнамцы – друг с другом, и больше на родном языке. Нам оставался только чай. Но это совсем не тот напиток, к которому привыкли. Конечно, мы знали, что азербайджанский чай лучше грузинского, в котором всякого мусора – только успевай сплевывать. Душе отрада – индийский чай со слоном на пачке. Я к тому, что вроде бы разные чаи пивали, оказалось – нет. Вьетнамский чай – нечто совершенно иное. В маленькую чашечку на три-четыре глотка наливается прозрачно-синеватая вода с плавающими поверху цветами. Вкус соломы, да и запашок, как от пыльного снопа. И никакого сахара, песочку, не говоря о конфетах. В блюдечке сушеные бананы. Хватило ненадолго, мы засобирались…
– А как же я, – испуганно смотрела на нас Нина, – вон их сколько.
– Если боишься за честь девичью, забирай к себе в корпус, да напои настоящим чаем, еще лучше– водкой…
– Да ну вас, на уме одно и то же…
– Как знаешь.
Но мы все-таки дождались русско-вьетнамской парочки и отправились восвояси. Нам хватало с лихвой своего иностранца. Приобщение мусульманина к русским истокам проходило вечерами, а днями продолжалось знакомство с Москвой, именно с ней, а не с её магазинами, которые мы знали довольно неплохо, особенно продовольственные.
Нас нисколько не удивило, что первым объектом, предложенным гостеприимными хозяевами, стала Третьяковская галерея. Настолько не удивило, что явились часа за два до открытия. Было морозно и сумрачно. Отогревались на трибунах открытого плавательного бассейна по соседству. Там, несмотря на ранний час, уже купались. Пар клубился над водой, пловцы выныривали из клубов пара вроде голых призраков. Жутковато даже. Но еще страшнее оказалась история бассейна.
До революции тут стоял величественный храм Христа Спасителя, построенный в честь победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Прекрасный снаружи, великолепный внутри, 5 декабря 1931 года он был взорван большевиками. Руководил святотатством лично Лазарь Каганович. Как говорили очевидцы, сам отжал рубильник со словами: «Задерем подол матушке-Руси!».
На месте взрыва намеревались возвести монументальный, не имеющий аналогов Дворец Советов. Трехъярусное здание высотой 415 метров служило бы лишь основанием для 80-метровой скульптуры Ленина. И вроде строить начинали. Но тут помешала война, потом отсутствие сил и средств, надо было страну восстанавливать, и стройку законсервировали. В конце концов, котлован использовали для открытого плавательного бассейна «Москва».
Третьяковка уже теремным фасадом своим подчеркивает русскую сущность. Ценность её в том, что она, единственная не только у нас в стране, но и в мире, представляет русское изобразительное искусство на протяжении всей истории России. Осмотреть её внимательно в ходе рядовой экскурсии невозможно, хотя по масштабам ей далеко до Эрмитажа.
От икон – к портретам. У нас долго живописи отводилась роль, как тогда говорили, «парсун», то есть увековечивания «персон» или, в лучшем случае, изображения именных парков и дворцов. Здесь наиболее выразительным является портрет Марии Ивановны Лопухиной. Ее портрету посвятил стихотворение (редкий, согласитесь, случай) известный поэт Яков Полонский: «Она давно прошла, и нет уже тех глаз…».
Мне же самым интересным показалось историческое полотно «Иван Грозный убивает сына». Согласно легенде, обиделся царь не на сына вовсе, а на сноху. Обидело его то, что она, будучи беременной, при входе царя оказалась уж очень просто одетой. Царевич вступился за обиженную супругу, и тогда разгневанный царь (что-что, а уж гневаться он умел) ударом железного костыля сына убил. Сильнейшая по выразительности картина, пожалуй, лучшая у Ильи Ефимовича. Мы видим не царя, отца: гнев прошел, уступив место отчаянию и боли. Современники считали, что царя Репин писал с художника Мясоедова, а сына – с писателя Гаршина.
Хороша в Третьяковке и русская живопись. Сотни и тысячи выдающихся полотен, от огромных во всю стену, до маленьких с тетрадную страничку. Среди небольших в простенке одного из маленьких залов висят картины все еще недооцененного Федора Александровича Васильева, с раннего детства видевшего себя только художником. К счастью, родители тому не препятствовали. В Третьяковке выставлены бесподобные его картины «Оттепель» и «Мокрый луг». Последнюю он писал, будучи тяжело больным, в Крыму, вложив всю свою любовь к русской природе и тоску по ней. Он умер совсем молодым. Что такое 23 года? Да ничего фактически. А он успел обессмертить себя, обогатив русскую живопись небольшими по размеру неповторимыми полотнами. И как знать, проживи он столько же, сколько Левитан, кто из них был бы общепризнанным «певцом русской природы»? Рано он ушел из жизни, очень рано.
С небольшими картинами Федора Васильева контрастирует громадное полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Титанический труд вызывает уважение. Однако сама картина слишком академична. К тому же малая высота зала не позволяла оценить полотно в полной мере. Куда ни отойдешь, какая-то часть картины бликует.
Мне, во всяком случае, гораздо больше хотелось увидеть в Третьяковке еще двух живописцев, манерой своей совершенно выпадающих из общего ряда. Выпадающих, но не портящих его. Это в первую очередь Архип Иванович Куинджи. Кстати, И.Э.Грабарь, осуществляя новое размещение картин, полотна Васильева и Куинджи поместил в одном (только для них) зале, хотя более разных по манере письма художников представить трудно.
И еще. Упомяну о рисунках сестры известного русского художника Василия Дмитриевича Поленова Елены, хотя сказать о ней как художнице малоизвестной нельзя. Она сыграла исключительную роль в возрождении интереса к русскому народному искусству и русской старине. Ей обязаны известностью такие художники, как Малютин, Билибин и другие. Мне же она интересна связью с Ярославлем, а если точнее – с основательницей частной женской гимназии на улице Воскресенской (нынешней Революционной).
Гимназия чисто гуманитарная, уделявшая главное внимание развитию у воспитанниц хорошего вкуса и приличных манер, а главным предметом являлось рисование. Причем обучали рисованию не классом, а небольшими группами. Той же цели служила коллекция из картин И.Е.Репина, В.А.Серова, акварелей Елены Дмитриевны Поленовой, собственных художественных работ П.Д.Антиповой, украшавших стены гимназии. В Ярославском художественном музее внимание посетителей неизменно привлекает портрет П.Д.Антиповой кисти Валентина Серова. В строгом портрете – вся незаурядность этой женщины, ставшей частью истории нашего города. Одно сугубо личное мнение:
Великолепен Эрмитаж,
Но в сущности – совсем не наш,
И я признаюсь, пусть неловко,
Что сердцу ближе Третьяковка.
Музеи музеями, но были дела и более приземленные. Так, на толчке в Лужниках, или в обиходе Луже, мы со Стасиком приобрели по джемперу и затем вечерами, хватив хмельного, ходили на танцы, которые ежевечерне устраивались в просторных холлах первых пяти этажей главного корпуса.
На танцах одни иностранцы, но и иностранки тоже. Танцевать с ними было не только интересно. Скажем, американки – процентов на девяносто негритянки, в обтягивающих нейлоновых платьях, скользили в объятиях и, нисколько не смущаясь, лежали на партнере, извиваясь в такт мелодии. При этом горячие, как пончики. То еще танго. Получается то же самое, что ночью делается лежа. Хотелось плюнуть на все и утащить её к себе в бокс. Есть что вспомнить!
В ближайший выходной со Стасом отправились на музыкальный «толчок», чтобы приобрести модные пленки. Тогда расхожим было выражение «рок на костях», не имевшее ничего общего с реальными костями. Просто подпольные деляги наладили выпуск некоего музыкального продукта, представлявшего из себя обычную рентгеновскую пленку с изображением суставов, костей и прочих частей человеческого скелета. На них в виде звуковой дорожки, как на гибких пластинках, записывались запрещенные западные мелодии типа «буги-вуги» и «рок-н-рола». Я отхватил пленку с записью модной тогда мелодии «Из Стамбула, Константинополя…» и одного из вариантов рок-н-рола.
Приобретением наслаждался уже дома. Хороши зимние каникулы, но коротки.
Педагогика с методикой
Простой вопрос: «Какие предметы должны быть основополагающими в педагогическом институте?» Полагаю, ответ один: педагогика, методики преподавания и психология.
Наверное, не помешала бы еще и риторика – один из основных предметов духовных семинарий, готовивших и учителей тоже. Я в свое время, уже работая в школе, поинтересовался сутью данной дисциплины, потому что, наблюдая за работой коллег, убедился в полной неспособности большинства из них четко, грамотно и доходчиво изложить свои мысли. Говорю не в обиду им, да и более полувека прошло с тех пор, какие уж тут обиды. В советское время данную дисциплину из программ убрали за ненадобностью. А может, и потому еще, что не под силу было вчерашним кухаркам и пахарям осилить сию науку.
Да бог с ней, с риторикой. Речь о педагогике. Кафедра её у нас была, пожалуй, самой слабой. Во всяком случае, в моей памяти не сохранилось ни одного преподавателя, за исключением некоего Чулкова, сирого и убогого, а от стеснительности еще и косноязычного. Других не помню.
Под стать преподавателям и учебники: наукообразные, невыразительные и невыносимо скучные. Хотя именно учебник по педагогике, если его написать живым языком и наполнить конкретикой, мог стать самым интересным в институтской программе. Пример – книги Макаренко. Я зачитывался ими.
Ладно эти провинциальные светочи. Но вот приехал кандидат в депутаты Верховного Совета СССР Иван Андреевич Каиров, более двадцати лет возглавлявший Академию педагогических наук. Сняв с лекций, нас собрали в Актовом зале, где он более часа знакомил со своей жизнью, педагогической и научной деятельностью. В течение всего выступления он бесконечное количество раз говорил о выдающейся роли КПСС в жизни советского общества, о торжестве идей социализма и коммунизма, о нашей (студентов) обязанности активно изучать труды основоположников марксизма-ленинизма. И совершенно не касался педагогики как науки, её места в учебном процессе педагогического вуза хотя бы, а как раз по его учебникам мы и учились. Надеюсь, понятно, что это за учебники.
Мне вдруг стало интересно, а как же я успевал по предметам, которые не помню? Нашел вкладыш к диплому и поразился: педагогика – отлично, история педагогики – отлично, методика преподавания истории и Конституции – отлично. Как удалось, не понимаю. И только одна дисциплина оценена удовлетворительно – методика преподавания русского языка. Но чего стоил тот «уд»?!
Единственно, что в педагогике представляло интерес, – это практика. Мы проходили её, начиная с первого курса. Помнится еще в декабре до начала первой в своей жизни экзаменационной сессии, мы побывали в детской исправительной колонии в Толгоболе, за Волгой. Это была ознакомительная поездка, но на весь день.
Колония находилась в стенах древнейшего не только среди ярославских, но и в целом русских обителей Толгского монастыря. Власти и хозяева новые постарались ликвидировать хоть какое-то напоминание о духовном прошлом намоленного места. Колокольни разобрали, храмы обезглавили, разобрали и сами барабаны, их державшие, так что остались только четырехскатные крыши. Церковные здания стали столовой, мастерскими и даже клубом. В монастырских кельях разместились воспитанники.
Декабрьский короткий день оказался к тому же сумрачным и вьюжным. Стоять под ветром и знакомиться с архитектурными особенностями строений желания не было. Напротив, хотелось поскорее укрыться в помещении, где при тусклых слабосильных лампочках тоже не очень светло, зато тепло. И при слабом свете нельзя было не заметить бледность лиц воспитанников, худобу многих, обреченность и унылость. Поездка оказалась тягостной и для нас, и для воспитанников. Уже в институте на следующий день поступило предложение, к счастью, добровольное: оформиться на временной основе с поездкой в колонию еженедельно в помощь воспитателям и для руководства кружками по выбору. Я отказался.
Следующей стояла в графике двухнедельная практика в Иваньковской школе-интернате (ныне основной корпус сельхозакадемии). Два соединенных меж собой корпуса предназначались один под школу, другой под жилые помещения. На этот раз все серьезнее. Во-первых, мы жили вместе с воспитанниками и вместе с ними питались. Группы формировались под классы, у меня была группа средняя, что-то на уровне шестого-седьмого класса. Я следил за порядком в помещении, помогал делать уроки, проверял готовность к школе, но чаще вынужденно разбирался в бесконечных спорах, обидах, конфликтах, происшествиях местного масштаба, являясь этаким третейским судьей. А быть выше личных симпатий и антипатий непросто даже взрослому.
Следующие практики – предметные – проходили в базовых 33-й и 43-й школах. Заключались они в посещении уроков лучших учителей с последующим разбором и обсуждением. Ни удовлетворения, ни пополнения знаний они не дали. Более того, после некоторых уроков возникал крамольный вопрос: если это лучший учитель, то каковы худшие?
Завершением практики являлся курс методики преподавания. Что касается истории, то в памяти не осталось ничего, абсолютно ничего. Другое дело – русский язык.
И сам курс русского языка, и курс методики его преподавания казались мне делом сугубо женским, и наши преподавательницы вполне оправдывали такое мнение. А тут на самом трудном и муторном предмете преподавателем оказывается мужчина, да еще и бывший фронтовик, Алексей Иванович Никеров. Вот уж кого ни мне, ни, думаю, и однокурсникам не забыть.
Высокий, стройный, статный. Прямая, как доска, офицерская спина, широко развернутые плечи, всегда (а может, и один имеющийся) строгий костюм, застегнутый на все пуговицы, всегда белая рубашка и галстук. Дополняли облик плотный ежик тронутых сединой волос, плотно сжатые губы, упрямый подбородок и строгий взгляд. Чаще сосредоточенный и углублённый, чем открытый и расслабленный. Так и хочется сказать – «человек в футляре». Но стоило ему улыбнуться, а это все же случалось, как виделся обычный человек со своими достоинствами и особенностями.
Тогда он был рядовым преподавателем кафедры, даже не старшим, без ученой степени и звания. Отсутствие их, ставящее на кафедре его, мужчину, в положение младшенького, видимо, порождало своеобразный психологический комплекс, лишавший жизненного комфорта, но еще больше лишавший того комфорта нас, студентов. Так он, по всей вероятности, самоутверждался, так добивался уважения и не столько к себе, сколько к предмету. И цели достигал. Даже самые чтимые отличники в стенку вжимались, завидя его в коридоре.
Он читал курс, водил нас по урокам, приглашал лучших в городе учителей-словесников в аудиторию, то есть относился к работе со всей серьезностью. Но нам-то не легче, мы от того не становились умнее. Мы судорожно готовились к зачету по методике преподавания. Каждому давалась определенная тема, ну, скажем, междометия. Следовало написать подробный конспект урока по типу учитель-ученик. То есть абзац – вопрос учителя, следом абзац – ответ ученика. Отдельно – объяснения учителя по теме с разбором на классной доске и использованием наглядных пособий. Чтобы уложиться, требовалась как минимум общая тетрадь в 48 листов. Первый раз все сдали свои конспекты одновременно. Зачет не получил никто. Далее каждый сдавал его в отдельности, для чего следовало изловить Алексея Ивановича и договориться с ним о месте и времени. Иногда это была свободная аудитория на первом этаже, иногда у него дома.
То ли память подводила, то ли утомляла сама процедура проверки конспектов, но очень часто получалось так, что, исправив все, им подчеркнутое, ты приходил и тебе зачеркивали уже исправленное. У нас некоторые ходили к нему на зачет по семь-восемь раз и столько же раз затем сдавали экзамен. Понимая, что столь длительный процесс мне не светит, я, сходив пару раз, в третий отправился, чтобы и зачет получить, и экзамен досрочно сдать. Он ждал меня дома. Хотя о доме как таковом говорить можно условно. Он жил на втором этаже общежития №3, что в створе улицы Чайковского и Которосльной набережной. В комнате он, жена, дети. Кто-то из них был уже дома, но для приема студентов у него имелся выгороженный занавесью уголок при входе с письменным столом и стульями из комнаты.


