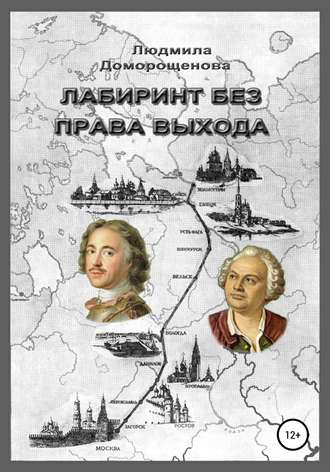
Людмила Доморощенова
Лабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова
Прибыв в конце лета домой, купцы, безусловно, должны были рассказать вернувшемуся с промысла Василию о встрече с его сыном, который категорически отказался когда-либо возвращаться домой. И что оставалось делать одинокому старику? Для кого ему теперь стараться, ловить эту рыбу, продавать её, снова ждать весны, снова преодолевать трудный путь на промысел, чтобы в один из дней, наполненных этими трудами, отдать Богу свою грешную душу без покаяния?
А поскольку он был, как мы уже поняли, старообрядцем, то дальнейший путь у него мог быть только один – ликвидировать всё своё хозяйство и податься к единоверцам, так как приверженцы старой веры считали, что покаяние можно было приносить только перед своим наставником. Если же такого наставника рядом не было, если до него не хватало сил или возможности добраться, наиболее убеждённые староверы уходили перед смертью в лес, где строили специальные «хоромины» и умирали в полном одиночестве, зачастую уморив себя голодом. В таком случае ревнители древлеправославия приносили покаяние земле, кланяясь на все четыре стороны со словами: «Мать сыра земля, прости и прими! И ты, вольный свет-батюшка, прости, коли обидел…».
Кандидат исторических наук старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН Т.И. Бабикова (Дронова) много лет отдавшая изучению обычаев северных староверов, пишет: «Вся философия жизни старовера сводилась и по-прежнему сводится к подготовке перехода из земной жизни в вечную… В возрасте 50-55 лет, с прекращением активной трудовой деятельности, начинается их постепенный переход в следующую возрастную группу „стариков”. Как правило, именно в этот период особенно важным становится осмысление прожитого отрезка жизни, которое знаменует изменение образа жизни. Согласно сложившимся мировоззренческим установкам, чтобы достойно встретить смерть, прежде всего необходимо было „очиститься от греховной жизни”».
Для старовера-насмертника (готовящегося к смерти) «очиститься» значит одно – спасти душу. Куда именно оставшийся без крыши над головой Василий Дорофеевич ушёл «спасаться», мы не знаем. Поскольку он продал свой дом поздно осенью, когда навигация на Белом море уже была закрыта, то, скорее всего, отправился пешком или с попутным обозом на реку Койда, в верховьях которой располагался достаточно богатый и крепкий (т.е. строго соблюдающий все установления) Ануфриевский староверческий скит. А в одну из следующих навигаций уплыл, думается, на Грумант на своём гукоре, переданном им заранее выговскому кормщику и другу сына Амосу Корнилову.
У Корнилова на Груманте, на острове Эдж, как мы говорили, был организован староверческий скит, большаком которого он являлся. Гукор и деньги, вырученные от продажи имущества, могли стать для Василия Дорофеевича «вступительным взносом» для приёма в скит, что было обычным явлением в то время. Судно В.Д. Ломоносова, скорее всего, пополнило промысловый флот Выговской пустыни. По крайней мере, известно, что Корнилов в 1740-х годах ходил на Шпицберген на гукоре, хотя ранее у него такого судна не было.
Скорее всего, именно здесь и окончил свой земной путь Василий Дорофеевич, очистившись от земных грехов в стерильной от мирской жизни обстановке полярного острова. Для любого старовера это был бы идеальный вариант ухода в вечную жизнь.
Можно также предположить, что Василий Ломоносов давно задумал уйти из мира в груманланы – то есть в старости поселиться на Груманте. Очевидно, об этом знал Михайло. Поэтому ему незачем было поручать брату Ивану, как пишут биографы учёного, искать останки отца для захоронения после якобы кораблекрушения; да и при чём здесь Иван, которого Василий Дорофеевич так и не признал своим сыном?
Вернувшись «из-за моря» и узнав о том, что год назад отец продал своё хозяйство, Михайло сразу всё понял и позднее, во избежание ненужных расспросов, когда возникал вопрос, говорил, что его отец не вернулся с промысла, погиб в кораблекрушении. Нелепые подробности о якобы поисках земляками останков Василия Ломоносова на северных островах (во время начавшейся очередной промысловой экспедиции?), о вещем предсказании его гибели, якобы полученном Михайлой во сне во время возращения в Петербург, оставим на совести их авторов.
Бархатный кафтан и китаечное полукафтанье
Среди загадок раннего периода жизни Ломоносова, дошедших до наших дней «неразъяснёнными», есть две истории, связанные с его одеждой. Выше мы уже упоминали о его кафтане, на котором «видны были его записки географических сведений». Вообще-то кафтаны были в то время самой обычной верхней, преимущественно мужской, комнатной и уличной (типа халата или пальто) одеждой. Их носили все слои населения; различие было только в использовании ткани и деталях, подчёркивающих статус владельца. Крестьянские кафтаны шились из грубых домотканых тканей – холста, сермяги, реже – покупного сукна; они были без подкладов и тем более – украшений. Кафтаны из тонкого сукна, парчи или бархата с подкладкой из дорогого шёлка, могли носить, естественно, лишь богатые люди. Но в нашем случае произошло невероятное: свидетели утверждают, что кафтан крестьянского паренька Михайлы был не простой сермяжный, а бархатный, с белым подбоем (подкладкой).
Этих свидетелей трое. Первый – поэт М.Н. Муравьёв, о котором мы уже говорили выше. Он видел этот кафтан у архангельского губернатора Е.А. Головцына. Затем эта вещь оказалась у куростровца С.М. Негодяева-Кочнева. Позднее, уже в 19 веке, литератору П.П. Свиньину, путешествовавшему по ломоносовским местам, также рассказывали о «достопамятном кафтане Ломоносова, на белом подкладе которого видны были школьные заметки его». Об этом же бархатном кафтане говорит в своей книге «Род Ломоносовых» современный архангельский историк-архивист Н.А. Шумилов. Все упомянутые – достойные люди, сомневаться в правдивости их слов нет оснований: кафтан у крестьянского сына был: бархатный, с белой, скорее всего, шёлковой подкладкой.
Бархат и сегодня – одна из самых роскошных и дорогих тканей. В 15-17 веках эксклюзивность его заключалась не только в красоте, но и необычайной трудоёмкости производства. Поэтому монархи Европы создавали у себя его запасы, которые ценились наравне с золотом. Этой тканью обивали троны, шили поистине королевские наряды, парадные костюмы. Бархат в первую очередь ассоциируется с дворцовой жизнью, царской или княжеской роскошью, исключительностью его владельца.
Но как эта бархатная вещь могла оказаться в крестьянском быту, а затем у губернатора Головцына? Купить её сам Михайло, конечно, не мог, а отцу бы это даже в голову не пришло: к чему барская одежда мужику? Вероятно, ему кто-то дал её или подарил, но кто и зачем? Взрослый Ломоносов, уходя навсегда из дома, никак не мог взять с собой одежду, которую носил в подростковом возрасте. Значит, кафтан остался в отцовском доме. Отсюда при продаже усадьбы в 1740 году он мог попасть к сводной сестре Ломоносова Марии (поскольку Василий расставался со своим хозяйством спешно и уходил в «никуда», он мог взять с собой лишь самое необходимое, поэтому новые владельцы, скорее всего, предложили родственникам Василия выбрать из оставшихся вещей то, что им приглянется). Возможно, Мария и сама его носила (особой разницы между мужской и женской одеждой тогда не было), и сберегла для детей. Только от Марии мог получить эту вещь Головцын.
Известно, что Ломоносов в последнем письме к сестре называет этого губернатора своим давним другом и предлагает Марии и её мужу Евсею Головину: «…в случае нужды или ещё и без нужды можете его превосходительству поклониться». Надо думать, какая-нибудь «нужда» не замедлила себя ждать в крестьянской жизни, и встреча Головиных с Егором Андреевичем состоялась уже вскоре после смерти их знаменитого родственника. Выразив им сочувствие и погоревав об утрате друга, Головцын вполне мог высказать желание иметь на память о нём какую-либо малость. Естественно, они посчитали достойным губернатора подарить ему «барский» кафтан с «автографами брата». Тем более что ничего другого (после тридцати пяти лет, прошедших со времени ухода Ломоносова из родных мест, и двадцати пяти – после утраты отцовского дома), скорее всего, уже не осталось.
В 1780 году Головцын вышел в отставку и вернулся в Петербург. Это как раз было время, когда известный в губернии судостроитель Кочнев начал собирать на Курострове «ломоносовскую коллекцию», которую мечтал превратить в своего рода музей великого земляка на его родине. Егор Андреевич как истинный друг Ломоносова, узнав об этом, не мог, думается, увезти с собой столь ценный экспонат, и передал, судя по всему, «достопамятный кафтан» Степану Матвеевичу в его будущий музей.
Писатель П.П. Свиньин, который побывал у Негодяева-Кочнева на Курострове в гостях в 1827 году, в разговоре с хозяином тоже уверился, что такой кафтан был. Кстати, он утверждал, что престарелый кораблестроитель встретил его в чёрном бархатном полукафтанье. Но тот бархат должен был существенно отличаться от бархата ломоносовского кафтана. Дело в том, что с середины 18 века наряду с шёлковым бархатом ручной выделки в разных странах, в том числе и в России, начали промышленно изготовлять более дешёвый хлопчатобумажный и шерстяной бархат.
С.М. Соловьёв в своей «Истории России с древнейших времён» писал: «Елисавета дала поруческие чины мастерам из дворян Ивкову и Водилову, которые были отправлены отцом её в Италию и Францию и теперь жили на московской шёлковой мануфактуре и завели здесь бархатные, грезетные, штофные и тафтяные станы; Ивков научил делать травчатого [с узорами из цветов] дела бархат, какого прежде в России не делалось». Конечно, это значительно расширило возможности приобретения таких тканей незнатными, но уже имущими слоями населения. Степан же Матвеевич был не просто крестьянином, а судостроителем, промышленником, вёл морской тресковый промысел, имея суда, построенные на собственной верфи.
В конце 1780-х годов он загорелся идеей создать на Курострове артельную корабельную верфь типа купеческой и строить «на собственном иждивении» для себя и своих земляков в год хотя бы по одному крупному мореходному судну доступной стоимости. С ходатайством по этому вопросу Кочнев обращался в государственную Коммерц-коллегию, но получил отказ. В 1791 году он попытался решить этот вопрос в Адмиралтейств-коллегии, куда обратился через олонецкого и архангельского генерал-губернатора Тутолмина, любителя разных редкостей (известно, например, что Тимофей Иванович собирал в Архангельском крае исторические, этнографические и статистические материалы для Сравнительного словаря, задуманного Екатериной II).
Очевидно, хлопоты (и вновь безуспешные!) по важному для семьи корабельному делу и отношения на этой почве с любознательным губернатором и стоили Степану Матвеевичу лучшего экспоната его коллекции. В 1793 году Тутолмин был переведён наместником в волынские земли, а в 1796 году, после кончины благорасположенной к нему Екатерины II, арестован по приказу нового императора Павла I с конфискацией всех имений и полтора года провёл в Петропавловской крепости (затем амнистирован и при Александре I был даже градоначальником Москвы). В период его опалы и могли затеряться следы загадочного ломоносовского кафтана.
Столь же невероятной в биографии молодого Ломоносова выглядит история с китаечным полукафтаньем, якобы выпрошенным Михайлой у соседа Фомы Шубного. Вообще-то, говорят, он пришёл к Шубному одолжить три рубля на дорогу до Москвы, и тот спокойно дал запрашиваемую сумму человеку, решившему удариться в бега. А ведь это был не наш доперестроечный «трёшник до получки»; на такие деньги в начале 18 века можно было пару коров сторговать.
Про этого Фому известно, что он был двоюродным дедом знаменитого скульптора Федота Шубина, происходил из обычной крестьянской семьи. Некоторые писатели, обращающиеся к жизнеописанию учёного, не зная, как объяснить необычайную щедрость Фомы, называют его родственником семьи Ломоносовых, другие – купцом, владельцем судна; мол, был он богатым человеком, для него три рубля – не деньги. Но, во-первых, в книге архангельского архивариуса Н.А. Шумилова «Род Ломоносова» нет указаний на такое родство; во-вторых, вряд ли может стать богатым человек, для которого три рубля – не деньги; богатый бы и копейку просто так не дал. Разве доверчивый сосед не понимал, что не скоро получит обратно своё, если он вообще мог на это надеяться, зная, что молодой Ломоносов собрался не на недельную прогулку в соседний город, а на учёбу, во время которой не деньги зарабатывают, а годами корпят над учебниками.
Но Михайло в тот день явно удачно зашёл к соседу. Расщедрившийся Фома ещё и китаечное полукафтанье ему отдал. Факт, с одной стороны, ерундовый, можно было бы его и не вспоминать. Но почему-то вспоминается уже почти три столетия. Так, через полвека после ухода Михайлы из родных мест его земляк Варфоломеев писал для книги академика И.И. Лепёхина о пребывании Ломоносова в Сийском монастыре: «Выпросив у соседа своего Фомы Шубного китаечное полукафтанье и заимообразно три рубля денег., заложил тут взятое им у Фомы Шубного полукафтанье мужику емчанину, которого после выкупить уже не удалось, ушёл оттоле в Москву».
Может, потому вспоминается тот кафтан, что подарок хорошо характеризует не жадного крестьянина Фому? Нет, на самом деле он характеризует этого Фому очень плохо, потому что так, как он, к одежде никто в то время не относился. Историк М.Г. Рабинович в «Очерках материальной культуры русского феодального города» пишет: «Одежду ценили. Берегли. Передавали по наследству. Многократно чинили и даже совсем изношенную не бросали, а употребляли на заплаты, на тряпки и т.п.»73.
Это же подтверждает и северный писатель В.И. Белов: «Народному отношению к одежде [на Севере] была свойственна прежде всего удивительная бережливость… Человека с младенчества приучали к бережливости… Костюм-тройку в крестьянской семье носило два, а иногда и три поколения мужчин, женскую шерстяную пару также донашивали дочь, а иногда и внучка. Платок, купленный на ярмарке, переходил от матери к дочке, а если дочери нет, то к ближайшей родственнице. (Перед смертью старуха дарила своё имение, а перед преждевременной смертью женщина делала подробный наказ, кому и что передать.) Купленную одежду берегли особенно»74. В северной деревне, кстати, и до сих пор так относятся к одежде.
Надо учитывать и то, что дешёвую хлопчатобумажную китайку в России научились делать только в конце 18 века. А в допетровскую эпоху и первые десятилетия 18 века под китайкой подразумевали шёлковую гладкокрашеную материю, которую ввозили из Китая75. Шёлковой тканью покрывали лицевую поверхность лёгких коротких кафтанов (полукафтанья) из заячьего или беличьего меха, которые знатные люди носили дома в студёную пору (своего рода утеплённый халат) или на улице в достаточно тёплую весеннюю погоду. Такое китаечное полукафтанье упоминается, кстати, среди описанного и выставленного на торги имущества фаворита царевны Софьи князя Василия Голицына, сосланного царём Петром Алексеевичем на Архангельский Север. Оценено в три рубля с указанием, что серебряные пуговицы срезаны.
Крестьянское же полукафтанье во времена юности Ломоносова шилось без всякой подкладки, из грубой домашней ткани. Однако даже и такую сермяжную одёжку рачительный хозяин ни с того, ни с сего вряд ли бы стал кому-то отдавать. Да и зачем она в Москве? Но ведь Фома Шубный, а скорее всего кто-то через него, три рубля и шёлковое китаечное полукафтанье Михайле всё же передал?
Безусловно, и бархатный кафтан на шёлковой подкладке, и шёлковое китаечное полукафтанье могли появиться у Ломоносова только в случаях, когда его хотели представить человеком другой, не крестьянской, среды. И в обоих случаях, как мы уже поняли, эта барская одежда по разным причинам оказалась не востребована. Но сами по себе факты наличия её у крестьянского парня о многом говорят.
Как сбежал из дома Михайло Ломоносов?
Описание ухода Михайлы Ломоносова из родительского дома, приведённое в академической биографии учёного (1784 год), не выдерживает никакой критики: «Из селения его отправлялся в Москву караван с мёрзлою рыбою. Всячески скрывая своё намерение, поутру смотрел, как будто из одного любопытства, на выезд сего каравана. Следующей ночью, как все в доме отца его спали, надев две рубашки и нагольный тулуп, погнался за оным вслед. В третий день настиг его в семидесяти уже вёрстах. Караванной приказчик не хотел прежде взять его с собою, но, убеждён быв просьбою и слезами, чтоб дал ему посмотреть Москвы, наконец, согласился».
Давайте разберёмся, какой «караван» и с какой «мёрзлой» рыбой мог отправиться «из селения его», то есть из деревни Мишанинской в Москву в декабре 1730 года. В начале 18 века Куростров населяли всего 763 человека, живших на 219 дворах. Получается – три-четыре человека на двор. Это в среднем, а фактически в некоторых семьях, как, например, у Луки, могло быть несколько детей, значит, какие-то другие семьи состояли из одиноких стариков. Это было небольшое сообщество, жившее на окружённой водой территории, практически – в ограниченном пространстве, поэтому значимых событий здесь случалось немного.
Подготовка обоза, а рыбные обозы могли состоять из нескольких десятков возов, была бы именно таким событием. Поэтому на острове задолго до того должны были знать, кто, куда, с чем и когда отправляется в путь. И Михайло, в отличие от того, как описывается в академической биографии учёного, должен был не в деревне среди ротозеев толкаться, а по пути с родного Курострова ждать обоз, чтобы не бежать потом за ним несколько дней. А ещё лучше – вошёл бы, по согласованию с отцом, в состав обоза со своим товаром на собственном возу: и Москву бы «легально» посмотрел, и денег заработал.
Второе «но»: откуда на речном острове рыба в количестве, достаточном для формирования обоза, и качеством рентабельная для вывоза? Ведь речь идёт о «мёрзлой», то есть только что выловленной и замороженной рыбе. П.И. Челищев, побывавший на родине глубокочтимого им академика Ломоносова и тщательно записавший все подробности жизни островитян, в своей книге «Путешествие по Северу России в 1791 году» говорит, что бедные жители Холмогор и окрестностей, не имеющие, кроме хлебопашества, никакого рукоделия, «в реках и озёрах ловят рыбу». Но в окрестных реках и озёрах куростровцы могли ловить зимой что-то лишь себе на прокорм, а не на продажу обозами. Тем более что озёрная и речная рыба водилась в то время на Руси во всех водоёмах и стоила в прямом смысле – копейки. Везти её три недели за сотни вёрст – смысла никакого.
Зимой с Севера везли в огромных количествах и с большой выгодой в основном мороженую навагу, которая принадлежала к числу статусных, деликатесных рыб и подавалась «на лучших столах от Петербурга и Москвы до Одессы и Астрахани». Прибрежный наважий промысел был распространён в Белом море повсеместно, кроме Кандалакшской губы. Традиционно его вели поморы (жители селений, расположенных на берегу моря) с конца осени до Николы Зимнего, который отмечался 6 декабря (здесь и далее – по старому стилю).
Особенно ценилась навага, выловленная в Мезенской и Печорской губах, в реках полуострова Канин и острова Колгуев. Она составляла до 70 процентов от вывозимой рыбы. Улов с Печоры и Мезени отправляли в основном оленьими обозами (аргишами) на Никольскую ярмарку, проходившую со 2 по 16 декабря на Пинеге. Здесь навагу продавали оптом и далее уже конными обозами везли по всей России. Видимо, свои пункты формирования обозов были и в других местах её лова или в непосредственной близости от них. Однако от этих мест до Курострова – сотни километров.
Но, может быть, куростровцы сами выезжали зимой на побережье на наважий промысел? Однако П.И. Челищев не говорит о массовом участии жителей Холмогор и Курострова в морском промысле рыбы. А вот С. Максимов в уже упоминавшейся выше книге «Год на Севере» отмечал: «Василий Дорофеев [В.Д. Ломоносов] был мужик зажиточный, и в то время, когда ещё вёлся обычай в Куростровской волости обряжать дальние покруты за треской и морским зверем на Мурманский берег океана, он был одним из трёх (выделено мною. – Л.Д.) хозяев, рисковавших этим делом. Теперь промысел этот оставлен всеми подвинскими жителями, и оставлен давно во имя нового дела – хлебопашества, которым занимаются и жители Курострова». То есть занятие морскими промыслами не было типичным делом для крестьян Куростровской волости, и все теперешние разговоры о том, что они чуть ли не поголовно были рыбопромышленниками – домыслы.
Некогда было куростровцам заниматься дальними для них, опасными, затратными по времени и силам морскими промыслами. Если из всех 763 жителей Курострова вычесть женщин (которых всегда и во всех селениях больше, чем мужчин), детей, стариков, увечных и больных, то «рабочих» мужиков здесь не больше, думаю, ста человек жило. Именно они и должны были обиходить жизненное пространство своего острова. В короткое северное лето им надо было успеть вспахать и засеять поля, подремонтировать жильё, хозяйственные постройки и места содержания скота, заготовить большое количество сена (каждое хозяйство имело не менее пяти голов крупного рогатого скота и несчётное количество овец). На острове были самодеятельные верфи, на которых шили лодки и даже крупные суда.
Промышляли островитяне также резьбой по моржовой кости, бондарным и смолокуренным делом, подряжались иногда на строительные работы. Мужиков двадцать были «кречачьими помытчиками» – так назывались ловцы соколов и кречетов для царской охоты; куростровцы держали монополию на ловлю этих ценных птиц на Терском берегу и Кильдине и никто, кроме них, не имел на то права. В общем, большинство жителей Курострова вполне могли прокормить себя и свои семьи работами, не связанными с тяжёлыми и рискованными морскими промыслами.
Так что никакой рыбный обоз собирать и отправлять в Москву жители Курострова не могли. Нечего им было отправлять. И даже путь какого-либо обоза на Москву или Петербург не пролегал через их остров: из Архангельска дорога шла несколько ниже, а с Пинеги – несколько выше по течению Северной Двины. Но ведь какой-то обоз был? Был, но явно не тот, о котором сообщает академическая биография и который пытались «реанимировать» к 300-летию учёного организаторы проекта «Рыбный обоз-2».
Отдельно надо сказать о «караванном приказчике», который сначала не хотел взять Михайлу с собою, «но, убеждён быв просьбою и слезами, чтоб дал ему посмотреть Москвы, наконец, согласился». А.А. Морозов по этому поводу пишет: «У нас нет оснований не доверять этому известию». А у нас, извините, есть. И вот почему: приказчик – торговый агент, нанимающийся по договору и только по нему получающий расчёт. В данном случае это оптовый закупщик, который мог представлять московского, питерского или местного крупного торговца рыбой. Рисковал ли он, взяв с собой некоего путешественника, догнавшего его обоз? Безусловно! Парень мог оказаться, например, беглым преступником. Да и просто самовольный уход из дома не поощрялся. Ведь у отца Ломоносова была возможность вернуть сына с дороги, заявив властям о его побеге. В течение трёх недель, пока обоз медленно брёл по дороге, его многократно могли обгонять «скорые» и «экспрессы» того времени – кареты фельдъегерской и почтовой служб, верховые курьеры, преодолевавшие путь из Архангельска до Москвы за несколько дней.
Получив «ориентировку», казённые служащие должны были принять меры к возвращению беглеца. При этом мог быть наказан и приютивший его приказчик – как минимум лишением расчёта по договору найма. А если он был местным, архангельским, то его ждали по возвращении и разборки с отцом любителя путешествий.
И оно ему надо – рисковать своим благополучием, благополучием нанятых людей, сопровождавших и охранявших обоз, ради некоего бездельника, решившего «посмотреть Москву»? Экой мужик слёзы и сопли разводит, на экскурсию просится. Да наймись на работу в обоз и по приезде в столицу смотри на неё, сколь хочешь. Я бы на месте караванного приказчика никого с дороги не взяла, а уж опытный торговый человек, думаю, тем более не стал бы этого делать. Но ведь кто-то довёз Михайлу до Москвы, кто-то поил-кормил его в дороге чуть не месяц, платил за его ночлег, что на проезжем тракте немалых денег стоило.
«Караван с Курострова» – фантазия М.И. Верёвкина или того, кто рассказал ему эту «историю». Есть и другой вариант побега: мол, увидел Михайло, что мимо Курострова через Холмогоры обоз с рыбой на Москву идёт. Дождался ночи и … (далее – по Верёвкину). Но те, кто бывал на Курострове, отстоящем от Холмогор по прямой на три километра, знают, что да: в ясный летний день отсюда видны купола холмогорских храмов. Но только купола, и только в ясный летний день, а не в морозный зимний, когда глаза льдит и хмарит, а за опушёнными инеем ресницами не рассмотришь в подробностях и того, что рядом.
И потом, если Михайло бросился вслед за первым попавшимся обозом (а они зимой достаточно часто должны были идти через Холмогоры также и на Петербург, Вологду, Ярославль, другие города с рыбой, дичью, северными ягодами, олениной и лосятиной, ворванью, мягкой рухлядью и т.д.), то мог и не попасть в Москву. А это значит – побег его не был связан с желанием учиться или учиться именно в Московской духовной академии?
В 1788 году появляется ещё один вариант побега Михайлы Ломоносова, записанный уже упоминавшимся Василием Варфоломеевым (по одним сведениям это крестьянин, по другим – куростровский дьячок или даже священник). Он сообщает: «…не сказав своим домашним, ушёл в путь и, дошед до Антониева Сийского монастыря, в расстоянии от Холмогор по Петербургскому тракту во сте верстах, был в оном некоторое время, отправлял псаломническую должность, и. ушёл оттоле в Москву»76.
Об этом же пишет и сам Ломоносов в объяснительной Ставленническому комитету, сообщая, что ушёл из дома в Сийский монастырь в октябре 1730 года. Этот вариант самый реалистичный, с подробностями, которые трудно придумать, но и он требует уточнений. Почему, например, Ломоносов ушёл из дома не раньше и не позже, а именно в октябре 1730 года? Что он делал в монастыре два месяца, кроме того, что читал псалмы? Почему брат отца, служивший в этом монастыре, или односельчане, посещавшие Антониево-Сийскую обитель, ничего не сообщили Василию Дорофеевичу о местонахождении его сына? А если сообщили, почему Василий Дорофеевич не предпринял никаких мер для возвращения его домой? Или всё же пытался предпринять?
Поразительно и то, что Василий Ломоносов никак не отреагировал на происки соседей, которые якобы помогли организовать побег из родительского дома его единственного сына. Полагаю, на его месте любой современный папаня разнёс бы этих «добрых» Шубных и Дудиных, повыдёргивал руки-ноги, чтобы они до конца жизни даже смотреть в сторону его дома и домочадцев не смели. Василий же и после побега сына, по воспоминаниям односельчан, имел добрые отношения с соседями.
В общем, ничего мы не «высеяли» пока из «известных фактов» официальной биографии Ломоносова. Нужен, видимо, какой-то другой взгляд на эти события. Ясно только, что из дома ушёл, до Москвы добрался, назвался дворянским сыном, а дальше. Дальше всё, раз за разом, пошло как по маслу. Как и должно быть, если ты в самом деле дворянский сын. И как, по писаным и неписанным законам того времени, не должно быть (и никогда не было ни до, ни после!), если ты сын тяглового крестьянина.


