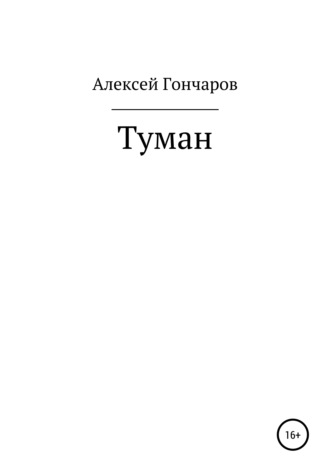
Алексей Александрович Гончаров
Туман
– Надо, мам. Надо, – отвечал ей Максим, находясь ещё, как говорится, на взводе. – Это всего лишь малость того, что он заслуживает за твою бессонную ночь, за вот этот похабный стриптиз на лестничной площадке, …да и вообще, за то, что он просто существует, этот Жмыхов. Конечно, это безбожно, но душа почему-то хочет удавить это паразитическое существо, – обратился он уже к Владимировичу.
– К тому же, обстановка располагает, – поддержал его Егоров, намекая на кромешный туман во дворе.
– Вы не забывайте, мои дорогие рыцари, что у полковника такое же желание, только в отношении вас, – заметила Зиновьева.
Валентин Владимирович оставил мать с сыном в квартире, шутливо попросил Светлану Александровну присмотреть за бунтарём, а сам вышел во двор и по стеночке дома направился в свой подъезд, проведать бабу Паню и Маргариту Николаевну.
Как бы не хотел в душе Валентин Егоров, чтобы мистические проявления, обошли Милу Алексеевну Добротову стороной, но с ней тоже произошло невероятное происшествие.
Когда началась перепалка на лестнице, проснулся её муж Пётр и вышел на кухню. Мила не сдержала нечаянную улыбку, обратив внимание, что на нём были точно такие же чёрные трусы, что принёс Валентин. Когда-то на распродаже, она купила их аж целых пять штук, но на сегодняшний день по каким-то невыясненным причинам нижнее бельё оставалось только в двух экземплярах.
Не переставая зевать, Пётр Добротов открыл холодильник, поводил глазами по полкам и, словно не определившись с едой, в виде альтернативы достал початую бутылку водки. Поставил её на стол и полез в навесной шкаф за стопкой.
– Подогрей чего-нибудь, – приказал он и уселся за стол, массируя пальцами виски.
– Я вчера жарила мясо, но, к сожалению, оно немного подгорело, – оправдывалась Мила, уже привыкшая, что сочувствия от мужа ждать не приходится, и предложила: – Котлеты остались. Будешь?
Пётр глубоко и недовольно вздохнул, встал, опять открыл холодильник и, углубившись в него с головой, говорил:
– Котлеты я и холодными съем, а вот за мясо… даже не знаю, как тебя «благодарить». Не даром мне коллеги высказывают: «Твоя Людка какая-то рыхлая стала». А я им отвечаю, что ты мозгами рыхлая стала. Я не понимаю, что в твоей башке происходит. А где огурцы солёные? Выбросила, что ли?
– Справа на второй полке, – тихо ответила Мила, и губы её задрожали.
Она не сразу поняла, что под коллегами подразумевались его приятели-таксисты, которые иногда заезжали к ним сюда перекусить на скорую руку. Теперь эти труженики дорог невольно казались ей какими-то приглашёнными мужем экспертами, которые оценивали её за тарелку супа.
– Ты, Людка, в самом деле, какая-то расхлябанная становишься, – стоял Пётр перед ней через стол в одних трусах с тарелкой котлет в руке и банкой огурцов.
Ногой Пётр закрыл дверцу холодильника и сел за стол. Мила отвернулась к раковине, чтобы скрыть от него свои глаза, наполненные обидой, и принялась тереть тряпочкой попавшуюся под руку чистую разделочную доску. Она старалась, как можно скорее, отмести от себя такие определения, как «рыхлая» и «расхлябанная», относя эти оскорбления к неосознанной раздражённой выдумке своего мужа, вызванной состоянием похмелья. Но невыносимое: «Людка», было для неё чем-то уже вроде хронического симптома, который бил плетью по её психике. Мила привыкла и знала, что через секунду-другую пройдёт боль и от этого «щелчка», но её угнетали эти многочисленные уколы, потому что они подпитывали в Добротовой безнадёжность и бессилие; укрепляли её положение: – навсегда оставаться для Петра «Людкой».
Один раз (и надо сказать, что это было очень давно), она попросила Петра называть её «Милой», но в ответ получила только пакостный смешок с таким же едким пояснительным вопросиком: «Ты что у меня, корова или коза?». И после этого она уже боялась подходить к нему с такой просьбой. «Нет – так нет» – смиренно успокаивала она себя, но и привыкнуть к неприятному резкому обращению не смогла.
– Я чё, должен вкалывать за мясо, которое даже сожрать не могу? – спросил он немного гневно, наливая водку в рюмку.
– Вчера вечером Максима Зиновьева милиция забирала, а я спустилась вниз и прозевала мясо. Попробую потушить его сегодня в подливе…, – оправдывалась Мила, но Пётр её прервал:
– И чего же тогда не забрали? Это же он там, только что, орал.
– Так, отпустили утром, – делилась она радостью.
Пётр Добротов проглотил содержимое рюмки, как воду, даже не поморщился и не закусил, а потом спросил:
– Погоди. А не Жмыхов ли там, вместе с ним кричал?
Она отложила, наконец, доску в сторону, обтёрла полотенцем руки и рассказывала:
– Максим с этим Жмыховым вчера очень здорово повздорил. Потом приехали солдаты и арестовали Макса, а полковник… (или подполковник?), ну, в общем, он напоследок ударил Максима и остался ночевать здесь. А утром Максим был уже дома. Ты же знаешь, он всё шуточками объясняется, и я так и не поняла, почему его отпустили. Вот они, наверное, и продолжали с этим милиционером выяснять отношения.
– Когда-нибудь этот переросток доиграется. Со Жмыховым лучше не шутить; мигом «закроет», и будет потом, Светка ходить и всем нам тут рыдать и жаловаться, – пророчил Пётр, выпил вторую рюмку, но на этот раз откусил котлету и, захрустев огурцом, интересовался у жены: – А чё ты не задаёшь свой дежурный вопрос: «Ты не увлекаешься ли, Пётр? Ведь завтра на работу».
– Ты что-то придумываешь. Я уже давно тебя не беспокою по этому поводу. Ты сам прекрасно знаешь, когда тебе можно, а когда нельзя, – напомнила она и включила газовую конфорку, потому что муж закурил.
– Правильно. И не спрашивай, – сам скажу, – самодовольно говорил уже захмелевший Пётр: – Казах попросил поменяться с ним сменами, и теперь я два дня отдыхаю. А, между прочим… (нахмурил он брови и перевёл взгляд с откусанного огурца на жену), почему ты не на работе?
– А ты до сих пор не заметил, что у нас за окном творится?! – восхищённо спохватилась Мила и указала полотенцем ему за спину.
Пётр недоверчиво повёл головой назад, застыл на стуле как изваяние, а после осторожно двинулся к окну. Недоумевая, он разглядывал то, что рассмотреть было невозможно.
– М-а-ать честная! А это что, туман такой?! – уточнял он не понятно у кого.
Затушив в стоящей на подоконнике пепельнице окурок, Пётр налил себе очередную порцию водки, выпил, закурил новую сигарету и продолжал вглядываться в белую муть за окном. Миле и хотелось бы в этот момент узнать, о чём он думает, но её семейный опыт подсказывал, что наивный расспрос может вызвать у Петра раздражение. И тогда она просто, как на фон, смотрела на обнажённый, обмякший с возрастом, торс мужа и размышляла: – «А ведь будь Пётр характером помягче, ну, скажем, хотя бы наполовину как Валентин, я бы сейчас, наверное, испытывала наплыв, – нежную опеку блуждающего и, наконец, нашедшего меня счастья. Особенно когда этот невероятный туман замуровал нас в доме. Интересно, чувствует ли Петя что-то сказочное в этой обстановке?».
Мила даже успела получить какое-то наслаждение от приятного направления своих мыслей, как неожиданно возникло ощущение, что она находится на кухне одна; что нет никакого Петра, что обнажённое, и уже не мускулистое, а обвисшее мужское тело на фоне белоснежного окна – это всего лишь её воображение – призрак, возникший перед ней из ниоткуда. Этот облик-мираж был послан ей не из прошлого и не из будущего; он вообще никак не связан был со временем. От этого наваждения Миле стало страшно, она зажмурилась, подняла голову, а когда открыла глаза, то смотрела уже на старый светильник под потолком и, чтобы поскорей избавиться от мимолётного кошмара, заставила себя опять задуматься о счастье. А была ли она, вообще, когда-нибудь счастлива? Мила вспоминала то время, когда ребята были маленькими и выбегали во двор, а она обязательно подходила к окну и хотя бы с минуту смотрела, как они начинали свои искромётные игры. Память быстро прокрутила перед её глазами все царапины и ссадины на шаловливых и заводных ручках с коленками, потом окунула Милу в вечера полные мучений и страданий над домашними заданиями. Так же ей вспомнились некоторые бестолковые «подвиги» её пацанов, и она задалась вопросом: «А могу ли я после этого плакаться, что счастье обошло меня стороной? Ребята превратились в замечательных мужчин, а ведь как я боялась…. Но разве это не счастье: – переживать, страдать, радоваться и не задумываться о том, что жизнь, как оказывается, это не общий водоём, а множество отдельных лужиц. Зачем же, жизнь, ты меня сейчас тыкаешь носом и упорно напоминаешь, что ты имеешь множественное число? Это жестоко».
Мила почувствовала, как опускается в какое-то ненужное уныние, и решила подумать о работе, но тут прозвучал голос Петра.
– Хорошая работа. Ни черта, не видать. А бельё там твоё висит? Я по темноте заметил белые тряпки, – поинтересовался он и загасил сигарету.
– Наше, – равнодушно уточнила она.
– Ну, пусть отбеливается матушкой-природой, чище будет, – пожелал Пётр, налил себе ещё водки и, держа стопку в руках, сказал: – В такой туман Жмыхов никуда не денется. Здесь проторчит какое-то время. Надо будет, чуть позже, зайти поздороваться. Зиновьев сопливый кретин ещё, а потому не знает, что с такими «шишками» нужно поддерживать хорошие отношения, а не гавкать на них щенком безмозглым. Ну, будем, – проглотил он водку, поморщился и сказал: – Пойду, ещё покемарю. Если сам не встану, то к вечеру разбуди, – и ушёл в комнату.
«Да, мне досталось счастье – быть матерью, и это далеко не маленькая благодать», – успокоила себя Мила и открыла форточку, чтобы вышел сигаретный дым.
Как-то не задумываясь, машинально, она выхватила из-за пояса халата, пристроенные там, мужнины трусы и принялась ими подгонять задымленный кухонный воздух к форточке. Только после нескольких взмахов, она обратила внимание, чем она производит проветривание, тихо рассмеялась и небрежно пристроила чёрный аксессуар на раму под открытой форточкой.
Мила продолжала улыбаться, потому что вспомнила Валентина; как он стоял с этими трусами, похожий на растерянного гражданина с табличкой, которому поручили встретить на вокзале какое-то важное лицо (именно такой образ она сейчас ему придумала). Она припомнила несуразицу, которую он говорил, и снова из неё вырвался тихий смешок. Поставив в холодильник тарелку с котлетами, банку с огурцами и водку, Мила подумала о том, что эти две встречи (с Валентином на площадке, и последующая недавняя с Петром) как-то необъяснимо были связаны между собой, но связь эта была неуловима, а точнее, слишком высока, чтобы её понять. Сейчас ей казалось, что мужа специально кто-то разбудил на эти несколько минут только ради неё; словно для контрастного сравнения, чтобы она могла сквозь похмельное равнодушие родного человека ярче прочувствовать нежданную заботу о себе другого мужчины. Это выглядело как некое испытание для Милы, – как не сформулированное до конца условие задачки, но решение этой задачи она почему-то должна выдать в ближайший срок.
Внезапно эти странные её ощущения, похожие на невнятную попытку рассуждать, прервались, потому что она услышала голос, который донёсся издалека в открытую форточку: – «Будем считать, что выбор сделан».
Мила не успела даже подумать: кто это мог произнести, и что эта фраза означала, как чёрные трусы, висящие на раме, прямо на её глазах превратились в ворона. Страшная птица встрепенулась в открытой форточке, сверкнула глазом и, с протяжным карканьем, упорхнула в туман.
Ноги у Милы стали ватными, тут же подкосились, и хорошо, что она успела опереться о спинку стула, иначе бы рухнула на пол. С трудом она села и долго не могла отвести глаз от маленького квадратного проёма в окне. Панические, а потому и неуловимые мысли пчелиным роем закружились в её голове. Однако, полагаясь на свой опыт медицинского работника, Мила всё же пыталась придумать разумное объяснение только что увиденному фокусу, но факт отсутствия на раме трусов разбивал все её невнятные предположения. Она почувствовала, как внутренняя истерика подбирается к рассудку и, наверное, через секунду другую эта паника начала бы дробить её разум, если бы Мила не обратила внимания на новое невероятное явление. Через открытую форточку вниз по стеклу плавно спадал поток белого дыма, уткнулся в подоконник, собрался в небольшой холмик, и множеством струек устремился к полу. Зрелище это было больше пугающим, чем завораживающим, потому Мила бросилась к форточке, ударила по ней рукой и повернула лепесток защёлки. Дымовая лента, тянущаяся от форточки до пола, тут же растворилась, и только капельки воды остались на стекле, да маленькая лужица на подоконнике.
Прижав руку к груди, словно проверяя биение своего сердце и наличие дыхания, Мила Алексеевна отошла от окна, натолкнулась плечом на холодильник и совершенно неосознанно открыла его дверцу. Взглянула на початую бутылку водки, и подумала о ней, как о возможном помогающем в таких случаях средстве. Но, взяв бутылку в руку, она не решилась экспериментировать, посчитав, что только усугубит состояние своей и без того уже раненой психики, и с ожесточением поставила водку на место.
«Как же сложно и хрупко устроено человеческое сознание, – подумала она, снова присев на стул. – Но как быстро оно умеет и восстанавливаться; минута в тишине и спокойствии, а я уже уверена, что трусы стащил этот наглый ворон. И пусть это будет так. Не хочу больше ничего другого придумывать. А голос…? Ну, и что, голос. Вполне даже, возможно, что это Максим крикнул у себя на кухне, а мне послышалось что-то невероятное», – этим и успокоила себя Мила Добротова.
В это время подполковник милиции Михаил Анатольевич Жмыхов, сидя на кровати, с болезненным похмельным упорством пытался разобраться со своим мобильным телефоном. После бессмысленного набирания знакомых и незнакомых номеров, он несколько раз снимал и вставлял обратно аккумулятор, вынимал Sim-карту, тёр её о простыню, пытался размять в пальцах, но никакого результата его действия не приносили. Дисплей в телефоне светился, кнопки издавали пиканье, но сам аппарат молчал.
– Сука, какая! – вслух подумал Михаил Анатольевич, объединив своё послание и телефону, и неуловимому мерзавцу с первого этажа. – Почему эта тварь не работает?! И почему эта молодая подлюка здесь, а не в КПЗ?! Сбежал? Отпустили? Я их всех там разгоню к чёртовой матери. А тебя давно пора выбросить, – обратился он к средству связи, и хотел, уже было запустить телефон в стену, но передумал.
Потом Михаил Анатольевич подумал уже про себя (в смысле: – молча): «Чёрт с ним, что проспал, но ведь машину никак не вызовешь. Эх, Серёжа, Серёжа, что же я вчера-то с тобой не договорился? Да, потому что без бабы приехал сюда, – ответил Жмыхов на свой же вопрос и задался следующим: – Что делать?».
Но в отличие от многострадальных классических вопросов: «Что делать?» или «Быть или не быть?», вопрос Михаила Анатольевича был скорее риторическим, или даже номинальным. Жмыжов чётко знал, что для начала надо выпить пару рюмочек чего-нибудь «оздоровительного», забросить в желудок кое-какую еду и потом пешочком отправляться к трассе. Там он без проблем рассчитывал поймать «попутку» и доехать до города. «Ух, доберусь до управления, – подстёгивал он себя, направившись на кухню. – Разбираться, кто отпустил этого гада, буду потом, а первым делом: приеду сюда с бойцами и лично пристрелю эту бешеную собаку, как при попытке к бегству». Михаил Анатольевич достал из холодильника мясные нарезки в вакуумной упаковке, посмотрел на водку, сморщился и потянулся за лимончиком. Снял с буфета бутылку коньяка, хрустальный бокал, расставил всё на столе, потёр ладони и принялся завтракать.
Желание: – «пристрелить при попытке к бегству», – конечно, было пафосным плодом буйной фантазии подполковника. Бывали в его служебной деятельности моменты, когда он задумывался: «А способен ли он убить человека?», и вопрос этот он ставил перед собой именно в такой формулировке без каких-либо дополнений, типа: «За что?» или «При каких обстоятельствах?». Если представить себя в роли «чистильщика» (а по сути, таковым он себя и считал), то пойти на такую крайность – как убийство, Жмыхову было, вроде бы, легко, тем более, оправдание для совести уже заранее заготовлено. Но это – что касалось теоретической стороны вопроса; играться со своим разумом можно сколько угодно и кроме себя трудно кому-то ещё доставить этим вред, а ведь достоверность ответа требует, чтобы воображение воспроизвело реальную ситуацию. Представить себе, как он спускает курок пистолета, направленного на живое существо, Жмыхов не мог. В своём воображении, он готов был только направлять оружие на жертву и ждать, пока кто-нибудь ему подробно и достоверно не объяснит, какую сволочь он должен пристрелить. Но и, представив себе какого-нибудь маньяка, насильника или убийцу, Михаил Анатольевич всё равно не решался виртуально нажать на курок. Казалось бы: сделай движение пальцем, и пусть пуля разорвёт эту похабную плоть и отправит гнилую душу в ад, но нет. Как не парадоксально, но спасают жертву всё те же теоретические игры разума, которые до этого заочно уже уничтожили стоящего перед дулом пистолета преступника. «Раз он такая мразь, так почему я обязан его казнить? Для этого существуют специальные люди», – приходил каждый раз Жмыхов к одному и тому же выводу.
Но оставим пока запутанную психологию Михаила Анатольевича в покое, по поводу: «убить или не убить», и вернёмся на кухню. Только после второй порции коньяка, обсасывая ломтик лимона, «безформенный» подполковник заметил, что с окном что-то не ладное. Настраивая себя на то, что это может быть какая-нибудь выходка этого молодого агрессивного соседа снизу, Михаил Анатольевич, подошёл к подоконнику и…, мягко говоря, обомлел. На мгновение ему почему-то взбрело на ум, что за окном и есть та самая «белая горячка», о которой все шутят, но в реальности с ней не многие сталкивались. Вот и Жмыхов решил, что на второй день принятия крепких напитков, такая «неприятность» никак не может его посетить, и чтобы убедиться в этом, он осторожно распахнул на себя оконную раму. Убеждение, что это не «белая горячка», пришло к Михаилу Анатольевичу сразу же, но верить в то, что за окном стоял туман, он поначалу отказывался. Поводив перед собой рукой, и видя, как пальцы почти бесследно утопают в густом белом испарении, Жмыхов испуганно, но неторопливо закрыл окно, вернулся за стол, наполнил бокал коньяком и не спешил его опустошить. То, что испытывал подполковник, было не удивлением, а каким-то тяжёлым замешательством. Но удивление он всё же получил, когда взглянул на часы, что висели на стене, и прибор показывал начало первого. Михаил Анатольевич засомневался не только в показании времени, но и вообще, в обстановке, которая сложилась вокруг него. Выпив залпом коньяк, он с закрытыми глазами ждал, когда в голову начнёт проникать ясность, но прошла минута, а Жмыхов почувствовал, что он, наоборот, – готов был провалиться в сон, чем решать: какие действия следует предпринять дальше. Тогда Михаил Анатольевич освежил своё лицо холодной водой из крана и призвал себя успокоиться последовательным размышлением. К этому «ритуалу» он частенько обращался, когда испытывал какое-то недопонимание в сложной ситуации, а сейчас был, чуть ли не самый ярчайший случай. Важным составляющим в таком занятии было поочерёдное восстановление предшествующих событий; с репликами, да и вообще, с любыми мелочами, какие только могли вспомниться, поскольку в мелочах, как правило, и находилось то потерянное звено, без которого невозможно было построить общее понимание.
Михаил Анатольевич прокрутил вчерашний вечер, начиная со встречи с армейским другом, потом вспомнил свою обиду на жену с дочерью и, наконец, конфликт во дворе с последующим задержанием. Всё прошло гладко, где честь и достоинство Михаила Жмыхова были восстановлены, если не считать того, что случилось потом. Этого гадёныша кто-то выпустил и вдобавок ко всему напустили этот непроглядный туман. Никаких нужных зацепок Жмыхов для себя не нашёл в своей цепочке воспоминаний, но ему казалось, что он что-то упустил. В нём засело какое-то странное впечатление: будто вчера перед сном он допивал водку уже не один, а с кем-то. Он, вроде бы, кого-то слушал, а после что-то объяснял, но вспомнить подробности или детали, Михаил Анатольевич не мог, как не старался. Его сознание в тот момент было сродни туману, что сейчас обосновался за окном.
Как не странно, но его успокоительная методика, пусть и не давшая нужного результата, всё-таки подействовала на подполковника ободряюще. Он прошёл в комнату и стал облачаться в милицейский мундир. Нашёл даже без труда свежие носки в ящике и пару носовых платков. На глаза попался мобильный телефон и Жмыхов, взяв его в руку, вспомнил, что он упустил. «Гадёныш язвил что-то про телефон. Мол, я никуда не смогу дозвониться. Значит, связи здесь ни у кого нет, и просить у соседей их телефоны бесполезно», – как бы хвалил себя Михаил Анатольевич за сообразительность, и эта похвала, надо сказать, придала ему уверенности. Он как-то бойко представил себе, что пройти с километр по прямой дорожке, пусть даже в таком тумане, не представляется делом повышенной сложности. Потихонечку, не спеша, он пойдёт к трассе с приятными мыслями о том, как доберётся до города, заскочит в управление и выяснит всё про освобождение молодого соседа с первого этажа. Потом он подготовит нужную почву для повторного задержания и отправится вкусно отобедать в любимое кафе. Ещё по дороге к шоссе Михаил Анатольевич решил набросать несколько тезисов для серьёзного разговора, который он устроит сегодня вечером своим «ненаглядным» девочкам – жене и дочери.
Возбуждённый своими идеями, подполковник совершенно безотчётно принялся прибирался на кухне. Со стола в холодильник он запихивал всё подряд, включая бутылку с коньяком, хрустальный бокал и даже сахарницу. Посмотревшись на себя в большое зеркало, что находилось в прихожей, он остался собой очень довольным, закрыл дверь, как полагается, на ключ и важно спустился по лестнице. Михаил Анатольевич даже не боялся уже встретиться на первом этаже с этим обречённым на длительную «отсидку» соседом, потому что настроил себя на правильный лад: если увидит этого подлеца, то с молчаливым достоинством пройдёт мимо, даже не отреагировав не его «гавканье». Но, к счастью, или к несчастью, никто не вышел на его скрипучий уход, и в подъезде после его шагов восстановилась привычная сиротливая тишина.
Очутившись за входной дверью, Жмыхов лишь на секунду зашёлся духом от невероятной среды, встряхнулся всем телом и совершил с десяток шагов вправо, не отрывая руку от стены дома. Когда он прошёл под зиновьевскими окнами, и рука его соскользнула с твёрдой шершавой поверхности в пустоту (поскольку дом закончился), ему невольно пришлось взять небольшую паузу, чтобы настроить себя на дальнейшее движение уже без опоры. Похлопав ладонью по углу дома, словно прощаясь с ним надолго, Михаил Анатольевич мысленно прочертил путь к трассе, потом, как ныряльщик перед погружением, надышался воздуха и двинулся в непроглядное белое месиво.
Внутреннее возбуждение, которое Жмыхов в себе искусственно взрастил для уверенности, начинало угасать, и подполковник решил подогреть свой настрой песенкой про берёзы. Но петь песню с закрытыми глазами и, тем более, не от души, а ради того, чтобы она просто звучала неизвестно для кого, оказалось занятием жутковатым, и Михаил Анатольевич непроизвольно убавил свой вокал. А вскоре напутанные слова про печальные берёзки и вовсе превратились в тревожное мычание, когда он обратил внимание, что под ногами вместо глинистого грунта была сухая трава, и довольно-таки высокая – по голень.
Жмыхов присел на корточки, схватился рукой за пучок травы и, осторожно отгоняя от себя панику, пытался размышлять разумно. «Так, так, так. Значит, отклонился. Вправо или влево? Слева у нас лес, а справа какая-то разруха. То есть: или я напорюсь на дерево или на кусок бетона. Ну, и всё тогда станет ясненько», – подбодрил он себя, но в душе его всё равно продолжал скапливаться угнетающий испуг.
Поднявшись, но, не разогнувшись в поясе, он сделал в таком неудобном положении несколько шажочков вправо, и остановился, осенённый новой мыслью, которую даже высказал вслух:
– Нет, нет. Там точно руины, и я в них сейчас только углубляюсь. Лес начинается почти от самой дороги. Он за спиной.
Михаил Анатольевич выпрямился, развернулся чётко на сто восемьдесят градусов и направился прямо, как он считал, к лесу, вглядываясь себе под ноги в скорой надежде наткнуться на грунтовую дорогу.
Но вскоре шаги его совсем измельчились, всё тело стало вялым и, понимая, что он ничего уже не понимает, Жмыхов остановился. Он прошёл приличное расстояние, а его ботинки по-прежнему, вместе с туманом, укрывала жёсткая сухая трава. Подполковник обречённо посмотрел на свой живот, выпирающий из расстёгнутого кителя, потом повёл глазами по сторонам, и белая пустота как будто внушила ему, что он теперь навсегда останется незрячим. От такого кошмарного наваждения Жмыхов даже затрясся и судорожно опять посмотрел на свой живот, ощупывая его руками, как некую драгоценность, которую пока ещё возможно было рассмотреть и потрогать.
– Тело на месте, а значит и сила в нём должна пребывать, – выдал Михаил Анатольевич неожиданно пришедшее к нему заключение, поднял руки к затылку, задрал голову и зачем-то стал искать в непроглядной белизне признаки, указывающие на расположение солнца. Он топтался на месте и, вроде бы, даже разглядел вверху выделяющееся свечение, которое вполне могло быть светилом, но не успел он порадоваться своему предположению, поскольку именно в этот момент, внутри Михаила Анатольевича всё похолодело. Он словно почувствовал, как где-то порвалась какая-то цепь, распахнулась невидимая дверь, и через неё ворвался злобный страх, который впился в него мёртвой хваткой. К своему ужасу, Жмыхов понял, что своим бестолковым поиском солнца, он напрочь сбил в себе и без того слабо определённое местоположение. Теперь он даже не предполагал, в какой стороне проходила трасса, а в какой был дом.
На апогее сильного страха рождается отчаяние, а если хорошенько присмотреться к этому отчаянию, то можно разглядеть и надежду. Не обошла такая маленькая надежда стороной и Михаила Анатольевича. Ощупав подушечками пальцев холодную испарину, выступившую на лбу, он нервной трусцой побежал в произвольном направлении, мечтая на ходу натолкнуться хоть на какой-нибудь предмет. Пусть это будет ствол дерева, остаток кирпичного фундамента или гнилой штакетник; для Жмыхова сейчас это не имело никакой разницы. Он бы посидел возле этого материального предмета, успокоился, вспомнил его и сориентировался бы потом, в какую сторону идти.
Просящему, как говорится, – подают. Хотя, существует поговорка с совершенно противоположным смыслом. Порой хочется думать, что эти доставшиеся нам старинные поговорки – это всего лишь выдержки из какого-то большого общего закона бытия, схожего с какими-нибудь религиями, но противоречивого, как и сама жизнь.
Но вот, мы и подошли, дорогой читатель, к той границе рассказа, за которой я буду описывать уже события, в которых общеизвестные законы (как бы от греха подальше), отходят в сторону. Иней на окне Маргариты Потёмкиной, растаявший в розовую лужицу, чёрные трусы с надписью, превратившиеся потом в ворона, – это только робкие вестники той мистики, которая будет управлять этой округой ближайшие несколько суток. Это моё небольшое отступление можно отнести к вежливому предупреждению и извинению, поскольку дальше, возможно, мне не удастся щепетильно и подробно задерживаться на каких-то мелочах и деталях из-за невероятности происходящего. Заранее порошу прощение, если некоторые эпизоды вам покажутся сумбурными в моём изложении, но такова их динамика. А теперь прошу вас вернуться к «незрячему», несчастному и до смерти напуганному Михаилу Анатольевичу.
Его нервная, отчаянная и слепая пробежка внезапно прервалась. Одновременно с коротким звонким хлопком треснувшего стекла, Жмыхов ощутил болезненный удар в правое колено и, естественно, потеряв равновесие, он упал грудью и лицом на какую-то гладкую холодную поверхность. Сползая вниз по этой белой, сливающейся с туманом, немного покатой поверхности, он успел обрадоваться, поскольку узнал капот своей служебной машины. Сидя на земле, Михаил Анатольевич с удушливым восторгом рассматривал и гладил пальцами серебристую эмблему автомобиля, решётку, бампер и разбитую им фару. Боль в колене была незаметной и попросту растворялась в расцветающем новорождённом сознании Михаила Анатольевича. Из мрачной каши, в которую превратился за последние минуты его разум, словно весенними первоцветами пробивались ростки наивных и даже глуповатых от радости мыслей.
– Серёженька, как же я мог забыть, что всё-таки договорился с тобой о встрече на нашем условленном месте, – произносил подполковник их вслух. – Как же здорово, дорогой ты мой, что ты сумел в таком кошмаре доехать до меня. Дождался. Как знал, как знал. Ну, молодец. Фару мы заменим, …да, не только фару, мы всё, что надо, в нашей машинке поменяем. Скорей, скорей, надо выбираться отсюда Серёженька, – приговаривал Жмыхов, с трудом поднимаясь на ноги, но вдруг услышал противный хруст и почувствовал, что давит подошвами ботинок что-то мелкое и хрупкое. Наклонившись, он осторожно коснулся земли, и в ладонь врезалось множество колючек. Михаил Анатольевич боязливо зачерпнул рукой горсточку этого хрустящего «чего-то» и поднёс к лицу, чтобы рассмотреть. Это оказались маленькие морские ракушки. Но откуда здесь появились эти белые и рыжие лепесточки с мелкими волнистыми рифлёными узорчиками? Такой вопрос сформировался в голове у Жмыхова, но тут же ему показалось, что эти ракушки он уже когда-то видел, и это было очень давно. Он мучительно напряг свою память, и перед глазами представилась картинка, на которой эти ракушки лежат, разложенные на газете. Потом он увидел эту коллекцию, уже уложенную в небольшую картонную коробку, и вспомнил, что в далёком детстве он сам насобирал эти ракушки на берегу моря. Это была его первая и последняя поездка на Черноморское побережье вместе с родителями, но ни города, ни год посещения этого курорта, Михаил Анатольевич вспомнить не смог. В последствии он множество раз отдыхал в компании друзей, с детьми и женой, и не только на морях, но и на океанском побережье, а вот с родителями больше никогда никуда не выезжал.


