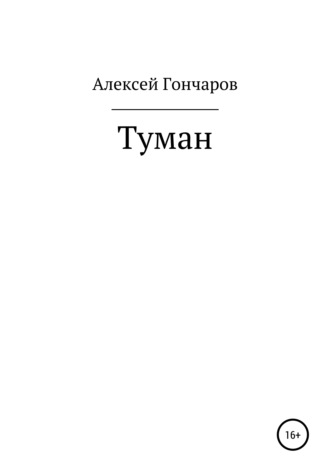
Алексей Александрович Гончаров
Туман
– Права ты Пашенька, – согласилась Светлана Александровна, забирая мешок с бочонками у сына, – совсем в коммерцию религию превращают. Не удивлюсь, если скоро попы по электричкам пойдут людей за деньги исповедовать. …Или какие они там службы проводят ради прихода? Страху бы на них небесного напустить вроде такого, в котором мы оказались. Разбираем карточки, – тут же пригласила она всех, как бы, между прочим.
– То попы, как ты и говоришь, а есть и хорошие служители, – поддержала и возразила ей баба Паня, а потом, отобрав себе карточки, деловито посоветовала: – Твоего бы Максимку окрестить надо.
– Вроде как крещёный, – с улыбкой отозвалась Зиновьева, залезая рукой в мешок, – даже свидетельство где-то есть. О! Стража с острова Гвидона, или возраст моего сына, кстати. Кому как нравится.
– Тьфу ты, – от неожиданного перехода растерялась баба Паня. – Так вот он от кого таких дуростей нахватался.
– Тридцать три, баб Пань, – откорректировал ребус Зиновьевой Валентин.
– Да, знаю я, – махнула старушка небрежно рукой в его сторону и предупредила: – Всё равно я вас «сделаю», как не кривляйтесь тут своими загадками.
– Как раз, наоборот. Это Макс меня приучил к таким занятным ассоциациям с цифрами, – поправила её Светлана Александровна. – Во-первых: – это дополнительная гимнастика для мозгов, а потом и игра увлекательней становится. Олимпиада в Москве, – вставила она, что касается игры, и добавила по предыдущей теме: – А вот я как раз не крещённая. В войну сирот такими обрядами не баловали, да и после не до того было. Попугайчики на удаве.
– Валь, переводи, – капризно попросила баба Паня, и Мила уже заливалась звонким смехом, глядя на расстроенную пожилую соседку, а та продолжала жаловаться: – Кого, там, в олимпиаду не крестили? Попугаи какие-то. Совсем меня с ума сводят эти двое, – указала она рукой на мать с сыном.
– Восемьдесят и тридцать восемь, – отчеканил Егоров, с не сдержанной улыбкой на лице.
В разговор вступил Максим:
– Какая разница: крещёный, венчанный или отпетый? Разве это звание, или незримое, но кем-то опознаваемое клеймо на душе? Мы все прекрасно знаем, что какие деньги, – такой по пышности и обряд, …но больше ничего. Желаемое будущее ни на одном алтаре не оплатить. Вон, я заметил, на жирной грудине Жмыхова тоже крестик болтается, но что он полезного для хозяина сделал? Даже кожу не прожёг, – едко подытожил Макс.
– Ну, жечь кожу…, – это хлеб и соль голливудской фантазии, а по нашим понятиям, этот маленький крестик не достал ещё до его внутренностей, – пояснила Светлана Александровна и «выкрикнула»: – Наш Юрка на орбите! – а потом тише добавила: – С такой шкурой не всякий крестик и справится.
– Шестьдесят один, – видя определённое замешательство в глазах бабы Пани, со смешком перевёл Валентин.
Старушка быстренько сообразила, как можно этой цифрой немного приструнить Зиновьеву, и обиженным вызовом она заявила:
– Ты давай точнее, Светка, подбирай свои коврижки, а то я уже двенадцатое апреля закрывать хотела.
– Оставляй, оставляй, как раз твоя дюжина ко мне в руку и попалась, – с небольшим удивлением от совпадения сообщила Зиновьева и прибавила: – Холодное лето было в этом году, даже фильм про него сняли.
Баба Паня, вытянув в сторону руку, остановила наметившуюся подсказку от Валентина, а другой рукой закрыла монеткой цифру пятьдесят три и сказала: – Ох, как я люблю Тольку Папанова в этом фильме. Вот такой он светлый там, что я поклоняться ему готова.
– Гениальные актёры всегда так воздействуют на сентиментальные умы и души, но после того, что с нами случилась, впору хоть ещё одну религию писать, – заметил Максим, размышляющий всё ещё на церковную тему. – Правда мне почему-то кажется, что наш туманный гость не потерпит от нас никаких записей, если мы и решимся помарать бумагу. Уж как-нибудь найдёт способ всё уничтожить. Он, по всей видимости, не любит оставлять за собой следы, – сказал он и, на всякий случай, глянул в коридор, где, словно в насмешку над его словами, у стены стояло копьё с золотым наконечником.
– Программа «Время» в это время, – каламбуром сообщила Светлана Александровна.
– Как они так быстро придумывают? – со сдержанным восхищением поинтересовалась Мила, наклонившись к Валентину. – Я от удивления не успеваю соображать, – шепнула она ему на ухо и закрыла цифру девять.
Валентин с сочувствующей улыбкой взглянул на неё, молча поднял монетку с её карты и положил на свою, закрывая цифру двадцать один.
– Теперь нам придётся привыкать к этой их виртуозности, – также шепнул он ей на ухо.
– Ну, пусть будет…, – три четверти века. Ничего на ум больше не приходит, – с тяжёлым вздохом провозгласила Зиновьева и обратилась к сыну: – Любая религия в итоге подтверждена рукотворными материалами, а значит, не без участия человека она создавалось. Она основана на конкретных персонажах и реальных событиях, плюс немного здравого смысла или …здравого вымысла. Так что, можешь дерзнуть. Почему бы и нет. …Валина квартира. Никому не надо? – Ненавязчиво спросила она и игриво покосилась на Милу.
Та постаралась сделать вид, будто ничего такого особенного в данном вопросе не прозвучало, а только изобразила указательным пальцем в воздухе нехитрый точечный подсчёт и воскликнула:
– Шестнадцать! – хлопнула в ладоши один раз и повторила с ещё большей радостью: – У меня…! У меня – шестнадцать!
– Как только начну что-нибудь записывать, вот увидишь, он тут же вернётся, и вырвет мне руки за эту писанину, …или зрения лишит, – выдал жуткое предположение Максим, продолжая размышлять о тумане и религии. – Я почему-то уверен, что ему популярность совсем не нужна. Это я так, можно сказать, уважением проникся к туману, вот и пошутил насчёт новой библии. Хотя, безусловно, основания для этого есть. Ведь всё божественное основано на чуде, а он этим добром нас просто засыпал. Но только чудеса его…, хоть и масштабные, но какие-то несерьёзные, …плутовством отдают, что ли. Как будто и в самом деле мятежный древний дух нас посетил и развлёк театральной постановкой.
Валентин успел задуматься над высказыванием Максима. Схожие предположения и мысли о тумане были и у него, но после недавней встречи с многоликой незнакомкой его думы несколько стали отличаться от прежних размышлений. Правда, Егорову ещё предстояло разобраться, в чем именно заключалось это различие, но кое-какие возражения Максиму у него уже появились, и он даже собрался кое-что сказать, но вдруг услышал торжественное восклицание от Светланы Александровны:
– Мир, труд, май! И помещение, в котором мы находимся.
– Один что ли? – задумалась вслух баба Паня, а Валентин всё же высказался:
– Любая религия – это, по сути, огромная легенда, а нам подарили лишь некоторые цитаты из сказки. Я так понимаю, что каждому из нас преподнесли только личные фрагменты, и нам самим хорошо бы в них разобраться, а не помышлять о каком-то писании и не пудрить никому мозги. Конечно, нас не просили держать все эти события в тайне, но, по-моему, это и так очевидно, тем более, в наших же интересах есть что скрывать.
– Валя, ты уж слишком сурово отнёсся к нашей незатейливой дискуссии, – заметила ему Светлана Александровна и довела до всех: – Колода карт для покера.
– Совсем обалдела, что ли?! – взбунтовалась баба Паня. – Какие карты?
– Пятьдесят четыре, – разъяснил ей Валентин, а заодно и растерявшейся в этой непростой загадке Миле.
– Откуда, Светка, ты только таких гадостей набралась? Вроде никаких притонов не устраивала, – уже без возмущения, но с укоризной допытывалась баба Паня. – Или в этих… казино, когда бывала?
– В кино видела, – коротко отчиталась Зиновьева и, достав очередной бочонок, сказала: – Как раз о фильмах. Те-ге-ран…, – произнесла она по слогам и выжидающе поглядывала на игроков.
– Со-рок три, – продолжил в её же стиле Валентин Егоров.
– Валя! – возмущённо, но не грубо одёрнула его Светлана Александровна. – Ты у наших дамочек теневым тренером устроился? – укоризненно спросила она и предупредила: – Следующим «кричишь» ты.
– А ты сейчас не кричи на него, – вмешалась баба Паня. – Хорошо хоть кто-то разбирается в твоей ереси.
– А вы не находите, что всё произошедшее с нами за эти дни, напоминает некую художественную лепку из глины, – всё ещё размышлял вслух Максим на беспокоящую его тему, оглядывая поочерёдно каждого сидящего за столом. – Нет, я хочу сказать, что я доволен этим. Слепили очень отлично, ничего лишнего. У меня даже теперь такое приятное ощущение появилось, что моя семья значительно увеличилась в размерах.
– Надеюсь, что в скором будущем она наконец-то станет ещё больше, – далеко не прозрачным намёком его дополнила мать и, протягивая бочонок сыну, сказала: – На-ка вот, держи. Три пуда тебе в помощь.
– А я решила ещё пожить, – вздыхая, поведала баба Паня и, бегая глазами по своим карточкам, пояснила своё заявление: – Ванечка наказал. Да, и Максимка прав: компания хорошая подобралась. Три пуда, …три пуда, это у нас три по двенадцать или по шестнадцать будет? Всегда путалась.
– Ай, не парься, Паша. Сорок восемь, – небрежно напомнила ей Зиновьева, а Валентин чуть привстал со стула, чтобы взглянуть на бочонок, который она передала сыну, и возразил:
– Тогда ошибочка выходит. Если быть точным, то в одном пуде шестнадцать килограмм триста восемьдесят грамм. Увы, но сорок девять получается, Светлана Александровна.
Зиновьева посмотрела на него, вначале нахмурившись, потом на лице её появилось наигранное изумление, и она пропела:
– Ах, Валя, Валя, Валентин. Вот даже не по носу ты меня сейчас щёлкнул, а, словно мокрой тряпкой по уху залепил, – призналась она, таким образом, в своей некомпетентности и произнесла с гордостью: – Панфиловцы – мои любимцы!
– Так чё закрывать-то? Сорок восемь или сорок девять? – возмущалась баба Паня.
– А-а, что есть, то и закрывай. Считай это бонусом от твоего умного соседа сверху, – махнула на неё рукой Зиновьева.
– А сколько этих панфиловцев было? – тихонько спросила Мила у Валентина. – К своему стыду, я совсем не помню.
– Двадцать восемь, – ответил он в полголоса и добавил: – Это по легенде, но времена меняются и сейчас нам подсовывают другие данные.
– Им бы «тешек» тогда в подмогу, – потрясла перед собой, держа в пальцах, следующий бочонок Светлана Александровна, на секунду задумалась и бесхитростно объявила с каким-то лёгким сожалением: – В общем…, наш легендарный танк.
– Владимирович, мы совсем забыли про ром! – неожиданно вспомнил Максим, и уже было хотел идти за ним в комнату, но мать его остановила:
– Сначала поиграем, а потом оприходуем твою заморскую бутылку. А пока, вон, – указала она глазами на фишку в своей руке, – ужасный портвейн вам всем предлагаю, но, правда, без одной цифры.
Баба Паня сладко облизнулась и обвела всех присутствующих хитрющим самодовольным взглядом.
– Паша! Паша! – поторопилась остановить её непонятное веселье Зиновьева. – Что это за вульгарная страсть к дешёвому алкоголю?!
– Дурная ты, Светка, – причмокивая губами, высказалась баба Паня с нескрываемым удовольствием и с наслаждением призналась: – Я опять у вас выиграла. Низ закрыт.
Мила радостно и удивлённо хмыкнула, а Светлане Александровне оставалось только приподнять брови, выражая таким образом лёгкое разочарование и возмущённое недоумение.
Потом, как и обещала Зиновьева, ассоциации с цифрами оглашал Валентин Егоров. И надо заметить, что получалось у него это не дурно; может быть, он чуть увлекался техническими примерами, чем заводил всех в тупик (особенно негодовала опять всё та же баба Паня), но «кричал» Валентин быстро, особо не раздумывая.
У Милы Алексеевны вести игру совсем не получилось. Глядя на цифру, ей вспоминалось только что-то личное: на ум приходили какие-то даты, связанные с событиями из её жизни, да номера палат, в которых когда-то лежали примечательные пациенты. Светлана Александровна лаконично, без единого слова, отобрала у неё мешок с бочонками и пододвинула его к бабе Пане, но та категорически отказалась «банковать», замахала руками и даже отвернулась от Зиновьевой в знак протеста. Так что, ещё два с половиной кона, поочерёдно, «ведущими» были хозяева квартиры – мать с сыном.
– А вот теперь, тащи свою ямайскую валерьянку, будем заливать обиду, – разрешила Максиму расстроенная мать, отодвигая от себя мешок с бочонками. – Это же надо…. Шесть раз подряд выиграть! Это тебе, Пашенька, по казино гастролировать надо.
Максим пошёл за заначкой, которой наступило самое время расплескаться по своему прямому назначению. Светлана Александровна собрала со стола карточки и монеты, Валентин расставил рюмочки, а Мила нарезала и разложила на тарелку остатки сыра.
– Валь, там осталось четыре сосиски, отвари их себе с Максом. И без всяких джентльменских возражений и глупостей. Мы с девушками, сегодня на диете, – распорядилась Зиновьева и с интригующей улыбкой посмотрела на соседок.
Ром был разлит по рюмкам, и Максим, не присаживаясь, произнёс:
– Я пью за эти три вечера, которые вынудили нас прижиматься друг к другу, и за все остальные вечера, чтобы они были такими же тесными. Вы можете улыбаться над этой моей сентиментальностью, но мне, правда, чертовски приятно сейчас рядом с вами находиться. А теперь скажу, вообще, что-то запутанное, – и он поднял рюмку чуть выше. – Владимирович говорит, что надо ещё размышлять и разбираться в этих обуявших нас событиях, и он прав. Но я уже понял одну вещь: всё необъяснимое, что творилось с нами в эти три дня, было для того, чтобы вполне объяснимым стало то, что происходит сейчас здесь в этой маленькой кухоньке. И пусть эта ясность останется с нами навсегда.
– Пафос, но вполне приличный, – поддержала сына Светлана Александровна, и первая поднесла рюмку к губам.
Глотки обжигающего заморского напитка были всеми сделаны, рюмки встали обратно на стол, а к тарелке с сыром потянулись руки и растащили все кусочки.
– Очень странно, – заговорила Мила, продолжая после рома сглатывать воздух, и периодически прикрывала ладонью рот, словно подталкивая внутрь крепкий ром, – а ведь никто из нас не сомневается, что завтра всё закончится. Почему так? Почему мы не допускаем какого-нибудь подвоха?
– Вы, верно, подметили, тёть Мил, – откликнулся Максим, принимая у Валентина тарелку с дымящимися сосисками. – Я услышал эту новость, сообщил её вам, а вы безоговорочно впитали эту информацию, будто указ об амнистии из уст самого главы государства. Попробуй усомниться в словах президента. А разве нам не показали власть и могущество в разы большее? Тут любой президент, хоть российский, хоть американский себя букашкой почувствует. О каком сомнении можно говорить. Лично мне туман выдал такое…, что сомневаться в его обещании, с моей стороны было бы не просто невежеством, а каким-то паразитическим хамством. Когда приведу свои мысли в порядок, я вам расскажу, какое представление мне разыграли со временем. Так что, мои дорогие, расслабьтесь и грустите, …или радуйтесь, – это кому, как угодно. Завтра перед нашими глазками предстанет обыкновенная золотая осень.
– А мне хочется поделиться с вами другим наблюдением, но по той же теме, – вроде и увлечённо заговорила Светлана Александровна, но задумчиво глядела на пустую тарелку из-под сыра. – Чудеса, чудеса. Когда они заканчиваются, и проходит какое-то время, кто-то начинает добавлять в них ещё большее волшебство, либо, наоборот, у кого-то впечатления утихают и появляются сомнения: а было ли на самом деле, что-то необычное? Молодым свойственно и то и другое, но когда чудо преподносится в конце жизни, то такие понятия: «верю», «не верю», они становятся какими-то неуместными и порой раздражительными. О себе я распыляться не буду; у Пашеньки куда как ярче пример. Она ни секунды не сомневалась и теперь не сомневается, что в реальности встречалась со своим Ванькой (бабуля одобрительно нахмурилась при её словах и закивала головой). Да, судьба ей, в отличие от моей, ох, какая горькая досталась, но мы с ней, почти ровесницы, …прожили жизнь и усвоили одну важную вещь. Не верить на этой земле допустимо только одному существу – это человеку. А всё остальное: что дышит, плавает, летает, ползает, зацветает или просто дрожит на ветру, – …лгать не умеет. Хитрить – да, но лгать – никогда.
В наступившей тишине Светлана Александровна с каким-то изяществом провела рукой над столом, призывая сына повторить процедуру наполнения рюмок. И Максиму не требовалось других намёков, он с серьёзным лицом принялся выполнять почётную миссию.
– Но…, я как-то не совсем с этим согласна, – с робким оттенком в голосе, возразила Мила и, в поисках поддержки, бросила взгляд на Валентина. – Не всех же под одну гребёнку…. Есть много порядочных людей, которым всецело можно доверять.
– Ах, Мила. Я не про порядочность, а про сущность говорю, – с плаксивой усталостью разъясняла Зиновьева. – Разумеется, ни о какой гребёнке и думать нельзя, когда речь идёт о моём сыне или о вас, мои родные. Но и мы ничтожно слабы во власти матушки-природы и её Создателя. Я позволяю себе давать советы Максу, …иногда и вам. И что вы думаете…? Порой, я потом сама же в них и сомневаюсь. А если что-то не складывается как надо? Конечно, советы с трудом можно отнести к разряду вранья, но какой-то нечаянный обман всё равно в них присутствует, когда, следуя совету, результат в итоге, извините, не тот. Я хочу сказать, что копаться в себе можно сколько угодно, и кроме слабости мы ничего не найдём, пока не задерём головы вверх, и не почувствуем бесконечный свет, …тепло, пространство и безудержное желание верить, словно только для этого ты и создан.
Наступила небольшая задумчивая пауза. Вроде все и притронулись к наполненным рюмкам, кто пальцами, кто ладонью, но оторвать рюмку от стола никто не решался, словно каждый ждал от Светланы Александровны ещё каких-нибудь слов, но она печально смотрела на скатерть перед собой. Наконец Валентин Владимирович коротким хрипением размял горло и заговорил с необычайной лёгкостью, будто на радость всем и себе вспомнил забавный сюжет:
– Возможно, у вас тоже так бывает, что один и тот же сон повторяется несколько раз. В сознании он уже поселился настолько, что живёт там, словно настольная книга; всякую деталь можно достать из него в любой момент. Я точно сказать не могу, но мне кажется, что мой такой сон посещает меня регулярно ещё с детства. Стою я, значит, такой крохотный, как муравей, на бесцветной голой плоскости, и поначалу очень напряженный такой и всего боюсь. Боюсь, вдруг какая птица с мощными когтями и острым клювом налетит на меня, или зверюга голодный и страшный с какой-нибудь стороны подкрадётся и сцапает меня. Но потом устаю всего пугаться, распрямляюсь, насколько могу, чуть ли не подпрыгиваю, смотрю вверх и громко взываю: – «Вот он я! Я здесь! Я живу и всё чувствую! Посмотрите на меня!». И, через какое-то время, ощущаю на себе чьё-то огромное внимание. Нет, не взгляд, а словно что-то большое приблизилось ко мне сверху, …как будто меня укрыли отцовской шинелью, а перед этим напоили парным молоком и накормили сладкой булкой. Я пребываю в нескончаемой радости оттого, что меня заметили и уделили такое внимание. Потом кто-то поднимает меня высоко-высоко вверх, голова у меня кружится, как на карусели, и вдруг всё замирает, а этот огромный кто-то и говорит: «Вон ты, посмотри. И чего так громко кричал? Видишь, как тебя хорошо видно. Чего бояться?». Я смотрю вниз и вижу на белой площадке маленькую точку, …захлёбываясь от восторга, потому что понимаю, что это я. Потом устремляюсь вниз, чтобы как-то воссоединится; а то, я там и я здесь… – это как-то неуютно. Когда снова становлюсь собой маленьким, поднимаю голову, смеюсь и уже знаю, что я под надёжным присмотром и никакие звери меня не посмеют сожрать.
Растроганная таким чувственным повествованием сна Мила не сдержалась и под столом коснулась своими пальчиками рукава его вельветового пиджака, да, так и оставила свою ладонь не запястье Валентина. Зиновьева заметила это проявление нежности, заулыбалась и от удовольствия закрыла глаза. Баба Паня вздыхала на потолок, задумавшись, наверное, о своих снах, а Максим решился разбавить полёты Егорова во сне натуральной иронией:
– Владимирович, это говорит о том, что в тебе заложен потенциал космонавта. Вот мать тебя в актёры пророчит, а я тебе заявляю, что твоё место в звёздном городке.
– Это значит, что любая душа находится в поисках и нуждается в защите, – не открывая глаз, сказала Светлана Александровна.
– А мне один пациент рассказывал, когда вышел из комы, что видел большие разноцветные круги, которые вращались вокруг него по спирали и уходили вверх, – торопливо делилась случаем из своей медицинской практики Мила. – Ему, вроде как, даже предоставляли возможность выбрать любой из этих кругов, чтобы поселиться в нём….
– И судя по всему, он так и не выбрал, а предпочёл вернуться в палату, – вставил реплику, находящийся в приподнятом настроении, Максим.
– Он говорил, что всё происходило где-то очень далеко, – продолжала Мила с воодушевлением и волнением, словно только вот-вот услышала признания от этого больного и теперь впервые делилась этими знаниями со всеми. – Он рассказывал странные вещи, что времени там вообще нет, что его придумали только здесь на земле для удобства, потому что человек не в состоянии многого понять. Он говорил, что круги вращались медленно, потом ускорялись, затем опять чуть ли не останавливались, но он просто не решился сделать выбор, …посчитал, что ему нечем расплатиться за такое великодушие. А ведь он пролежал так без сознания больше суток. Представляете, человек находится в коме и анализирует, чего он достоин, а чего нет.
– Это обыкновенная человеческая совесть, дорогая моя, – поучительно сказала Светлана Александровна. – Если она есть, то куда же без неё полетишь? В моём понимании, совесть – это неотъемлемая составляющая души – её корректор. И, возможно, во снах она лучше проявляется, чем в реальности.
– Интересно, а мой Ванечка теперь что же…? Перестанет мне сниться? – беспокойно выдала свои мысли баба Паня, чуть ли не со слезами на глазах и, прижав ко рту пальцы, тревожно шепнула: – Раз уж я с ним встретилась наяву.
– Не волнуйся, Пашенька. В такую несправедливость даже я поверить не могу, – потянулась к ней Светлана Александровна и успокоительно потрепала свою пожилую соседку по плечу, а потом обратилась к сыну: – Максим, твой пиратский напиток так и будет выдыхаться в наших рюмках? А-ну, говори, за что пьём на сей раз.
– За туман, – произнёс он, не раздумывая с небрежным недоумением на лице, и прибавил уже охотно: – За встречу сна и реальности. За этакую смесь, которая теперь не оставит нас в покое. Ну, и за милые страдания наших душ по этому поводу.
За окошком стемнело, и неизвестно кто и когда включил на кухне свет. А может быть, он и вовсе оставался гореть со вчерашнего дня, но этот факт уже никого не интересовал. На сковороде скворчала картошка, которую Максим ворошил деревянной лопаткой без всякого энтузиазма, потому что в другой руке он держал книгу, в которую с интересом вчитывался. За столом Светлана Александровна учила бабу Паню раскладывать пасьянс, и в бутылке осталось ещё немного рома, да и перед «гадальщицами» стояли две рюмки только наполовину опустевшие.
А Валентин с Милой вышли прогуляться во двор, который оттаивал от белого сумрака. Приличная площадь земли уже чернела внизу, и от этого вечер казался значительно темнее двух предыдущих необычных вечеров. Серый фасад почти полностью очистился от дымки, и лишь за вторым подъездом густилась пелена, скрывающая угол дома, отчего легко представлялось, как это двухэтажное строение могло продолжаться ещё дальше и иметь несчитанное количество подъездов и окон.
Туман, действительно, как будто отступал от дома, и по сравнению с теми просветами, что были ещё днём, сейчас даже в темноте было заметно, что он освободил от себя приличную территорию. Но отступал туман не по какой-нибудь границе, а фрагментами. К примеру, справа, за бельевыми верёвками, клубился густой, казалось чем-то дополнительно насыщенный, большой ком светло-серого облака, а слева наоборот, словно после мощного дуновения ветра образовалась тёмная просека, тянущаяся чуть ли не до самого леса. В свете подъездных фонарей беседка чётким чёрным скелетом торчала посреди двора, но не отпугивала своим чахлым видом стоящую на пороге любви пару, а вызывала у Валентина, и у Милы почти одинаковые чувства, схожие с сожалением и сочувствием. Они смотрели на неё как на некий обугленный символ их прошлой жизни.
– Ой, смотри. А у Маргариты свет горит, – обратила внимание Мила.
– Это я его вчера ночью включил, – сознался Валентин и продолжил говорить об этом: – Представляешь, мне показалось, что квартира скучает по ней и не понимает, куда делась её хозяйка. Я замечал за собой, что иногда к неодушевлённым вещам и предметам отношусь намного сентиментальнее, чем к людям. Скажи мне как доктор: это нормально?
– Ну, во-первых, я не доктор, а всего лишь старшая медсестра, – отвечала она немного кокетливо, – а во-вторых…, скажу тебе, как женщина: это говорит о том, что ты очень чуткий.
Валентин быстро загасил в себе неприятные воспоминания, связанные с его «чуткостью» в последние годы брака с Татьяной, и сказал:
– Раньше я таким не был, это жизнь бобыля внесла такие поправки. И я не знаю, нормально это или нет, когда взрослый мужик ходит по чужой опустевшей квартире и включает в комнате и на кухне свет, чтобы эти помещения хотя бы в первое время немного согрелись, пока начнут привыкать к полному безлюдью. Я даже готов, если поднимется какая-нибудь буча по поводу освещения, оплатить электроэнергию. И вот мы опять подошли к особенности моего психического недуга; я готов тратиться не ради погибшей женщины, …ей я уже никак помочь не могу, а ради помещения, которому я сочувствую.
– С тобой всё в порядке, – успокаивала его Мила, – и даже скажу больше: ты совершаешь маленькое волшебство. Я хоть работаю в больнице, и смертей повидала не мало, а всё равно не могу привыкнуть…. Вот смотрю на застеленную уже свежим бельём койку, на которой несколько часов назад умер человек и боюсь к ней подойти, не говоря уже о квартире, в которой лежал покойник. А ты сейчас рассказал о своём отношении к Маргаритиной квартире, и у меня не то, что страх пропал, а даже появилось желание подняться в неё.
– Потом как-нибудь, мы обязательно её навестим, – пообещал Валентин и прибавил: – Но только не сейчас. Для этого нужен определённый настрой. Пусть я покажусь тебе слишком суеверным типом, но я верю, что стены и предметы хранят память, и мы должны быть уважительно готовы, чтобы прикасаться к ним. Ведь, по сути, мы придаём им чуточку новой информации.
– Я понимаю, поэтому и не прошу тебя идти туда прямо сейчас, – согласилась она и предложила: – Пойдём просто, немного прогуляемся возле дома, а то стоять под окнами немного неуютно.
Они свернули за угол к тому месту, где на земле остались лежать, отслужившие свою службу, провода с верёвками, и где ещё днём Валентин с затёкшими ногами дожидался своего молодого друга. Электрический свет сюда не проникал, он лишь бледной шторкой выглядывал из-за угла дома, но зато вверху, в виде долгожданного чуда присутствовало другое освещение, которое, впрочем, и светом можно назвать, разве что, душевным. Размытым миндальным пятнышком сквозь пушистую туманную завесу проглядывал ореол луны.
– Посмотри, прямо, как у Пушкина: «Сквозь волнистые туманы пробирается луна…», – процитировал Валентин гения, не отводя глаз от мыльного невнятного развода.
– Уверена, что эту картинку Александр Сергеевич описал бы как-нибудь по-другому, если она, вообще бы, его заинтересовала, – немного обижено возразила Мила и пояснила, почему она не поддержала скромное ликование своего спутника: – Понимаешь, Валь, мне сейчас вспомнилось моё первое свидание с парнем. Это было в десятом классе, и тогда мы тоже укрылись в какой-то подворотне, но тогда луна над нами была просто огромная. Мы ничего друг другу не говорили, а просто целовались, и я периодически открывала глаза, а передо мной был этот волшебный диск, который, почему-то с сочувствием смотрел на меня; как будто жалел и не хотел поддерживать моего тайного девичьего счастья. Я тогда здорово обиделась на луну.
Мила замолчала, а Валентин выдержал паузу и задал вопрос:
– Прости за банальность, а с парнем потом как вышло?
Она посмотрела ему в глаза, рассмеялась и, в свою очередь сама спросила:
– Уж не ревность ли это, направленная на мою беспечную юность? – рассмеялась опять, а потом с грустью сказала: – Ничего особенного…, та же самая банальность. Больше у нас свиданий не было. Оказалось, что он как бы коллекционировал эти полуночные поцелуи; что-то вроде хвастовства перед друзьями.
– Никогда не понимал такую спортивную похоть, – отозвался Валентин в виде некой поддержки к Миле. – Но, даже похотью это назвать нельзя, потому что это понятие подразумевает хоть какую-то страсть. А вот так…, на счёт, …записал себе какое-то действие и засунул бумажку в карман…. Это же своеобразный документ бездушия, с которым смело можно отправляться в компанию к чертям.
Мила снова засмеялась, и так неудержимо, что Валентин невольно обхватил её за плечи и прижал к себе. Она немного успокоилась на его груди и сказала:
– Прав туман. Ты даже негодуешь мило, как мальчишка, хотя и с увлекательной взрослой рассудительностью.
– Значит, он тебе на меня уже что-то насплетничал, – изобразив суровость, заметил Валентин.
Мила чуть отстранилась от него, но продолжала держать ладони на его груди и заговорила с печальной нежностью:
– Я нахожусь в каком-то необыкновенном состоянии. Всё что происходит сейчас с нами, это так естественно и жизненно необходимо, что создаётся ощущение, будто мы с тобой были уже вместе целую вечность, но потом нас кто-то разлучил, и вот мы снова встретились благодаря какой-то эпидемии, которая случилась со всем миром….
– И у нас даже мысли стали едиными, – тихо продолжил Валентин, обратно прижал Милу к себе, и долгий поцелуй унес их сознание в ложу блаженного покоя.
Кто-то возразит и скажет, что за экватором жизни, такая любовь для этой пары невозможна. Ну, что же…. Пусть будет так. Во всяком случае, это останется всего лишь мнением. Значит, этот человек на данный момент не влюблён, потому что влюблённому, с его безгранично позитивным виденьем мира на ум не придёт так тщательно разбирать описанную мной любовную сцену; он с безмятежной лёгкостью поверит мне на слово. А вообще, стоящее ли это занятие: – опровергать признаки чьей-то любви?


