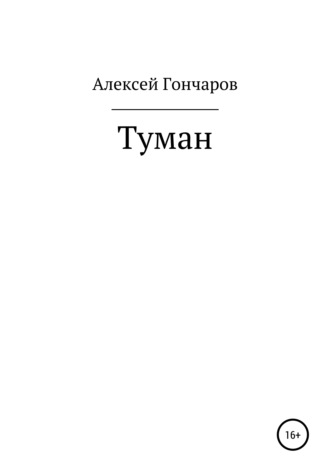
Алексей Александрович Гончаров
Туман
Она тяжело вздохнула и говорила с паузами, похожими на всхлипы:
– «Выбор сделан», …что-то вроде того. …А нет. «Будем считать, что выбор сделан».
– Ну, почему…? Почему вы мне раньше об этом ничего не сказали? – укоризненно набросился на неё Егоров, но в этой вспыльчивости было только беспокойство за Милу, и она это с удовольствием почувствовала.
– А тогда-то зачем, надо было наводить эту панику? – обречённо, но разумно отвечала она. – Сейчас я посчитала, что для вас эта подробность будет полезной. Вы знаете, как мы там…, у стены…, три бабы переживали за вас, когда вы с Максимом тушили это… «безобразие». И когда с вами разговаривал… этот. Ведь вся же надежда только на вас.
Сказала она и чуть не расплакалась. Валентину захотелось прижать её к себе, но он целомудренно сдержался и только произнёс:
– Да, вы мудро поступили, Мила Алексеевна. Тогда это, действительно, было ни к чему, но спасибо, что сейчас сообщили.
Егоров хотел ещё что-то сказать, но вверху послышался скрип, он поднял голову и отступил от стены. На втором этаже в открытом окне виднелся тёмный силуэт Маргариты Потёмкиной. С накинутым на плечи пледом, она была похожа на изваяние какой-то прорицательницы, выполненное из чёрного мрамора печальным мастером, и только в бледном худом лице присутствовал далёкий отблеск чего-то живого, но нервного и неразличимого, что можно было принять как за тоску, так и за раздражение.
– Маргарита Николаевна! – позвал Валентин. – Вы тоже стали свидетельницей необычайных событий. Спускайтесь, пожалуйста. Мы все собираемся в первой квартире, чтобы обсудить это. Я вас жду.
Ответом ему был хлопок, дребезжание стекла и задёрнутые занавески.
– Вы очень добродушно к ней обратились, – успокаивала его Мила и с грустью прибавила: – Но, мне кажется, она не выйдет.
– К сожалению, это так, – с той же грустью согласился Валентин. – В этом-то и есть какая-то беда. Она сложный человек, но всё же…, давайте постоим здесь минут пять, на всякий случай. Хотя бы порядочность проявим. А что мы ещё можем?
– Но не силком же её из квартиры вытягивать, – поддержала его Добротова.
Разумеется, Потёмкина к ним не спустилась. Безмолвно, но не чувствуя при этом уже какого-то стеснительного неудобства, они насмотрелись друг на друга сквозь ночной туман, подсвеченный отважными электрическими лампочками, и немного разочарованные пошли к первому подъезду.
А что же Маргарита Николаевна…? Валентин, пусть и вскользь, но правильно определил насчёт её сложности и возможной беды, которая кроется в её замкнутости. Стоит немного рассказать читателю об одной странной теории, которая уже давно блуждает по миру, сочинённая разными представителями общества, но Потёмкина (будучи женщиной, хотя и начитанной) всё же дошла до неё сама, и причём, ещё в юности. Поведаю только о сути этой теории, которую доказать невозможно, а опровергать недоказанное…, – это занятие какое-то бессмысленное и голословное. В общем, в понятии Маргариты: мира, как такового – в нашем привычном понимании – не существует. Нет пространства, предметов, света, цветов с полутонами и оттенками; всё это – что-то вроде голограммы, которая включается перед Маргаритой при пробуждении. Включается звук, записанный заранее и индивидуально на каждый день. Каким-то скрытым аппаратом подаются и распыляются запахи…. Чтобы лучше это понять, можно представить себе рубильник, при включении которого обычный сон уходит в беспамятство, а начинается привычный ненавистный ей контактный сон; с болезненными ощущениями в организме, со знакомыми картинками, …но главное – с невыносимым воспоминанием о предыдущих «сеансах». Это напоминает какой-то очередной экзамен, – новое испытание для её разума, которое, она точно знает, что не пройдёт. Но кто-то упорно заставляет Маргариту заниматься этим бесполезным делом. Но самое-то страшное в этом «контактном сне» то, что Маргарита блуждает в нём одна. Это ядро, – неотъемлемое основание этой утопической теории. Людей, животных… – их нет. Их подсовывает ей тот (так же вставляет в голограмму вместе со звуками и запахами), кто устраивает эти опыты. Она – одна. И даже глупо размышлять: одна она в этом захолустье, …в стране, на планете или во вселенной. Она – одна, а вокруг только «голограмма», которую включают, видимо, чтобы испытать её дух и терпение для каких-то новых возможностей.
Понятно, что в последнем дополнении кроется некая надежда на непонятное будущее, когда Маргарите позволят вырваться из этого виртуального плена. Но согласитесь, дорогой читатель, что это не та зацепка, чтобы разговаривать с этой женщиной о Создателе, которого она извращённо воспринимает тираном, и уж точно не о жизни, в которую она вообще не верит.
Но, впрочем, я увлёкся, сгустил краски, и кто-то теперь, возможно, воспринимает Маргариту как абсолютно безумную женщину. Но это не так. Даже в таком ядовитом одиночестве её разум достаточно крепок (и в её разговоре с Валентином Егоровым мы могли в этом убедиться). Она не фанатично предана своим убеждениям, а только придерживается их, когда ей становится тяжело. Маргарита, как любой нормальный человек, подвержена сомнениям и, придуманная ей теория не является какой-то аксиомой. В разговоре с Валентином она вообще про неё позабыла, и только потом пыталась подвести её к учтивому и не глупому соседу. А справедливости ради скажу, что Егоров произвёл на Потёмкину какое-то новое и необычное впечатление, которое не никак не ввязывалось в её теорию. Прослушав недавний и не очень-то понятный его диалог с обабившейся соседкой с первого подъезда, Маргариту даже кольнуло какое-то новое непонятное чувство, похожее на высокомерную ревность. Именно поэтому она захлопнула окно, потому что обращение Егорова вызвало в Потёмкиной какую-то неловкость и стыд. Спускаться к ним она и не собиралась, но что-то необычное, искреннее и теплое было в том призыве.
А что касалось грохочущего зарева и стального голоса, который Маргарита слышала до этого, то такой кошмар, как раз, очень просто вписывался в её теорию. Она восприняла весь этот ужас, как некую провокацию, направленную лично на неё. Посчитала, что «голограмма» ещё утром (в случае с туманом и льдом) дала какой-то сбой, а теперь разразилась чудовищным замыканием. Так было легче избавиться от истеричной паники и ничего себе не объяснять. Правда, предчувствие, что какое-то продолжение последует (как и обещали) нарастало в ней всё сильнее. В её голове что-то больно трещало, и совсем не так, как утром в телевизоре, а до жути невыносимо, словно разряд тока проходил через виски, и Маргарита бросилась на кухню, чтобы выпить обезболивающий препарат.
Немного ранее, чувствующий в себе не похмелье, а остаточное туповатое опьянение, Пётр Добротов проснулся от выстрелов и взрывов. Очумелый, он бросился к окну и увидел только ослепительное зарево. Ничего путного не соображая, он привычным грубым голосом несколько раз позвал свою жену и, не услышав никаких отзывов, стал спешно напяливать штаны, понимая, что супруги в квартире нет. Путаясь в рукавах, он всё же водрузил на себя лёгкий свитер и снова прильнул к стеклу, поплёвывая на ладонь и приглаживая рукой волосы.
– Что за хрень?! – переживал он вслух. – Лес что ли горит? Да, ещё фейерверки кто-то пускает. Людк! – позвал он жену ещё раз, на всякий случай и пробурчал: – Вот, дурная баба. Вечно ей надо во всё свой нос сунуть.
Продолжая удивляться непонятному грохочущему зареву за окном, Пётр проскользнул на кухню, открыл холодильник, нервно хлебнул из горла водки, запихнул в рот кусок котлеты и выбежал на лестничную площадку. Он хотел, уже было, спуститься вниз, но увидел перед собой чёрную железную дверь, и тут другая идея посетила его. «А что сломя голову туда мчаться? Не лучше ли узнать что-нибудь, для начала, у сведущего человека? Жмыхов, если и не в курсе…, то с ним-то спускаться вниз куда сподручнее. Представитель власти всё-таки», – подумалось Добротову, и он аккуратно нажал один раз на звонок. Прислушался, но невероятный шум во дворе мешал ему, что-либо расслышать за дверью. Тогда Пётр ещё раз надавил на кнопку. Лязгнул замок, и показался растрёпанный, в меру пьяный, и так же в меру встревоженный Михаил Анатольевич. Его заспанное помятое лицо уже тронул испуг от зарева и грома случившегося во дворе.
– Ты кто? – с недоверием спросил он и глянул вниз на лестницу.
– Пётр, из квартиры напротив, …водитель. Ну…, мебель ещё помогал вам разгружать, а вы меня бутылкой виски тогда отблагодарили, – согнувшись, и переминаясь с ноги на ногу, рапортовал Добротов.
– Заходи Пётр, – водитель напротив, – осторожно приказал Жмыхов, впихнул незваного гостя в квартиру, ещё раз осмотрел лестницу и закрыл дверь на замок.
Добротов, тушуюсь, стоял в коридоре и робко поинтересовался:
– Михаил Анатольевич, …не знаете, что там за стрельба во дворе?
– Не знаю, и знать не хочу. Да, и тебе не советую. Пока этот туман не исчезнет, я из квартиры не выйду, – грозно ответил Жмыхов, но голос его всё-таки чуть дрожал.
– А туман разве не исчез? – искренне удивился Пётр, вспомнив про чудо, которым днём он восхищался за окном. – Мне показалось, когда я выглядывал из своего….
– «Мне показалось…», – беспардонно передразнил его Михаил Анатольевич, понимая, что перед ним человечек, приспособленный к низкопоклонству, а значит, и стесняться его нечего. – Если не видишь ничего, так хоть послушай. Разве не ясно, что там твои соседи чёрте что устроили, – говорил он, немного заплетаясь, а потом поднял вверх указательный палец и произнёс: – Но, может быть, …и не они….
– Так, пойдёмте вместе с вами и разберёмся, – предложил ему Добротов, перебивая.
Михаил Анатольевич не привык, когда его прерывают вот такие, ничего не значащие люди, и брови его поползли к переносице. Но он увидел в Петре натурального союзника, намного почище того скользкого и убогого, который заходил до этого (Жмыхов уже забыл, что Валентин вытащил его из злосчастного тумана), и подполковник, смягчившись, сказал, подтолкнув гостя в комнату:
– Никуда мы пока не пойдём. Я не договорил тебе, дураку, что, возможно, там газ, который вызывает дьявола.
– Во, как, – вырвалось из Добротова, который, пройдя в комнату, оценивал степень опьянения Жмыхова. – Это он вас так? – кивнул Пётр на измятый и без пуговиц китель подполковника.
Михаил Анатольевич мучительно зажмурил глаза, потряс головой и спросил:
– Водку будешь?
– Буду, – резко отозвался Добротов, не посмев отказаться.
Такая резвость немного смутила Жмыхова, и он зачем-то спросил, словно гость отказался от водки:
– А коньяк?
На этот раз растерялся уже Пётр.
– Бу… буду. Если угостите…, – промямлил он и бочком подошёл к занавешенному окну, чтобы ещё раз взглянуть на стреляющее и ревущее зарево.
– Да, не высовывайся, ты, – одёрнул его Михаил Анатольевич, разливая по фужерам коньяк. – Сядь лучше, я тебе сейчас такое расскажу, что ты к окну подходить больше не захочешь.
Они пили коньяк, потом мешали его с водкой, закусывали обветренной мясной нарезкой, и не сложно догадаться, о чём поведал Петру Добротову подполковник Жмыхов. Причём, рассказал он свою жуткую историю семь раз, но с каждым разом она звучала с новыми подробностями, и рисовалась в опьяневшем сознании Петра всё более невероятной. Потом между ними пошли бессвязные разговоры, перескакивающие с одной темы на другую; то речь заходила о непогоде и стихийных бедствиях, то о ситуациях на дороге, то о бестолковых женщинах. В общем, они несли обычную пьяную чушь, где один, перебивал другого, и казалось, что очередную байку или зародившуюся в пьяном мозгу «крылатую фразу» каждый из них проговаривал исключительно только для своего собственного удовольствия, а не чтобы его расслышал собеседник.
Увлечённые этой беседой, они даже не слышали, когда ближе к полуночи, кто-то позвонил в дверь. Слух, как правило, в таких ситуациях притупляется и уходит вглубь человеческого организма. И не известно, в котором часу, сознание их всё же покинуло, и они оба завалились на огромную жмыховскую кровать одетыми и уснули, как говорится: – «без задних ног».
Понятно, что я пробежался по этой безынтересной сцене галопом, чтобы только в сюжете не было никаких пробелов. А тем временем вечер на кухне Зиновьевых продолжался. В отличие от вчерашних посиделок, к собравшимся соседям добавился Максим, но, разумеется, и сама атмосфера с прошлым вечером разительно поменялась; вместо обиды, возмущения и желания друг друга утешить, теперь появилось тихое щемящее напряжение с тяжёлым ожиданием неизвестного. Поверить, что в обычный мир могут просачиваться другие измерения, это означало признать себя, и без того, беспомощным существом, а теперь ещё и существом, находящимся на грани умственного помешательства. Но пример такого вторжения был ярко преподнесён. Конечно, человеческое сознание так устроено, что оно до последнего будет искать любые доводы, чтобы сопротивляться мистике, чем, собственно, некоторые были и заняты.
– Может быть, это психологические опыты над нами проводят? – неуверенно предположила Мила Алексеевна. – Я где-то слышала, что в Сибири целый посёлок подвергся массовой галлюцинации. Там военные что-то испытывали.
– Мне о чём-то подобном подумалось, тёть Мил, – поддержал её Максим, но тут же с усмешкой возразил: – И хотелось бы в это верить, но мы не в Сибири. И с чего вдруг нам оказана такая честь?
– Мы на отшибе, …обыкновенные, ничем не примечательные люди, – продолжала Добротова чуть самоувереннее, – почему бы над нами не поиздеваться какой-нибудь секретной военно-научной лаборатории?
– Убедительно, но далеко от здравого смысла, моя дорогая, – печально вступила Светлана Александровна. – Большой город под боком, чтобы так рисковать всякими исследованиями. Да, и получается, что подготовились они плохо, а разве такая организация может себе это позволить? Среди нас есть один «примечательный» (и она подняла глаза к потолку, имея в виду Жмыхова), его ни один экспериментатор лишний раз трогать, не станет. Запах и опасные бактерии, потом на всю Россию распространятся.
Валентин Владимирович, барабанивший пальцами по столу, с улыбкой отреагировал на высказывание Зиновьевой, но и с симпатией отнёсся к разумной версии Милы Алексеевны, однако, всё равно поддержал Максима и Светлану Александровну:
– Любая подготовка к таким экспериментам не прошла бы незаметно от нас. В том то и дело, что мы живём на отшибе. Даже мышь, пробегая по лестнице, и та для нас, как слон топает. Ладно, ещё мы на работу уезжаем, но Светлана Александровна с бабой Паней всегда дома. Нет, для проведения таких шоу нужна достойная аппаратура и много обслуживающего персонала.
– Значит, сам сатана к нам пожаловал, – с непроницаемым спокойствием безапелляционно заявила баба Паня и даже причмокнула губами. – Напустил заранее туману и аккурат, после заката явился. Я слышала что-то подобное от батюшки из Покровской церкви про апокалипсис.
– Ну, будем надеяться, что это не апокалипсис, потому что началось всё намного раньше заката, – немедленно поправил её Валентин. – Значит, сценарий не тот, что пророчил ваш батюшка. С подполковником беда уже днём приключилась. Да, и с утра фокусы были; вон, с Милой Алексеевной, и с Маргаритой нашей нелюдимой кое-что необычное произошло. Так, что «неведомый гость» ещё утром дал о себе знать. А в свете солнца сатана не осмелиться завоёвывать мир Божий, несколько я знаю.
Максим резко поднялся со стула, подошёл к окну и с раздражением заговорил, запустив руки в карманы джинсов:
– Но в целом тётя Мила права. Надо искать разумное объяснение, а не успокаиваться всякими поповскими проповедями. Давайте вспомним, что он нам там говорил, – попросил он всех обратиться к своей памяти, а сам принялся перечислять: – Он повсюду и даже в нас, …но это, наверное, когда мы выходим из дома, иначе бы, он давно уже влез в наш разговор. Во мне божественного сырья мало. Тогда какой из меня комбикорм для «рогатого», а, баб Пань? Вы ведь из нас больше всех в этом разбираетесь.
Старушка невозмутимо сидела и с тоской смотрела на Максима, а он, маленько разбушевавшийся, уже теребил руками свои волосы и продолжал:
– Было сказано, что он очень рад, что мы невежественны к религии, но и не атеисты. Кому может быть приятен такой расклад? Богу? Навряд ли. Слишком яростная и грубая реклама, чтобы приобщить нас к церкви. Тем более, бабу Паню за что Ему носом тыкать? Она – прихожанка.
– Макс, перестань богохульничать, – пыталась остановить его мать.
– Сейчас не время, мам, осторожничать. Когда всё выяснится, я при тебе попрошу у Бога за свои дерзкие высказывания прощение, – отвечал он отчаянно. – А если это, как вы говорите, всё-таки сатана, то как-то слишком мелко для него. Правильно, тётя Мила сказала: чего с нас взять? Куда как интереснее какой-нибудь горсовет или прокуратура. Заглянул бы в какую-нибудь администрацию, да, и развлекался бы там «по полной программе». Я бы на его месте не отказался от такой забавы. Там гораздо забавнее.
– А я вот о чём сейчас вспоминаю, – выходя из задумчивости, прервал его Валентин и, не стараясь никого успокоить, делился своими откровениями: – Когда я первый раз входил в туман, мне казалось, что я погружаюсь в сон. Без предисловий, как это обычно и бывает, …он сразу охватил меня полностью. Отрываюсь рукой от стены дома и словно ныряю с мостика в реку и плыву с закрытыми глазами, при этом до жути обостряется во мне чувство приближающейся опасности. Я боюсь натолкнуться на какой-нибудь предмет, и даже заранее готовлюсь к физической боли в месте соприкосновения с этим предметом; в кисти руки, в колене, на лбу…. Я, как испуганный, но окрылённый болван, жду встречи с этим…, чем-то необъяснимым, но желанным. И страх, и радостное возбуждение я испытываю, – и это всё одновременно во мне перемешивается в своеобразное топливо, которое мной движет. Сейчас, вроде как, и сгладилась во мне даже та паника, когда я заблудился, и воспринимается мной как настоящее необычное путешествие. Потом я несколько раз ходил в туман «на привязи», и это немного сглаживает то острое ощущение, потому что у меня в руках реальная верёвка, другой конец которой держит Макс. Это придаёт уверенность, но всё равно остаётся присутствие чего-то особенного, …не принадлежащего земле. Оно скрывается в тумане и наблюдает за мной, как будто, с целью изучения меня, …моей психики, моей…, если хотите, души; той её области, о которой я сам мало что знаю. Я не могу вам объяснить, но у меня каждый раз, когда я захожу в туман, появляется уверенность, что предоставить такое «погружение» не под силу каким-то человеческим способностям.
– Вот, натурально, Владимирович, что от души ты сейчас всё это сказал, – вроде, и поблагодарил его Максим, но могло показаться, что он немного ёрничает. – Сумбурно, красиво и без конкретики.
– А мне всё даже очень понятно, – заступилась Мила за Егорова.
– Да и мне понятно, тёть Мил, – измученно проговорил Максим Зиновьев. – Но не могу я, вот так легко как он, поверить в неземной разум. Наверное, у меня период такой, когда я давно перестал наслаждаться сказками и верить в деда Мороза, а до философского поэтического вдохновения, как у Владимировича, ещё не дошёл.
– Это точно, – вставила Светлана Александровна, накручивая тряпочную салфетку на палец.
– Я вот о чём сейчас подумал, – заговорил Максим, не обращая внимания на упрёк матери, прохаживаясь вдоль окна. – Если Владимирович воспринимает это как необычный сон, то, возможно, вся эта военная эпопея была выплеснута из его подсознания, а мы, всего лишь, зрители?
– Макс, мне кажется, тебе надо успокоиться, – строго одёрнула его мать. – Ты заходишь слишком далеко в своих фантазиях. Я не позволю тебе искать виновников среди нас.
– Я никого не обвиняю, – извинительно и немного испуганно сказал Максим. – Я просто разбираюсь.
В интонации Валентина Егорова не было никакой обиженности; он заговорил так же немного мечтательно и рассудительно:
– Нет-нет, Светлана Александровна, пусть он говорит всё что думает. Мы ведь для этого здесь и собрались. Тем более, наши мысли очень схожи. Скажу сразу, что в моём подсознании нет никакой войны. Во время Великой Отечественной (а именно её нам продемонстрировали) мои родители были детьми, а два моих деда ушли на фронт и погибли почти сразу же, …даже не успев написать ни одного письма. Я переживал эту потерю близких и незнакомых мне людей, как и многие; бессильно, с любовью и гордостью, но как бы уже заочно. Я пытался представить обстоятельства их гибели, но вы сами понимаете, что в отсутствии даже маломальской информации я возносил их подвиг на самый верх своего воображения. В общем, что-то схожее есть с тем, что нам продемонстрировали, но уверяю вас: это не от меня исходило; слишком уж яростно для моего подсознания. Мне кажется, что показанный нам бой – это только отпугивающий эффектный манёвр. И тот, кто это устроил, не боялся нашего «сигнала», он просто изобразил своё появление. Встречают, как говорится, по одёжке. А потом уже, Макс, прозвучал и этот голос, за которым скрывается не дюжий разум. И мне кажется, он не желает нам зла. У нас много вопросов, на которые он может дать ответ. Наш страх – это тоже своего рода подготовка, предусмотренная им. Ведь когда страх уходит, как сейчас, в нас просыпается настоящая деятельность – душевная и мыслительная; словно нас подтолкнули к этому. Если бы он захотел, то мог бы раздавить нас там во дворе всех разом в один миг, но он этого не сделал.
Мила слушала его, как влюблённая в своего учителя ученица, но только Светлана Александровна могла хорошенько разглядеть нежную растроганность на её лице, поскольку сидела за столом напротив.
– Владимирович, ты сегодня в ударе, – прижал к груди сомкнутые в замок руки Максим. – Нет, я серьёзно восхищаюсь тобой без всякой издёвки. Ты подкидываешь нам уже третью… или четвёртую версию и с таким романтическим спокойствием. Теперь, как я понимаю, мы находимся в какой-то обучающей сфере, которая призвана искоренить все наши предрассудки.
– Макс, я тебя прошу изменить тон, – опять одёрнула его мать.
– Мы всегда так общаемся, мам, – небрежно воспротивился Максим.
– Вот в саженной вами беседке так и общайтесь, а в присутствии нас, он тебе не приятель, а Валентин Владимирович, – настоятельно попросила Светлана Александровна и сказала Егорову: – Ты, Валя, сейчас очень разумные вещи озвучил.
– От Макса тоже очень интересная формулировка сейчас прозвучала, – откликнулся он и одобрительно посмотрел на Зиновьева. – В общем-то, именно это я и хотел сказать, только он более ёмко выразился.
– Да, но от каких-то реальных выводов мы по-прежнему далеки, – тяжеловато вздохнул Максим.
– А реальных и не будет, – хитровато заявил Егоров.
– Ты что имеешь в виду? – насторожился, изучая его, Зиновьев.
– Ты посмотри на свои руки.
Максим принялся осматривать свои ладони и спросил:
– И что?
– А где ожоги? – улыбаясь, поинтересовался Валентин Владимирович, достал из-под себя скомканную свою куртку и бросил её Максу со словами: – Она почти как новенькая.
Максим развернул перед собой куртку, на которой не было ни единого прожога, понюхал её, и лицо его застыло в задумчивом удивлении. Погладив рукой, уже свежую на себе голубую футболку, он вспомнил про свою рубашку.
– Она там, в коридоре, …целёхонькая, – опередил его Валентин.
– Так значит, огонь был не настоящий? – также задумчиво возмутился Максим.
– Тогда был настоящий, а сейчас нет, – спокойно ответил Егоров.
Что-то не доброе промелькнуло в глазах Зиновьева, и он набросился на своего старшего товарища:
– Так ты с самого начала знал, и всё это время пел мне какие-то песни…? Не мог сразу обратить на это моё внимание.
– Макс, Макс…, – пытался успокоить его Валентин и даже чуть привстал со стула.
– Максим! – грозно утихомирила сына Светлана Александровна.
Она, естественно, не могла знать, что в мужских разговорах по пятницам в беседке, Егоров позволял Максиму проявлять такую вспыльчивость, и даже иной раз провоцировал Макса на неё, потому что она ему нравилась. Этот порыв ностальгически окунал Валентина в молодость, но сейчас провокация была не совсем запланированной, а потому – невинной, и Егоров поспешил с объяснениями:
– Клянусь тебе, что для меня самого это было как прозрение. Когда ты только начал потирать руки, я вспомнил про свои ожоги и удивился, что их нет. А потом я вспомнил про твою беленькую рубашку, брошенную в коридоре, и про то, как положил под себя совершенно чистую куртку. Мне кажется, что это забвение и прозрение из той же оперы, что и с огнём.
– Уф-ф, – выдохнул Максим, собираясь с мыслями, и сказал: – Мог бы потом, на ушко шепнуть. Не пугал бы хоть женщин. Теперь совсем с ума здесь все сойдём.
– Правда, хватит болтать о том, что смертному не дано знать, а то и в самом деле, мы все здесь потихоньку умом «тронемся», – выступила строго Светлана Александровна. – Предлагаю, пока расслабиться и ждать, – как нам указали. Согласитесь, что в наших руках козырей нет. Надеюсь, никто не против моего предложения, чтобы перекусить, чем Бог послал, и попить чай.
Мила Алексеевна машинально поняла, что её просят заварить чай и, вставая со стула, она плаксиво сказала:
– Сколько бы сейчас не говорили, а мне всё равно страшно. Ну, как такое могло произойти с нами?
Рука Валентина даже слегка дёрнулась, чтобы успокоительно коснуться её, и это нервное движение не ускользнуло от глаз умудрённой жизнью Светланы Александровны.
– А мне уже ничего не страшно, – невозмутимо внесла своё мнение баба Паня. – Вся жизнь позади. И радовалась в своё время, и страдала, и мучалась, да, и пожила прилично, а теперь напоследок… хоть чёрта за рога готова потаскать, лишь бы с Ванечкой поскорее свидеться.
– Погодите, баб Пань, ещё успеете, – остановил её фатальные излияния Максим и присел за стол. – Мне кажется, что и для вас теперь много интересного найдётся. В таких шоу, наверняка, мало кто участвовал, – и обратился к своему другу: – Владимирович, ведь часто так бывает, что подсказка находится в самом начале условия задачи. Давай попробуем. С чего всё началось? Может быть, мы что-то упустили, а сейчас вспомним и найдём зацепочку? – подталкивал он Валентина к размышлениям.
– Горбатого только рюкзак исправит, – сказала Светлана Александровна, а Егоров призадумался, потёр пальцами подбородок и стал вспоминать вслух:
– Зацепка, …зацепка. А какая там может быть зацепка и к чему, собственно? Ты в туман сам вошёл, …а нас он накрыл, когда мы спали. Выходит, ты единственный, кто ближе всех к началу.
Светлана Александровна характерно кашлянула, сомкнула перед собой на столе шалашиком руки и произнесла:
– Я не спала.
Все взгляды, требующие объяснения, тут же с интересом переключились на неё.
– И-и-и? – протяжно попросил её о продолжении сын.
– Когда чуть рассвело, всё во дворе было на своих местах, – не дожидаясь дополнительных уговоров, стала рассказывать Зиновьева, – и лес, и беседка, и твоё бельё, Мила, болталось на верёвках. Туман начал подползать справа из-за угла. Вначале я не поняла, что это такое; как будто беззвучный бульдозер своим передним забралом сгребает к нам во двор огромный сугроб. Когда присмотрелась, то не испугалась, а скорее, очаровалась. В этом белом навале не было ничего зловещего, а скорее, наоборот: – облако остановилось на какие-то секунды прямо перед окном, и как будто спрашивало у меня разрешение войти. У меня в этот момент в голове ещё вальс заиграл мой любимый: там-там-пара-ра-ра-рам-там…, – напела она, играя пальцами в воздухе, и небрежно отбросила свои воспоминания сыну: – Ну, Максим знает его название. А туман, будто под мелодию начал колыхаться вверх, вниз и в разные стороны. Потом он медленно стал продвигаться дальше во двор, и вырисовывал мне всякие фигуры. То я лебедя разглядела объёмного, то коня. Помню ещё одну странную фигуру…, – Светлана Александровна замолчала, и всем показалось, что она нахмурилась, но на самом деле, она подбирала выражение, как бы лучше эту фигуру описать.
– Какую? – с нетерпением настаивал Максим, но она не обращала на него внимания в своей задумчивости, а после опять заговорила воодушевлённо:
– Похоже, …как бы, что юлу горизонтально разделили пополам, и её части перевернули. Почему юлу? – потому что фигура была в постоянном движении. Понимаете, одна воронка вращалась медленно, …та, что сверху, а другая чуть быстрее и в противоположную сторону. И где-то на уровне второго этажа их острые концы соединялись. Потом эти воронки, как будто кто-то проткнул иглой, и они расплылись волнами по всему двору. Леса уже не было, а беседка и бельё ещё просматривались. Затем сверху упала широкая густая, подсвеченная розовым светом восхода, волнистая прядь, перечёркивая белые волны. Вы поймите меня правильно, я стояла у окна заворожённая и подумала, что засыпаю, прямо, на подоконнике, дожидаясь сына. Туман-то пришёл… – это факт, но все эти фигуры я списала на свой провал в минутный сон. Да, и голос…, мне показался нереальным.
– Что, ещё и голос был? – поморщился как от боли Макс.
– Да. Когда я сейчас после пожара его услышала, то поняла, что и фигуры в тумане не были сновидением. Поэтому я днём вам ничего и не рассказывала, – извинительно пожимая плечами, пояснила она.
– Ну, мать, вам бы с на пару с Владимировичем в мальчишей Кибальчишей играть, – упрекнул её Максим, поглаживая кулаком щёку. – Только тайны о противнике вы, почему-то, храните от своих.
– А из тебя, одно нетерпение только и прёт. Я боюсь… этой твоей поспешности, – заметила ему мать.
– Ну, ладно. А что тебе утром сказали? – вернулся Макс к её интересному рассказу.
На плите зашипел чайник, Мила Алексеевна сняла его, но в ожидании смотрела на Зиновьеву.
– Как уже сказала, я посчитала, что провалилась в сон, – продолжала Светлана Александровна, – Испугалась за тебя. Подумала: как ты доберёшься с трассы в таком тумане? Уже собиралась даже выйти тебе навстречу, вот тут и услышала: «Сам дойдёт. Не инвалида же ты так долго и мучительно рожала», – процитировала она с каким-то стеснением и закончила: – Я ничего не понимала: толи я очнулась от этих слов, толи наоборот заснула. Не по себе как-то было. А когда увидела тебя с Валентином в коридоре, поняла сразу, что ничего меня уже не напугает. Сын рядом, – и мне больше ничего не нужно.
– Меня, кстати, ещё утром поразила ваша уверенность, что Макс должен вернуться утром, – тихо признался Егоров, сопоставляя в уме что-то своё.
– А я ещё утром тебе, Валя, ответила. Разве нет? – весело удивилась она и сказала: – Материнское сердце – его обмануть невозможно.


