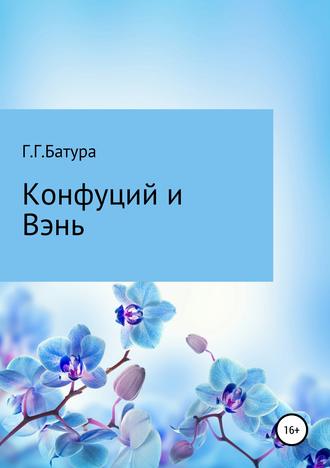
Георгий Георгиевич Батура
Конфуций и Вэнь
Краткий экскурс в Ши цзин
Эту короткую главу мы решили ввести по той причине, что из текста Лунь юй хорошо известно, насколько важна была книга Ши цзин («Книга стихов») для самого Конфуция. То особое внимание, котрое он ей постоянно уделяет, свидетельствует о том, что для него это было не просто собрание любимых стихов, как, например, для сегодняшнего русского читателя стихи Пушкина, Тютчева или Есенина. Для Конфуция книга Ши цзин означала нечто гораздо более важное и имела прямое отношение к его Учению.
Мы уже предположили ранее, что иероглиф Жэнь Конфуций взял из Ши цзин и стал его использовать (и это выглядит вполне разумным и не вызывающим сомнений) в том же самом значении, которое у этого иероглифа было когда-то в далеком прошлом. Вот это мы и намерены показать в данном разделе на примере двух стихотворений Ши цзин, которые содержат иероглиф Жэнь (других стихов с этим иероглифом в книге нет).
Не вызывает сомнения тот факт, что Конфуций оказался одним из тех немногих своих современников, кто смог правильно оценить значение этого сборника для живших ранее чжоусцев. И он никогда бы не мог даже в мыслях предположить такое, что это – сборник какого-то «народного творчества». Да и наивно так предполагать, когда в сборнике постоянно упоминаются колесницы, богатые наряды, музыкальные инструменты, с которыми встречают прибытие знатной невесты, выезды на охоту и многое другое, что являлось принадлежностью исключительно привилегированного класса.
Часто встречающееся выржение цзюнь цзы, «сын правителя», которое фигурирует в стихах для обозначения главного героя, тоже никак не свидетельствует о рождении этого сборника в недрах «китайской глубинки». А следовательно, ни о каких «3000 стихов», из котрых Конфуций якобы отобрал те 305, которые вошли в существующее собрание, речи быть не может. Подобное сообщение историка Сыма Цяня следует признать позднейшим вымыслом. И это подтверждается содержанием тех стихов, которые мы планируем разобрать в настоящей главе. Это также подтверждают и те строки из Ши цзин, которые Конфуций обсуждает в Лунь юе, и глубинный смысл которых – даже с учетом наводящих пояснений Конфуция! – последующие комментаторы и исследователи никогда не понимали.
Не может быть сомнения в том, что первоначальное число таких стихов было крайне ограниченным, – значительно меньшим, чем тот объем, который мы видим в традиционном собрании. Впоследствии, когда подлинный смысл сборника был уже не совсем понятен, а затем и полностью утрачен, в него стали включать сначала древние Гимны, прославляющие основоположников Чжоу и исторические события, связанные с рождением новой династии, а затем – его дополнили наиболее известными «народными» песнями, не имеющими прямого отношения к духовной практике. К тому времени понимание смысла первоначальных стихов отсутствовало полностью, но отношение к ним, по традиции, продолжало оставаться благоговейным, как к некому бесценному «раритету».
И именно по этой причине какая-то часть иероглифов (особо важных) при переписывании воспроизводилась по-прежнему в той древней форме, в какой эти стихи возникли. Но при этом – что тоже естественно – для того, чтобы хоть как-то объяснить их смысл, этим древнейшим знакам стали приписывать совершенно другие значения, чем те, которые они имели первоначально. И в этом отношении сама технология «понимания» текстов Лунь юй и Ши цзин у комментаторов была одинаковой. Например, иероглиф Жэнь в Лунь юе понимается уже совсем иначе, чем в древности – он означает «человеколюбие», – но при этом он по-прежнему рисуется в своей древней графической форме, где верхняя черта его мнимой «двойки» короче нижней.
Канонизированный Ши цзин состоит из трех главных разделов: Го фэн, Оды и Гимны. Исходя из разумной логики современного представления о поэтических сборниках, раздел «Гимны», прославляющий Вэнь-вана, У-вана и дела родоначальников династии, должен был стоять на первом месте, как самый важный. Но мы этого не видим. И это можно объяснить только тем, что раздел Го фэн (или, иначе, Го фын) является более древним и действительно более важным. В этой последовательности глав Ши цзина, как в зеркале, отразилось неуклонное снижение духовного уровня входящих в него текстов – снижение, которое происходило синхронно с процессом секуляризации китайского общества.
Даже само древнее название этого первого раздела уже никто не воспринимал правильно. Го фэн всегда понималось как «Нравы царств» (отдельных княжеств, входящих в объединенный чжоуский Китай). В этом сочетании знаков иероглиф го – это «государство», а фэн/фын – всегда означало «ветер». Именно «ветер», но не «нравы». Правильный буквальный перевод этого древнего названия будет «Ветры княжеств». Но он читателю ни о чем не говорит.
Вот что пишет об этих «ветрах» Н. Т. Федоренко в своей книге «Древние памятники китайской литературы» (Издательство «Наука», Главная редакция восточной литературы, М.: 1978, стр. 58):
Согласно гадательным письмам шан-иньцы верили в духов четырех направлений – востока, юга, запада, севера – и [духов] ветров, свойственных каждому направлению. В работе Ху Хоу-сюаня «Объяснение жертвоприношений эпохи Инь четырем направлениям и ветрам четырех направлений о ниспослании урожая» содержится подробный анализ гадательного ритуала шан-иньцев, которые пользовались специальными обозначениями для четырех направлений и соответствующих им ветров. Опираясь на сведения гадательных письмен, Ху Хоу-сюань приходит к выводу о существовании глубокого суеверия у шан-иньцев, в представлении которых каждое направление – восток, юг, запад и север, а также их ветры, олицетворялись соответствующими духами. И этим духам приносились особые жертвы для ниспослания обильного урожая».
Исходя из этого – а Раннее Чжоу полностью заимствовало у более развитых шан-иньцев не только культуру, письменность, ремесленные технологии, устройство дворца вана и аппарат управления государством, но и весь ритуал (Ли) поклонения духам – название первого раздела Ши цзин следует переводить как «Духи царств». А где есть «духи», – там всегда и «духи предков», и обязательное им поклонение. Это мы и видим в ранних текстах Ши цзин.
Наибольший интерес представляют два древних иероглифа, которые присутствуют в составе тех стихов, которые нам предстоит разобрать. Первый – это, конечно Жэнь, но здесь для нас все понятно. Жэнь – это не «прекрасный», «красавец» или «добрый», как мы это видим в добротном художественном переводе А. Штукина, и не английское kind («добрый», «сердечный») в известном переводе Джеймса Легга (James Legge). Как мы уже объясняли, справа в этом иероглифе поставлен древний знак шан. Второй важный иероглиф – это цзу (БКРС № 953) – «предок», «пращур», «праотец». Это, если так можно выразиться, «главный» иероглиф древних иньцев для обозначения ушедших из жизни предков, которым приносились жертвы. В более позднем языке он стал обозначать грамматический союз «и» или наречие «еще», «пока» и т. д., причем, произношение его поменялось. Во всех традиционных переводах Ши цзин этот древний иероглиф «предок» ошибочно переводится как союз «и».
Целесообразно привести мнение того же Н. Т. Федоренко – а он является признанным знатоком вэньяня и всей древнекитайской поэзии (в том числе Ши цзин) – о тех трудностях, с которыми сталкивается любой переводчик, приступающий к переводу древнекитайских текстов (там же, стр. 152, 155, 156):
Сложности расшифровки древнекитайского текста <…> вызываются также тем, что в процессе переписки допускались искажения, описки, замены одних иероглифов другими, нередко с одинаковой фонетикой, но разной семантикой. Наконец, по разным причинам во многих древних памятниках возникали иероглифические лакуны, которые в различные эпохи заполнялись не методом научной реконструкции текста, а скорее по наитию комментаторов, как то подсказывалось им не только эрудицией, но и субективностью их воззрений. <…> «Шу цзин» и «Ши цзин», отмечает крупнейший китайский ученый Ван Го-вэй, – книги, которые привык штудировать каждый. Но из книг конфуцианского канона они наиболее трудны для чтения. В «Шу цзине», замечает он, не поддается толкованию до пяти десятых его объема (т. е. ровно половина! – Г. Б.), а в «Ши цзине» – одна-две десятые (явно заниженная оценка – Г. Б.). Эрудиты со времени династии Хань и Вэй давали их тексту насильственное, притянутое толкование, которое так и не приводило к ясности. Отсюда исследователи приходят к убеждению, что и прежние ученые не умели правильно прочитать древнекитайскую иероглифику, не понимали смысла документов. <…> Сопутствующее значение слов настолько неопределенно и расплывчато, что при фразеологическом построении они могут выступать в самом различном смысловом сопоставлении. Это нередко приводит к тому, что текст легко поддается диаметрально противоположной интерпретации.
Тот текст Ши цзин, которому в прямом смысле слова поклонялся Конфуций, представлял собой древний религиозный сборник, специально созданный для человека, практикующего Жэнь с целью получения опыта Вэнь. В раннем Чжоу таким человеком, как правило, был цзюнь цзы – молодой аристократ, вставший на путь чжэ Дэ. Эта книга означала для древнего китайца намного больше, чем, например, Псалтирь для древнего еврея. Она была в прямом смысле слова «Евангелием» Раннего Чжоу. Первоначальный Ши цзин представлял собой небольшой сборник глубоких и поразительно талантливых медитативных текстов, способствующих погружению человека «в самого себя», – так, чтобы найти незримую дорогу к миру благих предков.
У подготовленного читателя подобные слова могут вызвать некоторое внутреннее несогласие, т. к. ему хорошо известно, что в Ши цзин одной из важнейших тем является тема помолвки или встречи молодых жениха и невесты – свадебная тема. Это действительно так, но причина появления этой темы в религиозном сборнике совершенно иная, чем предполагает такой читатель.
Древний аристократ Чжоу был убежден в том, что он пришел в этот мир из «далекого» мира благих предков, и главную задачу в жизни видел в своем возвращении в этот прекрасный мир. Почему же в таком случае эти аристократы не совершали самоубийство для скорейшей реализации своей мечты о потустороннем мире? – вполне резонно спросит читатель. Дело в том, что именно туда – в мир «духов верха» – невозможно попасть из нашего мира «с пустыми руками». Для этого необходимо сначала «стяжать Дэ», используя практику Жэнь. А затем благодаря этому Дэ получить опыт «просветления сердца» (мин синь), став, таким образом, человеком-Вэнь. Только этот опыт дает человеку явное подтверждение того, что он уже достиг состояния «рая» (термин христианский, но не чжоуский), т. е. достиг обители «духов верха», а значит, теперь ему не страшно умереть. Поэтому Конфуций и заявляет в одном из своих суждений, что если кто-то узнал (буквально «услышал», но об этом – позднее) Дао утром, – то вечером он может спокойно умереть. В том смысле, что если даже такому «услышавшему» человеку и придется вдруг умереть вечером, то беспокоиться ему не следует: своей цели в этой жизни он уже достиг.
А теперь – о «свадебной» теме. Второе, что обязательно должен был исполнить аристократ, пребывая на этой земле, – это родить сына, который станет очередным звеном в непрерывной «цепи предков». Того сына, который будет приносить жертвы – «кормить» всю цепочку ушедших духов своего рода, включая дух своего умершего отца. Для мужчины это была главная «святая» (в прямом смысле этого слова!) обязанность. Он знал, что в противном случае (без Сяо) получение Дэ от «духов верха» может прерваться, и возврат человека в этот вожделенный мир духов окажется невозможным. Если нет жертвоприношений и нет Сяо, – значит, нет Дэ. Нет Дэ – нет и опыта Вэнь. А значит, все потомки этого аристократа уже не смогут попасть в эти благие миры, – как говорится, для них «двери рая закроются». Но и сам дух этого человека тоже пострадает от того, что такие жертвы прекратятся. И только отсюда – такое громадное внимание к вопросам свадьбы и рождению сына в Ши цзин. Именно на нем будет лежать ответственность принесения жертвоприношений после смерти отца. Если в тексте идет речь о свадебной подготовке, значит, подспудно, – о жертвоприношениях и рождении того, кто будет их исполнять.
Сама по себе любовь и те сентиментальные отношения между женихом и невестой, которые являются стержнем всей средневековой европейской поэзии, – для Ши цзин ничто. Любовь – это земное, а китаец жил потусторонним даже на земле. В Китае с самых давних пор не приветствовалось показное чувство любви у мужчины: открытое проявление такого «сентиментального» чувства вызывало всеобщее презрение и даже отвращение.
«А как же широко известное выражение “взявшись за руки”, котрое мы неоднократно видим в Ши цзин?» – спросит еще раз читатель. Даже сейчас специалисты древнекитайского языка не могут точно сказать, кто же все-таки «берется за руки», – юноша и девушка или взрослый мужчина с мужчиной? А может быть, взрослый мужчина и юная красавица, или – тот же самый взрослый муж и безбородый юнец? Сразу поясним, но пока только предварительно: ни то, ни другое и ни третье. А кто это конкретно, – читатель увидит при нашем разборе самого первого суждения Лунь юй, куда мы включили корректный перевод одного из прекраснейших стихотворений Ши цзин – «Северный ветер».
Возвращаясь к теме свадьбы, приведем очень характерный пример из китайской жизни, имеющий непосредственное отношение к самому Конфуцию. Вспомним, как отец Конфуция, благородный воин Шулян Хэ, сначала «рожал» одну за другой девять девочек, а затем – уже от наложницы – хромого сына (с поврежденной ножкой, а значит, негодного для отправления ритуала жертвоприношений). И после всего этого – уже в старческом возрасте – он сошелся с какой-то «молодухой» (а свою настоящую жену, как вытекает из всей его жизни, действительно любил и был к ней привязан), сошелся «в поле» (термин имеет отрицательную окраску и не совсем понятен переводчикам) только для того, чтобы, наконец, родить здорового сына. Именно тогда и появился на свет Конфуций. Очень скоро старый Шулян Хэ умер, и Конфуция воспитывала мать. что́ у бывшего отважного воина во все эти годы было «в его голове», мы только что подробно объяснили. А значит, это вовсе не какая-то «сексуальная озабоченность», как мог бы подумать наш современник. Шулян Хэ желал от своей жены в первую очередь сына, а не того, что является «смыслом жизни» для нашего современника.
Перед тем, как непосредственно приступить к рассмотрению стихотворений с Жэнь, скажем несколько слов о поэзии Ши цзин в целом. Дело в том, что это… вообще не «поэзия», если подходить к этому слову с нашими европейскими мерками. Любая поэзия – это то, что воспринимается «ушами», или мысленно, при чтении «про себя», но при этом мелодия стиха все равно «проговаривается» в голове и сердце. В европейской поэзии главную красоту стиха создают льющиеся звуки, заключенные в особый ритм и создающие какую-то стройную концовку-рифму каждой строки. И отсюда – создаваемый стихом настрой. На это влияет также размер стиха. И во всю эту «фонетическую красоту», в эту музыку стиха, как в некую «форму для отливки», вложены душа и мысли конкретного поэта.
Если читатель правильно читает стихи, ему со временем удается так настроить свое внутреннее состояние (а точнее, оно «настраивается» само), что он как бы плавно «входит» внутрь самого стихотворения. В этот миг он сам становится – именно в это волшебное время! – тем поэтом, которого он читает. Становится как бы «изнутри себя» Пушкиным, Мандельштамом, Тютчевым и даже Мариной Цветаевой, несмотря на то, что такой читатель – мужчина. И в таком своем «идентичном» с поэтом состоянии он вдруг «знает» душу и внутренний мир этого поэта, как знает самого себя. Душа поэта оказывается для него открытой, как своя собственная. Такой читатель на самом деле становится «Пушкиным». «Умерший» Пушкин в этом читателе «оживает» через 200 лет точно так же, как «оживает» Христос (или другой «дух верха») в сердце правильного читателя Евангелия.
Именно это и есть наша подлинная европейская поэзия. И по этой причине Евангелие – это тоже поэзия. По этой причине правильная поэзия и правильное ее прочтение – это ученический шаг к духовной жизни, т. к. поэзия становится для такого человека настоящим тренажером для понимания уже духовного текста, например, Евангелия или Псалмов.
Стихи Ши цзин – это совсем другое. Это как будто «из другой оперы» (и даже не «оперы», потому что любая опера – это «собрание» музыкальных пассажей). Аналогов этому тексту в европейской поэзии не существует, и незнакомый с китайским миром читатель вряд ли сможет понять, что́ это за диковинка такая – настоящая «поэзия» Ши цзин. Вот как оценивает художественные достоинства этого сборника М. Е. Кравцова в книге «Поэзия древнего Китая» (СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994, стр. 31):
Следует предупредить читателя, что по переводам, выполненным А. Штукиным, судить о манере исполнения произведений «Го фэн» весьма трудно, ибо эти переводы обладают заметно бо́льшими художественными достоинствами, чем подлинники.
Правильно ли констатирует факт «поэтических достоинств» Ши цзин М. Е. Кравцова? Отчасти да, но при этом она совсем не говорит о главном. В какой-то степени правоту ее слов следует признать, потому что «европейской поэзии», в нашем понимании этого слова, здесь действительно «не просматривается». Как можно вообще вести речь о «поэзии» в том случае, когда столбики стиха, состоящие, как правило, всего из четырех иероглифов, имеют совершенно неопределенное произношение? Сегодня никто точно не знает, как читались древние иероглифы, поэтому если вести речь о каком-то древнем иероглифическом тексте, то разговор о его фонетических достоинствах следует признать весьма условным.
Но что, в таком случае, здесь привлекает и даже завораживает читателя? Еще раз повторим свою мысль: древнее иероглифическое стихотворение является восхитительным образцом «стихотворения» такого типа, который неведом европейцу и любому другому жителю земли, пользующемуся алфавитной (фонетической) письменностью. Ши цзин – это стихотворение «зрительное», а не «слуховое», оно – в бо́льшей степени «для глухих». Строка (или столбец) из четырех иероглифов создает ритмический зрительный ряд, который несет в себе гораздо большее содержание – и по объему информации, и по глубине, и по внутренним связям между «словами», – чем наши европейские те же «четыре слова». Используемый частый прием ритмического повтора отдельных иероглифов (или даже их отдельных компонентов) в строке (и даже повтора целых строк) призван создать и усилить впечатление этого необычного для европейца безмолвного «зрительного ритма».
В таком стихотворении присутствует та воспринимаемая на подсознательном уровне рисунчатая «рифма-мелодия», которая теряется при соприкосновении с любой земной обстановкой. Это невиданное и высокое творчество пребывает как будто «на полпути» к миру духов, и оно, как особый вид «внутреннего искусства», в человечестве навсегда утрачено. Ши цзин – это самые высокодуховные стихи из всех возможных, существовавших и существующих на земле. Это – общечеловеческое достояние, наше бесценное утраченное сокровище. И каким образом эта ритмическая «вязь иероглифов» завораживает и привлекает к себе человеческое сердце, – это необъяснимо никакими умственными рассуждениями. Причем, это имеет место даже в том случае, если читающий человек не вполне владеет знанием вэньяня. Ведь глаза были и остаются одинаковыми – и у древнего китайца и у современного европейца. И наше понятие «понимать» для глаза бессмысленно.
И когда читатель будет вчитываться в текст приводимых нами стихотворений, пусть он мысленно облекает простые слова языка перевода, которые отражают главную мысль самого стиха, в ту «безмолвную вуаль» многомерности, нездешности и отрешенности от нашего мира, которая была характерна для читающего эти стихи цзюнь цзы.
Главное отличие «фонетических» стихов от «зрительных» заключается в том, что фонетика работает только на уровне нашего внутреннего «сердечного» (чувственного) мира. Но при этом она не в состоянии выйти за пределы нашего личного замкнутого «я», – она «зацикливает» человека на этом своем внутреннем мире. При этом наличие для человека возможности такого выхода является необходимым условием на начальном этапе духовного роста.
В то же самое время «зрительная картина», обладая всеми качествами своего фонетического аналога «погружать» человека в собственный внутренний мир, способна «выводить» человека из этого внутреннего мира в мир совершенно иной, – не наш, земной, а какой-то другой, «чужой» – «мир духов предков», как это понимали сами создатели этих стихов. Ши цзин надо читать глазами, а не слушать ушами. Ши цзин – это «зрительные стихи». И если даже обычные стихи, по многочисленным свидетельствам подлинных поэтов (а таких в России было «хоть пруд пруди»!), создаются не человеком-автором, а каким-то «наитием свыше» (почитайте хотя бы биографию Ахматовой, – она самый настоящий «контактер» в этом своем «жужжании»), то тем более «зрительные» – они навеяны духами с «верха». Ши цзин можно имитировать, ему можно подражать, как это происходило в более позднем Китае, но все это уже не было тем подлинным окном в реальный потусторонний мир духов, которое так и остается открытым в этом сборнике.
Те два стихотворения, о которых мы сейчас будем вести речь, входят в раздел Го фэн. Первое принадлежит «Песням царства Чжэн» (I.VII.3), в переводе А. Штукина оно имеет название «Шу на охоту поехал». Второе – из «Песен царства Ци» (I.VIII.8), его название – «Охотник». Следует отметить, что эти названия стихов, которые отражают их предполагаемое традицией содержание, не являются авторским изобретением А. Штукина. Это – понимание основной темы стихотворения, как оно представлялось традицией не только в самом Китае, но и всеми синологами Запада. Так ли это на самом деле, оставляем судить читателю.
«Шу на охоту поехал» (название А. Штукина, перевод наш)
Шу отправляется в поля.
В селениях нет обитающих людей.
Неужели нет обитающих людей?
Не уступает Шу. [Он] действительно предстоит (Жэнь) прекрасным цзу.
Шу отправляется в подведомственную территорию.
В селениях нет пьющих вино.
Неужели нет пьющих вино?
Не уступает Шу. [Он] действительно любит прекрасных цзу.
Шу направляется в окрестности (глушь).
В селениях нет наря́женных лошадей.
Неужели нет наря́женных лошадей?
Не уступает Шу. [Он] действительно продолжает дело прекрасных цзу.
Напомним читателю, что цзу (БКРС № 953) – это «предок», «предки», а Жэнь – «предстоять [духам верха]», то есть Шу внутренне или мысленно «предстоит прекрасным предкам». Речь в данном стихотворении идет о том, как молодой человек, имя которого Шу, непосредственно приступает к занятиям практикой Жэнь. Оба эти стихотворения с Жэнь – начальные, они являются как бы «букварями». И именно по этой причине таких стихов с Жэнь в Ши цзин больше нет, остальные стихи несут другую нагрузку или функцию.
Отдельно скажем, что означает Шу. Мы этот знак намеренно выделили в тексте, чтобы читатель мысленно представил себе это ритмическое, короткое, периодически «выдыхаемое Шу», сопровождающее стих на всем его протяжении (повторяется шесть раз!). «Фамилия» главного персонажа подобрана совсем не случайно, поэтому речь, скорее всего, идет не о каком-то конкретном аристократе Шу, который некогда «отправился на охоту». Хотя шу – это действительно одна из многих фамилий китайского языка (возможно также и то, что эта фамилия появилась в Китае только через столетия после создания данного стихотворения). Все китайские фамилии происходят от того или иного иероглифа, который имеет свое конкретное значение. Иероглиф шу – это, по Словарю Ошанина, «дядя (младший брат отца)», «деверь (младший брат мужа)», «младший», «молодой», «последний». То есть этот иероглиф обозначал младшее, хотя и достаточно взрослое, поколение по мужской линии. А значит Шу – это молодой аристократ Раннего Чжоу, фактически цзюнь цзы этой Книги (но не Учения Конфуция). Но и такое значение иероглифа не является главным.
Вот что сообщает В. М. Крюков относительно омонима шу, который по своему рисунку представляет собой тот же самый иероглиф, что мы видим в этом стихе, но с добавлением радикала «вода». Как мы теперь понимаем, этот ключ «вода» мог быть «утерян» из подлинного первоначального шу позднее, в связи с абсолютным непониманием комментаторами его смысла. Итак, приводим цитату из книги «Текст и ритуал» (стр. 221, 222):
Прямое отношение к идее внутренней чистоты имеет ближайший синоним просветления-мин – шу («очищение») (читатель уже знаком с выражением Раннего Чжоу мин синь – «просветлить сердце» – Г. Б.). Иньцы ни знака, ни тем более понятия шу не знали. В конфуцианскую эпоху в слове шу возобладала узко этическая коннотация «целомудрие», однако в своем исходном раннечжоуском варианте оно имело более широкий ритуальный смысл, означая внутреннее усвоение сакрального дара. Именно в таком значении чжоусцы употребляли словосочетание шу Дэ – «очищать [в себе] благодать».
И нам понятно, что в соответствии с первоначальным смыслом стихотворения этот знак «вода» действительно мог в тексте присутствовать, потому что на практике что-либо грязное очищается именно водой. Однако со временем иероглиф шу стал восприниматься в качестве фамилии, и следовательно, знак «вода» оказался лишним.
В первой строке стихотворения сказано, что «Шу отправился в поле». Знак тянь (БКРС № 2794) означает «поле», но в то же самое время это также и более позднее – «охота», которая чаще всего происходила в полях. Графически этот знак представляет собой квадрат, расчерченный крестообразно на четыре малых квадрата. Такой знак является главной частью иероглифов дух-шэнь и дух-гуй, а также более поздних – душа-хунь и душа-по. В книге О. М. Готлиба «Основы грамматологии китайской письменности» этот знак характеризуется как «голова черта» (стр. 37, знак № 116 фу, отличие с нашим «полем» – короткий штрих поверх этого квадрата). Кроме присутствующего в тексте этого «квадрата-поля» в стихотворении нет ни одного указания на то, что речь идет об охоте, как традиционно трактуется этот иероглиф, а с ним и все содержание стихотворения.
Рисунок «квадрата» призван для того, чтобы переключить сознание практикующего от мира людей («поле») на мир духов («голова черта»). Причем, в Ши цзин следует четко различать тех «духов поля» или «духов ветра», которые препятствуют человеку приблизиться к конечной цели, и тех «духов верха», которые этому содействуют.
В этом стихотворении используется тот же самый медитативный прием «удаления/ускорения», который мы видим в стихотворении «Северный ветер». Сначала Шу отправляется в «поле», которое, располагается рядом с городом (именно таково древнее значение иероглифа). Затем Шу удаляется на бо́льшую дистанцию от начальной точки отсчета – в «подведомственную территорию». А в третьей строфе – еще дальше, в «глушь». Человек внутренне как бы все больше и больше отходит от мира людей и тех невидимымых духов, которые этот мир всегда сопровождают («ветры», «домовые» и т. д.). И таким образом он все ближе и точнее приближается к своей истинной цели, на которую и направлено Жэнь – к предстоянию «духам верха».
Бесспорно то, что смысл стихотворения намеренно «затемнен», т. к. стихотворение не является бытовым, а предназначено для отработки духовной практики Жэнь. Мысли человека обычно привязаны к той обстановке, в которой он привык находиться. А здесь мы видим как бы «внушение» (со стороны!) чего-то противоестественного: «на улицах нет людей», «нет пьющих вино», – все это не соответствует реальной жизни. Такие картины призваны оторвать мысли человека от всего привычного, земного, и в первую очередь, от общения с себе подобными, – от человека. Это – медитативная техника, направленная на то, чтобы «стереть» в памяти любое присутствие людей. Рефрен объясняет всё. Слог шу, как мы уже говорили, подобран не случайно, он повторяется шесть раз, образуя «физиологический ритм», сопровождаемый одинаковым «выдыханием воздуха». Сам слог шу содействует очищению сознания от внешнего мира и обращению сознания внутрь.
Формула [жэнь] мэй цзу Жэнь – «[человек] прекрасным предкам предстоит» – судя по тексту Ши цзин была стандартной для практики «постижения Дэ», т. к. она, как шаблон, повторяется в этих двух разных стихах, где первый – это медитативная молитва, а второй – художественное воспевание сыновнего долга. Эта формула и есть – «Иисусова молитва» Раннего Чжоу.
Анализируя эту древнюю фразу, сохраненную в Ши цзин, можно в качестве гипотезы предположить следующее. Первоначально знак Жэнь был составлен чжоусцами из двух имеющихся в то время иероглифов: знака «человек» (жэнь) и древнейшего иньского знака Шан ди, который включает в себя знак шан – «верх». Знак ди, скорее всего, раньше обозначал всех предков вана племени Шан, и по преемственности, предков самых первых ванов Чжоу.
Затем чжоусцы в своем государственном устройстве и в духовной практике переросли своих предшественников (появление знака синь-«сердце» этому свидетельство). Именно в это время мы видим появление Неба-Тянь вместо прежнего Шан ди (первоначально Шан ди встречается в чжоуских текстах наравне с Тянь), и отмену человеческих жертвоприношений. По этим же «политическим мотивам» чжоусцы могли и в других случаях отказаться от использования иньского иероглифа (шан-)ди, заменив его нейтральным иероглифом цзы, который стал обозначать предков аристократов как племени Шан-Инь, так и племени Чжоу. Следствием этого могло явиться также и то, что от «устаревшего» иньского иероглифа Шан ди в Жэнь был оставлен только знак шан – «верхи». Таким образом, первоначальный знак Жэнь утратил свою видимую связь с династией Шан и приобрел «интернациональный» характер. Однако это – только предположение.
Духовная практика в раннем Чжоу была общей как для правящих аристократов Чжоу, так и для покоренных аристократов Инь, которые уничтожены не были, и для поселения которых была выделены специальные земли, подвластные Чжоу. То, что иероглиф «предок» в Жэнь не фиксировался (опускался), а знак справа понимался как традиционные «верхи», снимал существовавшее противоречие в обозначении «предков» у чжоусцев и у иньцев.
Если бы знак Жэнь был введен самим Конфуцием, Учитель вряд ли стал бы молчать относительно того, что́ этот знак означает. Конфуций полагал, что он находится в одинаковом положении со своими учениками, – они видели этот рисунок Жэнь (почти в его сегодняшней форме) в тексте Ши цзин точно так же, как и он сам, и должны были внутренне созреть до такого состояния, чтобы его объяснить. По тексту Лунь юй Конфуций никогда не растолковывает ученикам смысл того или иного фрагмента стиха Ши цзин, но когда ученик оказывается на верном пути, он всегда его поддерживает, поощряет и дополняет. А иногда после этого заявляет: «Ты равен мне, и с тобой можно рассуждать на духовные темы».



