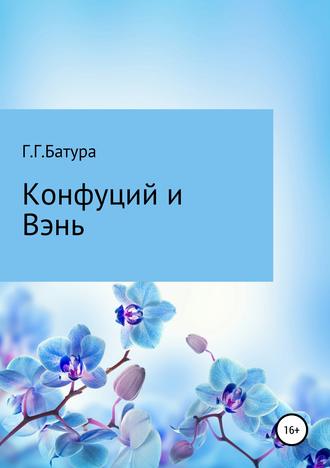
Георгий Георгиевич Батура
Конфуций и Вэнь
Гимны дома Чжоу
Исповедь Сына Неба (Ши цзин. IV, III, 3)
Преклонитесь [перед Небом]! Благоговейте [к величию Неба]!
Небо является защитой для сияющих предков (сянь).
Разве не в должном порядке поддерживается Его мандат?
[Братья, ] не говорите: «О, как далеко в вышине обитают [духи] верха!».
Восходят [на небеса] и спускаются [на землю эти] слуги [Неба] —
[Они] каждый день инспектируют нашу сокровенную жизнь.
[Небо] защищает [своего] Сына, меня, малое дитя, не способное удержать в себе состояние чуткого благоговения.
[Я] каждодневно руководствуюсь Луной для принесения жертвы.
[Я] подражаю (сюэ) [предкам, чтобы] научиться удерживать их лучезарный свет и [самому] светиться ясным светом.
[Я] не противлюсь этому тяжкому бремени [которое несу] на своих плечах.
Моим алтарём (ши) является путь к Дэ, который проложен светлыми предками (сянь).
Конфуцианство и сложная судьба текста Лунь юй
В Китае издавна существует знание о том, что родоначальником конфуцианства является Конфуций, – что именно он создал в V в. до н. э. это философское направление, которое и определило цивилизационный вектор Китая на все последующие тысячелетия. В этом завершающем разделе книги мы хотели бы поспорить с таким пониманием и в какой-то степени восстановить истинную картину возникновения текста Лунь юй, а заодно и самого «конфуцианства».
Начнем наш непростой разговор с самой школы – с термина «конфуцианство». Именно так это философское направление переводится, как правило, на европейские языки, в том числе на наш русский. И было бы логичным, если бы в самом Китае оно тоже имело такое название – происходящее от фамилии Кун (Кун-фу или Кун-фу-цзы). По аналогии с теми известными фактами, что Христос, например, стал основателем христианства, Будда – буддизма, а Заратуштра (европейское Зороастр) – зороастризма.
Однако для самого Китая – это совсем не так. Европейское слово «конфуцианство» – это китайское жу цзя, что в буквальном переводе означает «школа служивых». То есть именно китайское жу цзя при переносе в европейские языки становится «конфуцианством». Отсутствие имени Кун в китайском названии этого философского направления ни у кого вопросов не вызывает, а если и вызывает, то обычно это объясняется скромностью Конфуция. Но нам хорошо известно, что не сам Христос, например, придумал название христианству, и не Будда – буддизму. Более того, текст Лунь юй появился в Китае только через 50–80 лет после смерти Конфуция, если исходить из традиционных представлений о времени его создания. Следовательно, вряд ли уместно было бы вести речь о возникновении названия этой школы во время жизни легендарного Конфуция.
Попробуем установить, когда, все-таки, могло появиться это название жу цзя – «школа служивых» или «школа образованных людей» (другое ее название – жу цзяо, «учение образованных людей»). Сделать это не представляет никакого труда для любого исследователя, хотя бы немного знакомого с историей китайской философии.
Впервые это название громко прозвучало (или, возможно, приобрело общекитайское значение) при знаменитом философе Дун Чжуншу (179?-104? гг. до н. э.), – именно этого человека впоследствии стали именовать «Конфуцием эпохи Хань». Он происходил из знатной семьи, был одним из самых образованных людей своего времени, и именно он явился фактическим родоначальником традиционной конфуцианской идеологии, заимствовав в нее всего понемногу из существовавших в его время школ. В том числе – от даосов, а также из положений школы инь-ян и от учения законников-фа. И речь вовсе не идет о том, что этот человек стал новым проповедником «философии» Раннего Чжоу или Учения Лунь юй, немного сдобренного всеми этими добавками. Фактически Дун Чжуншу создал совершенно новое философское направление, которое не имело ничего общего с Учением заявленным в Лунь юе, и которое стало именоваться «школой служивых» (жу цзя).
Во время Дун Чжуншу, и только благодаря его деятельности, эта школа представителей того сословия, к которому принадлежал и он сам, поднялась на первое место в рейтинге философских школ Китая. Хотя следует отметить, что исторический путь такого «псевдоконфуцианства» был тернистым, и оно иногда уступало пальму первенства другим течениям. Но при этом следует также отметить, что того подлинного «конфуцианства», которое известно читателю из практики Чжоу и текста Лунь юй, в Китае уже никогда не было.
Мы не будем сейчас подробно рассматривать философские взгляды Дун Чжуншу – они разительно отличаются от того Учения, которое зафиксировано в правильно понимаемом тексте Лунь юй, – а ограничимся следующими пояснениями. После времени Цинь Шихуана Китай усиленно искал идеологическое (или, иначе, философское) обоснование для такого государственного управления, которому бы не грозили катастрофы периода Чжань го («Сражающихся царств») и времени Цинь Шихуанди. За время правления этого диктатора, объединившего разрозненные княжества Китая в единое государство с помощью жестких мер, легизм-фа себя окончательно скомпрометировал. Китай был уже «сыт по горло» всякими войнами, насилием, постоянными сменами «гегемонов» в Поднебесной – и искал спокойной жизни. Человек, который предложил решение вопроса мирного правления страной, и был Дун Чжуншу.
Почему же, в таком случае, его впоследствии почти «перепутали» с Конфуцием, отдав пальму первенства в создании «конфуцианства» (жу цзя) известному всему миру Кун-фу-цзы? Потому что базовой терминологией для философии Дун Чжуншу во многом стала та же самая терминология периода Раннего Чжоу, которая впоследствии – в гораздо более яркой форме – проявила себя в тексте Лунь юй. Главные термины (или иероглифы) всех рассуждений Дунь Чжуншу – это термины Лунь юя: Тянь, Дао, Дэ, Ли, Сяо, цзюнь («государь») и др. И когда пришло время возвыситься Лунь юю, – соответственно «принизилось» и ушло в тень подлинное значение Дун Чжуншу. Так было в самой Поднебесной, ну а европейская цивилизация познакомилась с Китаем в тот уже достаточно поздний период, когда «впереди» и самым главным был только Конфуций. И у европейцев по этой причине китайское жу цзя естественным образом стало восприниматься как «конфуцианство».
Однако если присмотреться к этим древним иероглифам в произведениях Дун Чжуншу внимательнее, то можно констатировать, что ничего общего с содержанием духовной практики Раннего Чжоу и Лунь юя там нет: как мы уже отмечали, старые иероглифы приобрели новые значения и использовались в философии Дун Чжуншу именно в этих своих новых значениях. Мы попробуем сейчас показать читетелю, что ко времени расцвета философского творчества Дун Чжуншу известного всем текста Лунь юй еще не существовало, – а значит, в Китае еще не появился тот реальный «Конфуций», которого впоследствии узнал весь мир.
И все же нам следует сказать здесь хотя бы несколько слов о философии Дун Чжуншу, раз уж мы уделяем этому человеку так много внимания. Его главным трудом был комментарий к древнейшей китайской летописи Чунь цю («Вёсны и осени»), – комментарий, который имел название «Чунь цю фань-лу» («Обильная роса на летописи “Чунь цю”»). Эту древнюю летопись философ просто боготворил и считал, что именно в ней следует искать правильный путь к управлению государством. Главной целью «учения служивых», по мнению Дун Чжуншу, было вычленение скрытого поучения для правителя при анализе событий Чунь цю.
Обратим внимание читателя, что какого-либо труда, посвященного Лунь юю, Дун Чжуншу не написал. Это может свидетельствовать, в том числе, и о том, что к этому времени Лунь юя не существовало. Светочем всей философии Дун Чжуншу были «Вёсны и осени». Что это за книга, и какие цели она преследовала при своем создании? – об этом делаются только предположения. Внешне – это очень простой текст-хроника, почти конспект, содержащий погодичное перечисление событий, происходивших в древнекитайском царстве Лу (родина традиционного Конфуция) с 722 г. по 479 г. до н. э.
Бесспорно то, что существовала какая-то скрытая связь между созданием этого текста и гаданиями царского двора на костях животных, в процессе которых Сын Неба обращался к «миру духов». Возможно, эта Летопись явилась неким «хронологическим ответвлением» или каким-то естественно вытекающим следствием записей о гаданиях. Общей характеристикой этих записей была жесткая привязка к хронологии. И судя по всему, древний китаец видел в той жесткой последовательности событий, которую он мог зафиксировать в виде упорядоченного хронологического текста, гораздо больше «мистики», чем человек современный. Недаром эта «политическая» летопись царства Лу получила в Китае устойчивое название «Вёсны и осени». Какая тут связь между династийными событиями и временами года? Если записи на костях – это первый подлинный шаг китайской письменности, то «Вёсны и осени» – это шаг второй. И оба они созданы – с «оглядкой на духов». Вот что пишет об этом комментарии Дунь Чжуншу А. С. Мартынов (Древнекитайская философия. Эпоха Хань. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990, стр. 111):
В формировании идеологии эпохи Хань [комментарий] «Чунь цю фань-лу» Дун Чжуншу сыграл важную роль, заложив основы ортодоксальной конфуцианской доктрины. <…> Заслуга Дунь Чжуншу состоит главным образом в том, что сообразуясь со временем, с изменившимися социальными условиями в единой империи и с развитием представлений о природе и обществе, он дополнил основные конфуцианские постулаты положениями натурфилософских концепций (в частности, положениями Цзоу Яня о пяти стихиях), легистскими нормами и разработал основы того конфуцианского учения, которое стало официальной идеологией правящих классов.
Приведем несколько характерных цитат из этой работы Дунь Чжуншу. В первой главе этого трактата он пишет (там же, стр. 112): «Путь (Дао) “Чунь цю” – почитать Небо (Тянь) и подражать древности». То есть в этом своем высказывании Дун Чжун шу фактически повторяет слова Конфуция, если пренебречь его чересчур пристальным вниманием к тексту Чунь цю. И далее, рассматривая конкретные события, зафиксированные в Чунь цю, он пишет (там же, стр. 113):
«Чунь цю» при обсуждении дел самым важным считает характер замыслов. <…> Это ли [не пример того, как] государь следит за Небом? Поэтому принижать народ и тем возвышать государя, принижать государя и тем возвышать Небо – в этом великий принцип летописи «Чунь цю».
Ну и, наконец, еще одна характерная цитата из труда этого ученого (стр. 115, 116):
Если обобщить [содержание всех этих записей], то важнейшим [в летописи] окажутся десять принципов [подхода к событиям]. Десять принципов – это то, <…> откуда проистекает преобразующее воздействие государя [на весь ход событий]. <…> Если все [эти десять указаний] применять на практике, то тогда [правитель может добиться того, что] распространяя гуманность (Жэнь), [он в ответ получит] исполнение долга. Тогда благая сила (Дэ) государя разольется широко и затопит [все пространство в пределах] четырех морей. Темное и светлое начало (инь и ян – Г. Б.) будут находиться в гармонии.
Для сведения читателя поясним, что «первый принцип» Дунь Чжуншу – это «выявить в событии главное», второй – «выявить, к чему это событие привело», третий – «предложить способ улаживания этого или подобного события» и т. д. (см. стр. 115). Итак, именно Дун Чжуншу создал, а точнее впервые сформулировал в своей философской программе, учение «школы служивых» (т. е. «псевдо-конфуцианства»).
Именно при Дун Чжуншу был придан государственный статус тем древним книгам, которые известны сегодня под названием «конфуцианских». Состав этого «Пятиканония» следующий: 1). летопись Чунь цю («Вёсны и осени»); 2). Ши цзин («Книга стихов»); 3). Шу цзин («Книга истории»); 4). Ли цзи («Книга ритуалов»); 5). И-цзин («Книга перемен»).
Из этого собрания первые две – это действительно старейшие книги в истории Китая. Здесь следует отметить, что сам термин «канон» (цзин) или «канонический» (тоже цзин), в словаре Эръя имеет неустойчивое содержание, а это свидетельствует о том, что даже ко времени окончательной редакции словаря иероглиф цзин не приобрел своего традиционного значения. Первоначально все эти книги не имели в своем названии приставки цзин.
Как видим, в этом первом каноническом собрании важнейших «конфуцианских» книг Китая отсутствует Лунь юй. И это – через 400 лет после времени жизни Конфуция! Для любого разумного исследователя такое положение дел покажется странным. Здесь можно добавить, что как заявляет традиция, сначала было сформировано собрание из шести книг («Шестоканоние»), которое дополнительно включало в себя «Книгу музыки». Но эта книга впоследствии была утеряна (или ее вообще никогда не существовало), вследствие чего «Шестоканоние» сократилось до рассматриваемого нами «Пятиканония».
Включение в первый «конфуцианский» канон гадательной «Книги перемен» свидетельствует о том, что Китай, современный Дун Чжуншу, уже ничего не знал о подлинном Дэ. Напомним читателю, что получение человеком Дэ и «гадание» этим же человеком по «Книге перемен» – это конфликтующие по своей внутренней сути явления. Тот, кто получает Дэ, гадать о будущем никогда не станет, т. к. свои поступки он соотносит только с «интенсивностью» Дэ по принципу детской игры «холодно» – «жарко». Такой человек своим земным будущим не интересуется. «Если утром услышишь о Дао (т. е. получишь опыт Вэнь), то не беспокойся, если вечером умрешь». Почему? – Потому что такому человеку ничего не грозит, – он уже достиг своей главной цели. Обратная дорога в мир «духов верха» для него открыта. Следуя этой логике, можно сказать, что те, кто составлял канон, опыт Вэнь не имели. Или – они не читали Лунь юй (по той причине, что этого текста еще не существовало).
Здесь необходимо дать еще одно небольшое пояснение относительно первоначального списка канонических книг. «Книга ритуалов», которая тоже вошла в канон, не имеет ничего общего с подлинными древними ритуалами Чжоу. Исторические документы эпохи Хань свидетельствуют, что к этому времени китайцы уже ничего не знали о древних ритуалах. Правители нового Китая безуспешно разыскивали тех людей, которые могли бы хоть что-то знать об этих древних «богослужениях», и когда никого не находили, создавали свои «эрзац-подобия», – с тем, чтобы хоть как-то приблизиться к славному времени «совершенномудрых». Добавим, что именно при Дун Чжуншу, а не при Конфуции, в Китае впервые были введены экзамены на государственные посты, основанные на знании книг. То есть вовсе не Конфуций и не его Лунь юй явились подлинной причиной появления в Китае этой практики.
Коротко подытожим: если традиционный Лунь юй, это, как известно читателю, «учебник» для преобразования внутреннего мира человека, то введенное Дун Чжуншу «конфуцианство» – это, фактически, набор внешних приемов для успешного правления государством, – что-то наподобие методики, созданной с использованием иероглифов, которые были популярны в «счастливые времена» древнего Чжоу.
Объективными свидетелями того факта, что известного нам текста Лунь юй к этому историческому времени еще не существовало, являются два самых авторитетных древних словаря Китая – Эръя и Шо вэнь. Словарь Эръя был создан приблизительно в III в. до н. э., т. е. до времени правления Цинь Шихуана, затем дополнялся вплоть до I в. до н. э. и, наконец, в эпоху Сун вошел в конфуцианское «Тринадцатиканоние». В этом словаре иероглиф Вэнь отсутствует, что не могло бы иметь места, если бы текст Лунь юй к этому времени уже действительно существовал. В качестве отдельной словарной глоссы в этом словаре также отсутствует и «главный» иероглиф Лунь юя – Жэнь. Но в главе «Истолкование земель», которая не имеет никакого отношения к «человеколюбию» или «гуманности», – сказано следующее (9(7).047): «Люди земель Дапин обладают гуманностью (Жэнь), из Даньсюэ – мудростью, из Дамэн – держат слово, из Кунтун владеют военным искусством» («Китайский словарь “Эръя” в идеографическом и этнокультурном аспектах»: монография/Т. Е. Шишмарева. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016, стр. 206). И это тоже свидетельствует о незнании создателями словаря книги Лунь юй (сам единичный факт подобного наличия иероглифа Жэнь в словаре – это, скорее, поздняя приписка или дань уважения редкому иероглифу Ши цзин). Заявлять о том, что «люди Дапин обладают Жэнь» равносильно тому, что в «землях Ярославля живут Христы (или Конфуции)».
В более обширном и упорядоченном словаре Шо вэнь (I в. н. э.) отсутствуют, как мы уже упоминали, два важнейших иероглифа из первого суждения Лунь юя (фактически, из «зачина» этой книги): иероглиф пэн («псевдо-друг») и иероглиф сюэ («псевдо-учение»). Это не могло бы иметь место в том случае, если бы Лунь юй к этому времени уже был известен. Ну и теперь продолжим наш исторический экскурс в «конфуцианское» каноноведение.
В эпоху Тан (619–907 гг.) в Китае прославился известный комментатор Кун Ин-да (574–648), который по указанию императора написал фундаментальный труд под названием «Правильные толкования “Пяти канонов”». После чего именно этот его труд стал использоваться в качестве образца для экзаменов на чиновничьи должности. Как видим, и в это время Лунь юй в качестве канонического текста отсутствует. А следовательно, он не входит в число почитаемых книг не только в Китае, но даже в самом конфуцианстве («школе служивых»).
Впервые в качестве текста, почитаемого на государственном уровне, Лунь юй появляется только в эпоху Сун (960–1279), когда к традиционному «Пятиканонию» было добавлено так называемое «Четверокнижие», которое включало в себя следующие тексты: 1). Да сюэ («Великое учение», текст является переработанной главой книги Ли цзи из «Пятиканония»); 2). Лунь юй; 3. Чжун юн («Учение о середине», приписываемое ученику Конфуция); 4). Мэн-цзы (философ, главный «последователь» «Конфуция», который жил приблизительно через 150 лет после предполагаемого времени жизни Учителя).
И уже только после этого «Четверокнижие» становится, фактически, главным среди всех собраний книг, – и именно оно используется в качестве бызовых текстов для сдачи государственных экзаменов. Однако главную роль в этом новом собрании играет короткий текст Да сюэ, а не Лунь юй. Впоследствии все эти важные «конфуцианские» книги были собраны в конфуцианское «Тринадцатиканоние», куда был включен и упомянутый выше словарь Эръя. Причина включения словаря в сборник канонов точно неизвестна, но скорее всего, это произошло потому, что в эпоху Хань сложилось такое мнение, что этот словарь создавался в качестве некоего пособия для разъяснения терминов «конфуцианских» книг, что звучит очень неубедительно. Сам факт включения словаря в конфуцианский Канон свидетельствует о достаточно неясном представлении самих интеллектуалов Китая о сути этого философского направления.
В сфере интересов китайской философии и государственной идеологии Лунь юй очутился только благодаря творчеству неоконфуцианских философов, – где-то в период от X до XII вв. н. э. Наиболее известным представителем неоконфуцианцев был уже знакомый читателю Чжу Си (1130–1200). Именно он написал тот комментарий к «Четверокнижию», который стал считаться классическим, в том числе, для традиционного понимания текста Лунь юй. Трактовка всей терминологии Лунь юя – включая Дэ, Жэнь, Вэнь – в этом комментарии также требует заявленного Конфуцием «исправления имен» (чжэн мин).
После всех этих исторических экскурсов, следует, наконец, ответить на вполне ожидаемый вопрос читателя: если подлинного Конфуция мы так и не обнаружили, в таком случае каким образом мог появиться текст Лунь юй? Кто является его создателем (или создателями) и в какое время этот текст мог возникнуть? Для ответа на эти непростые вопросы нам тоже помогут свидетельства, зафиксированные в древних текстах Китая.
Знаменитый историк Китая Сыма Цянь (145?-90? до н. э.) был учеником уже известного нам философа Дун Чжуншу, а также тоже очень известного – Кун Аньго (однофамилец и, как полагают, потомок Конфуция), – человека, с которым читателю вскоре предстоит познакомиться ближе. Бесспорно то, что близкое знакомство этих выдающихся интеллектуалов Китая могло внести – и скорее всего, действительно внесло – определенные коррективы в те исторические записи, которые вышли из-под кисти Сыма Цяня.
В данном случае для нас интересно то, каким образом этот историк описывает (хотя и немного противоречиво), те жестокие преследования, которым подверглось «конфуцианство» в эпоху Цинь Шихуана (такое философское направление, по мнению самого Сыма Цяня, уже существовало, – т. е. существовало еще до Дун Чжуншу). Историк свидетельствует о том, что у населения в стране были изъяты и сожжены все книги Ши цзин и Шу цзин, а также книги «ста [философских] школ». Однако о том, что в числе них были сожжены также тексты Лунь юя, существуют только предположения более поздних исследователей. Скорее всего, такого сборника ко времени Цинь Шихуана не существовало. При этом у исследователя этого вопроса не может быть сомнения в том, что Сыма Цянь был знаком со всеми книгами, которые были написаны в Китае в это время. Процитируем слова Сыма Цяня о «сожжении книг» в переводе Р. В. Вяткина и В. С. Таскина. Сыма Цянь сообщает, что сожжение было сделано по предложению главного советника Цинь Шихуана Ли Сы, и вот что он пишет далее, цитируя слова этого советника (Исторические записки, Т. II, глава 6, М.: Восточная литература, 1975):
Я предлагаю, чтобы чиновники-летописцы сожгли все записи, кроме циньских анналов; все в Поднебесной, за исключением лиц, занимающих должности ученых [при дворе], кто осмеливается хранить у себя Ши цзин, Шу цзин и сочинения ученых ста школ, должны явиться к начальнику области или командующему войсками области, чтобы там свалить [эти] книги в кучу и сжечь их. Всех, кто [после этого] осмелится толковать о Ши цзине и Шу цзине, [подвергнуть] публичной казни на площади. <…> Не следует уничтожать книг по медицине, лекарствам, гаданиям на панцире черепах и стеблях, по земледелию и разведению деревьев. <…> В повелении [императора] говорилось: «Быть по сему».
Как видит читатель, запись явно надуманная и не вполне логичная. Во-первых, нереальна сама постановка вопроса. Дело показано таким образом, что первый советник что-то сказал, а Цинь Шихуан исполнил. Даже если это было действительно так, император никогда бы не допустил, чтобы подобные обсуждения были «стенографированы» в том виде, как это происходило на самом деле. Исходя из исторических данных, относящихся к империи Цинь, этот человек управлял страной самостоятельно, – он не был слепым исполнителем чьей-либо воли. Ясно, что эта преамбула о «советнике» введена исключительно с той целью, чтобы придать тексту впечатление «хроники». Записано так, что у читателя невольно складывается впечатление, что сам Сыма Цянь присутствовал на этом «совещании» у Цинь Шихуанди, – что невозможно, исходя из времени жизни историка.
В качестве подтверждения правоты наших слов – о том, что Ли Сы не мог фигурировать в каких бы то ни было официальных документах в качестве «генератора идей» – приведем цитату из уважаемой всеми китайцами древней книги Шу цзин (Чтимая книга, стр. 472). Этот текст представлен в качестве одного из поучений Чжоу-гуна:
Замыслишь что-то доброе иль добрый план имеешь, ты ко двору владыки своего прибудь и доложи о том. Когда ж затем успешно [дело] ты вне двора свершишь, то говори: «Сей план и замысел сего – [всё это] только моего владыки добродетель (Дэ)». Ах! Коль подданный так [поступает], [он] будет добр, [а повелитель] просияет!
Нет сомнения в том, что подобное «сожжение книг» было бы отнесено к «доброму плану», а следовательно, – имя Ли Сы во всей этой истории появиться никак не могло. И раз уж мы обратились к книге Шу цзин, то следует особо отметить, что категории Дэ, Жэнь, Тянь мин и др. используются здесь уже в своем всецело «испорченном» виде (требующем чжэн мин). А следовательно, тексты этой книги не имеют никакого отношения ко времени чжоуской древности и составлены значительно позднее. Какой текст читал Конфуций, когда на эту книгу ссылался, мы не знаем. Вполне вероятно, что его уже просто не существует.
И если давать объективную оценку самым древним китайским текстам, то тексты Лунь юй и Ши цзин выглядят несравненно богаче, мудрее и интереснее этого во многом наивного, а в чем-то надуманного и гораздо более позднего «исторического документа». Но если оценивать Шу цзин с моральной точки зрения, то этот текст – всецело прекрасен. Он призван сформировать у правителя государства высокие нравственные качества и ответственность за управление вверенным ему народом. Ответственность – перед всевидящим Небом. И в этом – главное отличие подлинной «китайской древности» от «древности европейской», в которой главный упор всегда делался на индивидуальность, на судьбу конкретного человека.
Второе, если вернуться к вопросу «сожжения книг»: само это сожжение было лишено всякого смысла. Для чего это делать? Цинь Шихуан был человеком со здравой логикой, и он понимал, что это никак не изменит политическую ситуацию в стране, которую он и без того жестко контролировал. К этому времени Китай был безграмотным, за исключением небольшой горстки чиновников, и уничтожать тексты было бессмысленно. «На руках у населения» никаких книг быть не могло, и сжигать было нечего. Перечисленные в тексте «исключения» – книги по медицине, лекарствам и пр. – это тоже, судя по всему, поздняя интерполяция: в Китае того времени подобных книг существовать не могло.
Об этом можно судить и по наличию в заявленном списке книг по «гаданию на панцирях черепах» (эта тема часто упоминается и в Шу цзин). Подобные «книги» не могли существовать в принципе, потому что гадание на панцире в древности проводилось только правителем – это была его исключительная прерогатива, – причем это действие относилось к разряду священных и закрытых, т. к. было связано с общением с «миром духов». Это была высочайшая тайна – сначала Сына Неба, а затем правителя, и она никогда не могла быть профанированной в виде какой-либо «поясняющей» книги. Это все равно, что включить в данный список широко распространенных текстов «книги по общению императора с духами». Более того, ко времени Цинь Шихуана практика гадания на костях оставалась уже в далеком прошлом, что было прекрасно известно Сыма Цяню. Все эти записи о «книгах» и о «черепахах» добавлены, скорее всего, не самим Сыма Цянем, а более поздним компилятором, который уже не имел ни малейшего представления о реальном положении дел в той эпохе.
Среди этих заявленных «ста школ» были и книги «легистов», – тех философов, идеологией которых руководствовался Цинь Шихуан во время своего правления, однако для этих книг исключения не сделано. Кроме того известно, что Цинь Шихуан регулярно приносил жертвы предкам, а все подобные вопросы находились в компетенции «конфуцианцев». И неужели все это тоже подлежало сожжению? Вызывает подозрение и сам перечень книг, подлежащих сожжению: те из них, которые названы поименно, причем не единожды, – это наиболее безобидные для Империи книги, а все остальное – это нечто совершенно неконкретное. Заявлять о том, что преследовалась цель исключить появление каких-либо комментариев, кроме государственных, к Ши цзину и Шу цзину, тоже нелогично.
Из сообщений Сыма Цяня можно сделать предположение, что при Цинь Шихуане в стране существовали только две известные книги – Шу [цзин] и Ши [цзин] (почему в этот список не попали «Вёсны и осени» – это загадка), а все остальное сказано «для красного словца», причем, значительно позже самих событий. Возможно, все это является поздними дополнениями, внесненными достаточно безграмотными чиновниками.
Для чего была сделана такая запись о «сожжении»? Ответ здесь простой: надо было как-то оправдать наличие в Китае той «бреши» в литературном отношении, которая вдруг обнаружилась во время становления династии Хань, но которой, по мнению китайских интеллектуалов, не было в древние времена Инь и Чжоу. Ко времени Хань в Китае уже активно циркулировали легенды о тех баснословных временах, когда в стране «процветала литература Вэнь». И в то же самое время в начальный период династии Хань неожиданно обнаружилось, что никаких книг в стране нет.
Исследователям истории Китая известно, что Цинь Шихуан, как действительно умный и расчетливый политик, достаточно уважительно относился к «конфуцианскому» учению. Более того, он стремился соблюдать ритуал и даже пытался включить некоторые положения конфуцианского учения в принципы своего правления. Здраво рассуждая, «сожжение книг» никак не вписывается в разумную логику его поведения. Правление Цинь Шихуана оказалось недолгим только по той причине, что он неожиданно умер от неизвестной болезни.
Следует еще раз напомнить читателю, что подлинные корни «конфуцианства» (жу цзя) необходимо искать в представлениях китайцев о «Золотом веке» управления страной прославленным Вэнь-ваном и его последователем Чжоу-гуном, – управления с помощью почти обожествленных категорий Дэ, Сяо, Жэнь и Вэнь. Одним из главных положений позднего «управленческого» конфуцианства стало то, что истинный правитель является «родным отцом» для всего народа и неустанно заботится о его благосостоянии, – с помощью своего «человеколюбия» (Жэнь) и «добродетели» (Дэ). И в ответ на это он получает поведение народа в соответствии с «древним» пониманием термина Сяо («сыновняя почтительность», «любовь к родителям»).
Итак, возвратимся к Сыма Цяню и его истории о «сожжении книг». Следует отметить, что даже сами китайцы не всегда верили в эти «сказки». Более того, сегодня у большинства исследователей нет сомнения в том, что в ханьские времена в текст Сыма Цяня были внесены правки с чисто политическими целями. Высказывалось разумное предположение, что возможно, при Цинь Шихуане были подвергнуты казни и сожжены записи вовсе не «конфуцианцев», а тех «ученых-магов», которые веками обманывали «жизнелюбивых» правителей и императора Поднебесной своими обещаниями создать «эликсир бессмертия» или отыскать в дальних морях «острова бессмертных блаженных» с «живой водой». Для этих целей организовывались дорогостоящие экспедиции за счет государственной казны. И все такие экспедиции каждый раз оканчивались провалом. Возможно, этих-то «магов» и решил, причем, вполне справедливо, наказать Цинь Шихуан.
То есть все эти сообщения о сожженных текстах следует признать целенаправленным вымыслом. И как среди них смогла оказаться, например, безобидная древняя «Книга стихов», понимаемая всеми сегодня (но и в те древние времена) в стиле русской народной песни «Во поле березонька стояла, люли-люли стояла»? Принимая во внимание тот очевидный факт, что ханьских разъяснений тайного «политического» смысла стихов к этому времени еще не существовало.



