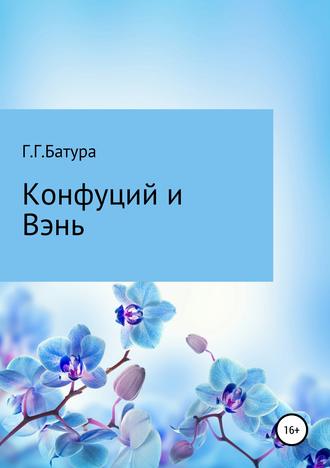
Георгий Георгиевич Батура
Конфуций и Вэнь
Суждение 2.9
2.9. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Я (у) *одобрял (юй, т.ж. «*соглашаться с», «*высоко ценить», «*быть заодно») Хуэея в [наших] разговорах (янь, т.ж. «*вести обсуждение, дебаты», беседа») об окончании жизни (чжун, т.ж. «кончина», «смерть», «скончаться», «умереть») [и о] белом цвете траура (бай, т.ж. «ритуальный цвет Иньской династии»), [и он] не (бу) избегал (вэй, т.ж. «противодействовать», «уклоняться») [таких бесед, хотя при этом] был похож (жу) на глупца (юй, т.ж. «дурак», «тупица»). [Он] – слабенький (туй) ребенок (эр, т.ж. «мальчик», «дитя») из провинции (шэн), [и я был] несправедлив (си, т.ж. «быть пристрастным») к нему (ци). [Он] *в изобилии (и, т.ж. «*во множестве») обладал нужными качествами (цзу, т.ж. «основа», «основание», «быть способным к чему-л.», «постигать меру», «быть достаточным (полным)») для (и) [своего] развития (фа, т.ж. «давать всходы», «раскрываться»). Хуэй – не (бу) был (е) глупцом (юй)».
В этом суждении Конфуций сетует больше на себя, чем на Хуэя. И начальное местоимение «Я» – это обвинение в свой адрес. Традиционный перевод трактует фразу чжун бай как «целый день», т. е. так, что Учитель беседует с Хуэем «весь день напролет», и при этом Хуэй слушает, но не «возражает» (бу вэй – такой перевод тоже возможен), – «как будто глуп» (жу юй).
И здесь возникает сразу же несколько вопросов. Реально ли такое положение дел, чтобы Конфуций впустую, безответно расточал бы свои слова перед молодым учеником в течение целого дня – с утра до вечера? Второй вопрос: Хуэй – это самый способный из всех учеников Конфуция, и почему, в таком случае, он не был в состоянии ничего возразить или ответить? Но может быть, он выглядел таким «непонятливым» только по отношению к этой конкретной теме разговора, – именно к ней, а не к какой-то другой? А Конфуцию, напротив, эта тема была очень важна, и он ее часто затрагивал в разговоре со своим самым способным учеником? И, наконец, последний, главный вопрос: из традиционной трактовки непонятно, о чем конкретно Конфуций целый день – практически в виде монолога – что-то «втолковывал» своему любимому ученику? Почему при таком общепринятом понимании не обозначена сама тема этой продолжительной беседы? Или для самого Конфуция это было совсем неважно, а гораздо важнее – просто поораторствовать перед любыми «ушами», убив как-то свое время?
Основное значение иероглифа чжун – это «конец», «окончание», «закончиться», «прийти к концу», и уже отсюда – «кончина», «смерть», «скончаться», «умереть». Значение «весь», «целый», которое мы видим в традиционных переводах, появляется у этого иероглифа значительно позднее. Что-то подобное можно сказать и об иероглифе бай. Первоначально он означал «белый цвет траура» (он остается таковым и в сегодняшнем Китае). Значение «дневной», «днем», «при свете» появляется у этого иероглифа значительно позднее, – в виде мысленной трансформации «белого цвета» в «белый свет», и скорее всего, такого значения этот иероглиф при жизни Конфуция еще не имел.
Более того, уже зная предмет основного интереса Конфуция и главное направление его мыслей, а также то, что о себе самом он говорит как об иньце (это суждение – впереди), можно вполне обоснованно утверждать, что он никогда бы не стал использовать иероглиф бай – «ритуальный цвет династии Инь» в качестве светского значения «день». То есть «ясно, как Божий день», что традиционная трактовка этого значимого иероглифа древности – это очередная натяжка, которая была предпринята для «понятного» объяснения этого суждения.
Если попытаться проанализировать значение «белый», оставаясь в сфере древнекитайских представлений о жизни и смерти, то рисунок иероглифа бай повторяет знак «солнце» (жи) и отличается от него только тем, что у бай присутствует короткий штрих (так наз. «точка») сверху. Этот иероглиф означал все «белое», «бледное» и «тусклое», т. е. фактически изначально характеризовал внешний вид «привидения». Привидение тоже «тускло светится» (если сравнивать с «солнцем»), т. е. как бы обладает собственным внутренним светом. Отсюда – «белые одежды» при трауре: китайцы думали о покойниках исключительно как о живых существах, перешедших в область жизни «привидений» или «духов». И поэтому из солидарности с ними тоже одевали «одежды привидений», тем самым как бы подтверждая свое единство с миром умерших в это скорбное время похорон.
И нет ничего удивительного в том, что для самого Конфуция подобная тема разговора представляла исключительный интерес: здесь и сам «переход» в мир предков, и «ритуал» в виде возложения на себя «белых одежд». И то, что Конфуций искал собеседника в этом вопросе в лице Хуэя, свидетельствует о том, что он ему доверял, и что Хуэй был ему близок по духу. Но Конфуция при этом несколько раздражало то, что Хуэй в таких беседах чаще молчал, – был «как дурак» (юй).
Через какое-то время после беседы Конфуций побеждал в себе это невольное раздражение, оправдывая Хуэя тем, что тот – «дитя» (эр) и что он со временем наверстает упущенное. В современных текстах Лунь юй на вэньяне вместо иероглифа эр – «ребенок» можно встретить омоним эр, представляющий собой сочинительный или противительный союз («и», «а», «но»), что делается, конечно, от непонимания смысла сказанного.
И все-таки, в чем Конфуций кается? Дело в том, что Хуэй умер очень рано, – в юношеском возрасте. И он не мог не предчувствовать своей ранней смерти. И как любой молодой человек – как любой человек земли – он этого страшился, хотя и молчал об этом перед окружающими. И он просто не мог искренне поддерживать беседу о смерти даже со своим любимым Учителем. Такая беседа возвращала его мысли к собственной кончине.
Конфуций видел такое необычное поведение Хуэя, – Конфуций именно в его лице хотел иметь настоящего собеседника по этим важным для него вопросам, – но не понимал причин уклонения Хуэя от этой темы разговора. И у него возникало естественное раздражение. И впоследствии он не мог себе этого простить, прекрасно понимая, что физическая «хилость» Хуэя всегда была у него перед глазами, а он этого не замечал и относился к своему лучшему ученику так же, как ко всем остальным. Конфуций понял это только после того, как Хуэй умер. Данное суждение – это запоздавшее «прости» Учителя, обращенное к «духу» своего любимого ученика. Такое «прости», которое не пощадило даже себя самого: иероглиф «глупец» Конфуций адресует, в первую очередь, себе самому.
В завершении рассмотрения этого суждения можно обратить внимание читателя на еще одну возможную неточность или, правильнее, двойственность толкования фразы этого суждения (что для Лунь юя скорее норма, чем исключение). Это не имеет принципиального значения для понимания общего смысла сказанного Конфуцием, но наглядно характеризует главный вектор в исторической трансформации смысла высказываний Лунь юя. Смысл суждения изначально воспринимался таким образом, что Хуэй – это ученик «из провинции». Отсюда – все рассуждения древних комментаторов относительно «биографии» этого ученика.
Иероглиф шэн (БКРС № 2770) – это действительно «провинция», «губерния», «область». Но при этом он имеет еще целый ряд таких древних значений, которые переводчиками в расчет не принимаются. Во всех этих вариантах рисунок иероглифа остается тем же самым, но читается иероглиф уже по-другому. Например, при чтении сянь – это «*рит. осеннее жертвоприношение», а в случае син – «*удостоиться похвалы», «*получить одобрение», «*одобрить», «*оценить».
То есть речь здесь (если отбросить традицию) может идти также о том, что Хуэй – вовсе не «из провинции», а что он когда-то «получил одобрение» Конфуция за свое усердие на ученическом поприще, – что Конфуций его сразу «оценил». Или второе понимание – хотя это представляется еще более непонятным читателю: что Хуэй – это «дитя *осеннего жертвоприношения» (эр сянь). И именно при таком понимании текста иероглиф эр («дитя») желательно было трансформировать во что-то другое, например, в союз-омоним, о котором мы только что упомянули.
Фразу эр сянь можно объяснить исходя из содержания традиционного обряда, проводимого в древнем Китае. В одной из книг известного российского синолога А. Маслова («Загадки, тайны и коды цивилизации майя», стр. 244) утверждается, что сам автор уже в наши дни был тайным свидетелем проведения подобного обряда в современном Китае, в деревне, ночью. Сегодня этот ритуал проводится так называемыми приверженцами «секты Дао» (в Китае официально запрещена), причем сами приверженцы утверждают, что этот обряд берет свое начало в глубокой древности, а значит, сначала он никакого отношения к «Дао» не имел.
Суть его заключается в том, что в качестве благодарности духам за хороший урожай (осенью), или в качестве своего рода содействия получению будущего урожая (весной), жители общины (или члены секты) собираются ночью на особое ритуальное поклонение духам – с ритмическими песнями и танцами, под руководством наставников, – поклонение, которое заканчивается беспорядочным половым сношением всех собравшихся. Происходит это после того, как участники впадают в состояние транса, т. е. фактически теряют контроль над своими действиями. Один из распорядителей этого обряда, объясняя происходившее, сказал Маслову, что таким образом происходит «совокупление с духами». В переводе на наш европейский язык это означает, фактически, особую форму «жертвоприношения» духам. А ко всему тому, что делалось и делается «во славу» духов, в Китае всегда относились с особым уважением.
Точно так же, например, как для древних евреев было свято слово Бога Яхве, приказывающего им войти в Землю Обетованную и уничтожить всех ее обитателей, которые издавна жили на этих землях. И за подобные «аморальные» действия этих евреев никто никогда не осуждал, а иначе Ветхий Завет (Святое Писание иудаизма) не стал бы составной частью христианской Библии. Такое поведение древних евреев – но уже через тысячелетия – фактически повторили белые завоеватели Нового Света, которые – вооружаясь именно этими «Библейскими истинами» – физически уничтожили всех «не христианских» аборигенов Америки.
Как подмечено в одной мудрой притче: «И что́ ты видишь щепку в глазе брата твоего, а корабельного бревна в своем глазу не замечаешь?». В переводе на наш современный язык это означает: «Не судите, и не судимы будете». Речь в данном случае идет о христианском осуждении «разврата» в древнекитайском обществе. Такой мысли в голове просвещенного читателя быть не должно.
Дети, рождающиеся от такого обряда «поклонения духам», считались «детьми духов». Вот одним из таких «детей», возможно, и был наш Хуэй. При этом следует сделать очень важную оговорку для нашего христиански ориентированного читателя. Ни Конфуций, ни сам Хуэй не видит ничего противоестественного или осуждающего в таком ритуале: он освящен древней традицией, идущей из глубины веков, и направлен на почитание духов предков. А это – законный путь к достижению «райских обителей». У таких «детей духов», как Хуэй, не было отца, а отсюда – возможная ущербность в их физическом развитии и их изначальная внутренняя устремленность к «потустороннему миру».
Суждение 2.10
Данное суждение является одним из самых непонятных и запутанных, и для него возможны только какие-то индивидуальные предположения о возможном смысле, основанные на логике и общем контексте. Не исключено, что это суждение претерпело порчу в процессе переписывания. И тем не менее, попробуем выстроить некое логическое исследование этого мудреного суждения. И возможно, вдруг окажется, что это суждение вовсе не такое запутанное и мудреное, как нам показалось, а самое что ни на есть обычное для того Конфуция, которого мы уже знаем. Для начала приведем традиционную точку зрения, которая лучше всего отражена в переводе Л. С. Переломова:
Учитель сказал: «Наблюдаю за его поступками, постигаю их побудительные причины, уясняю, что успокаивает его. Разве может такой человек скрыть свою сущность?».
Сразу же скажеми: вообще-то не очень складно. Смысл получается такой, что Конфуций говорит все это от своего имени: именно он «наблюдает», он – «постигает», и именно от него такой человек «скрыть свою сущность» не может. При этом переводчик смягчил последнюю вопросительно-восклицательную фразу, не продублировав ее, как это сделано в подлиннике. Более правильно эту концовку дает И. И. Семененко: «Где укрываться человеку? Где укрываться человеку?». Или, если уже совсем дословно: «Человеку (жэнь) где (янь) скрыться (соу)?».
И при таком понимании текста получается, что человеку в этом описываемом положении действительно негде «скрыться». Более того, такое состояние для самого этого человека граничит с каким-то почти неподконтрольным «ужасом», т. к. эта фраза продублирована. Ему негде «скрыться» – от всевидящего ока Конфуция! Но такое стандартное толкование сразу же вызывает подозрение у любого исследователя текста Лунь юй. Возникает вполне естественный вопрос: а чего бояться такому человеку даже в том случае, если Конфуций вдруг заметит что-то нежелательное в его поведении? Он, ведь, не Царь, и не Бог, и не Тао-те. Чего же бояться?
В европейском мире еще 200 лет назад говорили, причем, безо всякой иронии: «Бог, Он все видит!». И означало это то, что «всевидящий Бог» по справедливости воздаст каждому за всякое дело. А разве может «воздать» Конфуций, если даже он и «видит»? Конечно, нет. Но и это еще не всё. Даже евангельский Иисус может только «по плодам» определить, «хорошее» это «дерево», или «плохое», – хорош человек или плох. А Конфуций, судя по всему, претендует уже на то, чтобы определить сущность человека до появления «плодов». Приведенный нами элементарный анализ концовки суждения свидетельствует о том, что традиционный перевод, адресующий все действия этого суждения Конфуцию, ошибочен.
На основании знакомства с текстом Лунь юй можно говорить об исключительной скромности Учителя, а следовательно, таких слов от него ожидать вряд ли возможно. Но даже не только это: весь текст свидетельствует о чрезвычайном благоговении и даже внутреннем трепете Конфуция перед невидимыми небесными силами, которыми для китайцев всегда являлись «духи верха». Последняя продублированная фраза этого суждения может быть адресована только им – тем всесильным «духам предков», от взора которых «человеку негде скрыться». И именно это заявляет Конфуций в данном суждении. Здесь – сомнений нет никаких, и это – отправная точка всего последующего анализа.
Суждение построено таким образом, что определить действующее лицо можно только по контексту, а он в данном случае носит «неопределенный» характер, – но только для того читателя, который живет уже в совершенно другом мироустройстве, чем некогда жил Конфуций, и который имеет диаметрально отличающееся мироощущение. Суждение начинается с иероглифа ши – «смотреть», который вне контекста можно перевести по-разному: и как «[я] смотрю», и как «[они] смотрят», или «он», «мы», «ты», «она» и т. д. Мы уже говорили читателю о том, что подлежащее в древних текстах часто опускалось «за ненадобностью». Однако жизнь в Китае после Конфуция настолько изменилась в своих фундаментальных духовных и социальных основах – принципиально сменилась сама парадигма существования китайского этноса, – что эта прежде естественная и вполне обоснованная древняя «ненадобность» превратилась для того же китайца Ханьского периода в «величайшую загадку века». Кто́ конкретно является «подлежащим» этого суждения?
Даже в Китае сегодняшнем эта загадка не решена, – и мы это видим из стандартных переводов суждения. Впрочем, чему тут удивляться? Аналогичная ситуация – и в нашем европейском сообществе. Например, отсутствие предполагаемого ранее учеными «тайного подвального помещения» в раскопанном археологами греческом Храме Телестереон в Элевсине является неразрешимой загадкой для современной науки. «Откуда же в таком случае брался тот огромный столб пламени над крышей Храма во время проведения ночных Элевсинских мистерий, о котором сообщают очевидцы?» – с удивлением вопрошают ученые мужи, качая своими седыми и лысыми головами. Или нечто подобное, но уже при раскопках знаменитого Храма Аполлона в Дельфах: «Где же та скрытая расщелина – знаменитая трещина в скале, – над которой сидела на своем треножнике дельфийская прорицательница-пифия, и испарения из которой, входящие в ее «нутро» снизу, наделяли ее даром пророчества?» – вопрошают в недоумении те же самые мужи. Ведь неожиданно оказалось, что такой «расщелины» там нет и не могло быть в принципе, – исходя из самого состава известковых пород, на которых издавна стоял этот Храм. «Ду́рят нашего брата, ой ду́рят!» – сокрушенно вздыхают про себя эти рано постаревшие от переживаний ученые. А вывод из всех этих историй один: не суй свой нос в то, в чем ты ничего не смыслишь. И это – обращение к сегодняшней науке.
Все суждение представляет собой одну и ту же текстовую матрицу, повторенную трижды:
(1) «Смотреть» (ши) ци со и (и – грамм. предлог);
(2) «Осматривать» (гуань) ци со ю (ю – грамм. предлог);
(3) «*Избирать» (ча) ци со ань (ань – «спокойный, «мирный», «покой»);
Где скрыться человеку? Где скрыться человеку?
Вся сложность понимания заключается в этих со и, со ю и со ань. Основываясь на нашем предварительном выводе можно сказать, что начало всех трех матриц имеет следующее значение: «смотрят [духи предков]»…, «осматривают [духи предков]»…, «избирают [духи предков]», причем, – они что-то в человеке «осматривают», т. е. все это направлено на человека. Значения этих глаголов мы уточним после более детального анализа смысла.
Иероглиф ци, который повторяется в трех матрицах, – это притяжательное местоимение, значение которого разъясняется заключительной фразой, свидетельствующей о том, что речь идет о человеке (жэнь). То есть «духи предков» «смотрят» или «осматривают» «его (человека) что-то», и это «что-то» как раз и зашифровано в последующих со и и т. д.
Иероглиф со нам уже встречался. Он состоит из двух графических элементов: знака ху – «ворота», «дверь», «двор» и знака цзинь – название меры веса. Он имеет два главных значения: первое – в качестве существительного – «место», «резиденция»; и второе – как служебное слово – «нейтрализатор предикативности», т. е. нейтрализатор глагольных свойств какого-то иероглифа. В таком случае иероглиф со всегда стоит перед глаголом и «в сочетании с предикативом дает именное словообразование – объект действия» (М. В. Крюков, Хуан Шу-ин «Древнекитайский язык», стр. 229).
Однако в нашем конкретном случае мы такого предикатива не видим, а вместо него – два разных предлога – и и ю, – которые, как правило, образовывают вместе с этим со устойчивую грамматическую конструкцию. Стандартный перевод фразы со и – это «то, чем…», «то, почему…», «то, благодаря чему», а фразы со ю – «то, из-за чего…», «то откуда…» (Т. Н. Никитина «Грамматика древнекитайских текстов», 2005, стр. 280, 281). Теоретически, в третьей матрице иероглиф ань может иметь предикативный характер и в таком случае переводиться как «успокоиться», «умиротвориться», «достичь конечной цели».
Рассмотренные нами теоретические основы грамматического построения данного суждения возбудили фантазию переводчиков до такой степени, что наиболее прозрачно «смысл» суждения (а он является стандартным для всех остальных переводов) отражен в дореволюционном переводе П. С. Попова:
Философ сказал: «Где, где может укрыться человек: если мы будем обращать внимание на его деятельность (первая матрица – Г. Б.), всматриваться в его побуждения (вторая матрица – Г. Б.) и вникать в то, что ему доставляет удовольствие (третья матрица – Г. Б.)?».
Однако, читателю уже ясно, что в подлинном тексте не идет речь ни о «деятельности», ни о «побуждениях». А вот об «удовольствиях», которые в этом переводе знаменуют третью матрицу, можно поговорить отдельно, т. к. эту фразу легче анализировать. Но предварительно отметим: Боже мой! Если бы «этот Конфуций» был действительно прав, в таком случае нам не состояло бы никакого труда вывести подлеца или негодяя на «чистую воду»! Куда бы он мог «скрыться» от многих благопристойных граждан? Ведь все мы невольно «обращаем внимание» и «всматриваемся» в окружающих нас людей. Но, к сожалению, в жизни такого не бывает, а значит – перевод неверен.
Итак, – заключительная фраза ча ци со ань. Напомним читателю, что, во-первых, «действующие лица» суждения – это «духи предков», а таже «человек», который находится у них «под контролем», и, во-вторых, эта третья матрица – заключительная, т. к. она завершает всю триаду. Отсюда же и изменение в ее конструкции: вместо грамматического предлога мы видим здесь «разумное» ань. Иероглиф ча имеет следующие древние значения: «*избирать», «*выбирать». И если со переводить существительным «место», «местопребывание», в таком случае смысл третьей матрицы становится очень прозрачным: «[Духи предков или духи верха] избирают (ча) место (со) его (ци) упокоения (ань) [после смерти]».
И теперь нам с читателем уже совершенно понятно, что в первых двух матрицах должно быть указано то, на что именно смотрят «духи», – чтобы впоследствии вынести свой посмертный вердикт человеку. Отыскание смысла в грамматических конструкциях со и и со ю, как это уже видит и сам читатель, контрпродуктивно, – или по причине непонятной нам притчевой речи Конфуция, или – в связи с порчей исходного текста.
Но начнем мы рассмотрение этой проблемы с иероглифов ши и гуань. Эти иероглифы одинаковы в своей правой части, где содержат знак цзянь – «видеть» (фактически, рисунок «гла́за»), но при этом левая часть у них различна. У ши слева – «алтарь», а у гуань – «птица» (рисунок аиста – гуань с «двумя глазами»).
Нет сомнения в том, что все иероглифы с «алтарем» в древности были священны и имели отношение только к области сообщения с миром предков. Иероглиф «алтарь» иначе расшифровывается как «показывать сверхъестественное», хотя в более позднее время это уже означало «показывать» что угодно, хоть свою болячку на руке. Главное в рисунке «алтарь» (включая все древние изображения) – это две горизонтальные линии, расположенные друг над другом – верхняя короче нижней, – которые означают «[духов] верха» (такой же знак «верх» мы видим и в иероглифе Жэнь). От середины нижней черты идет вертикальная линия вниз, – это как бы ножка столика того «алтаря» или «жертвенника», на котором совершается жертвоприношение предкам. По бокам от этой «ножки» – две черточки, которые, скорее всего, дублируют графику иероглифа шао – «мало», указывая на «малость» или невидимость, незаметность духов. Этот ключ «алтарь» (в словарях фигурирует под № 113) присутствует также в древних иероглифах: цзу – «предки», «предок»; шэнь – «дух(и)»; верховное сакральное божество иньцев – Шан-ди; Небо-Тянь; «счастье» – фу и еще много других, имеющих отношение к миру предков.
Для информации отметим, что если, например, справа от «алтаря» (ши) поставить уже знакомый нам иероглиф цзинь («мера веса»), который входит в состав иероглифа со, то получим новый иероглиф ци – «молить», «испрашивать». И этот же иероглиф цзинь является составным для знакового выражения Раннего Чжоу: чжэ Дэ – «постигать Дэ», где он присутствует в знаке чжэ. А уже это выражение, в свою очередь, синонимично другому, и тоже чжоускому: «копировать Дэ предков».
Словарное значение ши (БКРС № 12780) – «смотреть на…», «рассматривать», «наблюдать», «вглядываться», а иероглифа гуань (БКРС № 12747) – «смотреть на», «осматривать», «глядеть», «вникать», т. е. формально они подобны. Хотя сейчас уже понятно, что первый иероглиф употреблялся в духовных и возвышенных смыслах. Оба иероглифа имеют дополнительное значение «подражать», «копировать», «следовать (кому-л.)», например, «подражать своему предку» – для ши; или – «брать пример», «следовать примеру» – для гуань.
На этих рассуждениях наша логика расследования обрывается, т. к. последующие иероглифы не вносят никакой ясности в этот вопрос, если исходить из понимания их словарного значения. Однако иероглифическая запись тем и отличается от алфавитной, что иероглиф – это, в первую очередь, «картинка». При этом мы прекрасно понимаем, что все наши дальнейшие рассуждения – это только предположения, а для кого-то и просто «фантазии».
Для разумного человека уже ясно, что логика этих трех матриц должна быть такова: духи смотрят на что-то хорошее (значит, одобряют), смотрят на что-то плохое (значит, осуждают), и воздают человеку по заслугам – «где от них скрыться?». Эти китайские духи исполняют ту же самую роль, которая в западных религиях возложена на Бога. Еще раз напомним читателю, что в Китае никогда не существовало представлений о Боге, а роль «европейского Бога» в Китае исполняли духи предков. И до сих пор нашего религиозного слова «Бог» в Китае существовать не может принципиально, т. к. это понятие невозможно передать китайскими иероглифами, изначальный духовный рисунок которых – совершенно иной. Китайцу, который поставил себе цель уяснить европейское слово «Бог», необходимо переезжать на Запад и учить один из европейских языков, например, русский.
Следуя вышеуказанной логике, иероглиф и должен означать что-то положительное, а иероглиф ю – отрицательное, а значит, под личиной этих предлогов скрывается какая-то другая сущность. Если мы вникнем в рисунок этих иероглифов, то наиболее вероятной представляется следующая картина. Первоначально вместо иероглифа и стоял иероглиф сы (БКРС № 13443), который является полным подобием и, но с «единичкой» впереди, т. е. с ключом «человек», – тем простым ключом, который впоследствии был «утерян» или легонько «подтерт» из-за абсолютного непонимания смысла текста («надо исправить вкравшуюся ошибку!») или сильного желания (вариант – приказа) переиначить исходный смысл. Сы – это «быть похожим», «походить на», «уподобляться», «преемствовать», «наследовать», «идти по стопам». Пример повсеместного использования – «наследовать своим предкам». И это, как мы понимаем, – главное для получения благой посмертной участи. Следует особо отметить, что приведенные нами ранее «вторичные» значения иероглифов ши и гуань дублируют этот смысл, и тем самым подтверждают правильность нашей реконструкции исходного текста.
Иероглиф ю по рисунку представляет собой простой квадрат, симметрично разделенный вертикальной и горизонтальной линиями на четыре маленьких квадрата таким образом, что только вертикальная черта немного выходит за пределы наружного квадрата сверху. В Словаре Ошанина под № 2912 представлен иероглиф фу, который по своей графике отличается от нашего «квадрата» только тем, что выходящая за наружный контур квадрата часть вертикальной черты «оторвана» и наискосок приставлена к верхней кромке левого маленького квадратика ровно посередине. То есть графика этих двух иероглифов фактически одна и та же. Этот иероглиф фу древний, и его значение – «голова демона (или чёрта)». Иероглиф присутствует в древнем словаре «Шо вэнь цзе цзы» и означает «голову чёрта» (О. М. Готлиб «Основы грамматологии китайской письменности», стр. 37).
То есть предварительный смысл всего суждения суммируется таким образом: духи предков наблюдают за тем, ка́к себя ведет в жизни человек: «идет ли он по стопам своих предков» или живет, имея душу «чёрта», а значит, не соблюдая никакого ритуала, не почитая предков. А затем – определяют этому человеку соответствующее посмертное существование. И как укрыться человеку от их всевидящего ока?! – восклицает Конфуций.
Итак, мы закончили рассмотрение этого не совсем обычного суждения, заменив необоснованные фантазии стандартного понимания текста «фантазиями» нашими, но уже хотя бы частично обоснованными. Осталось только резюмировать проделанную работу, собрав воедино весь «перевод»:
2.10. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «[Духи сверху] наблюдают (ши – святой «алтарь», т. к. речь идет о «подражании» древним!) [за человеком], насколько он (ци) наследует (сы) [поведение своих предков]. [Они с высоты птичьего полета] смотрят (гуань – «аист», т. к. речь идет уже о «земном чёрте»!) на его (ци) [сущность, насколько она] дьявольская (фу). [Они] избирают (ча) [для каждого человека] место его (ци) упокоения (ань) [после смерти]. Где (янь, т.ж. «куда?», «как?», «каким образом?») укрыться (соу) человеку (жэнь) [от их всевидящего ока]? Где (янь) укрыться (соу) человеку (жэнь)?».
И пусть читатель теперь сравнит представленный нами перевод этого суждения с тем традиционным, который он может увидеть в любом европейском издании Лунь юя. Есть в этих переводах хоть что-то общее с нашим, или все традиционные переводы – это какие-то совершенно далекие от подлинного текста фантазии под названием «Афоризмы»?
Общее у нас только одно – имя Конфуций. И ведь читатель, интересующийся Конфуцием, эти традиционные переводы читает, тратит на них свое время, старается их понять и при этом в тайне считает себя дураком, т. к. понять всего этого просто не в состоянии, а помыслить о том, что дурак вовсе не он – даже не догадывается исходя из своей европейской «толерантности».
И то же самое – правда, уже в меньшей степени – происходит при чтении евангельского текста, где Христос предстает перед читателем каким-то «бедненьким» (или наоборот, «устрашающим») проповедником «ни о чем», но возможно – о безотносительном «добре». Ведь всё уже давно сказано до Него иудеями, написавшими свое Священное Писание: достаточно почитать только Декалог. И для чего Он выдумал эти Свои неисполнимые заповеди, например, о запрете «прелюбодеяния»? Кому это нужно, да и не на Марсе все мы живем! И у здравомыслящего читателя создается такое впечатление, что Иисус пытался придумать что-то такое – «сногсшибательтное» или «совсем уж туманное», чтобы только показаться оригинальным. Конечно, такому читателю жалко Его, мечтателя, – погиб «ни за понюх табаку», человек Он был добрый и не вредный – так думает здравомыслящий читатель.
И невдомек нашему читателю, что сам он – вместе со всей тысячелетней Церковью! – совершенно не понимает слов Христа, ориентируясь на богословские переводы и толкования. И он даже не предполагает, что Церковь до сих пор не знает, что́ такое евангельская «заплата на хитоне» из известной притчи, или как понимать следующие слова Христа: «Царство насилуется (греческое биа́дзо – полный смысловой аналог русскому слову «насиловать») и насильники восхищают Его». Да и само это «Царство» Церковь всегда уравнивала с иудейским «Раем», не понимая подлинной его сути, а значит – и всей евангельской проповеди Христа. Ну, да оставим этот «разговор для бедных»!



