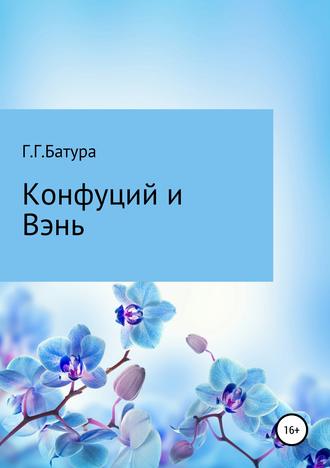
Георгий Георгиевич Батура
Конфуций и Вэнь
Суждение 3.24
3.24. Человек (жэнь) благоприличного поведения (и), [который] *стремился к [Учению Конфуция] как к идеалу (и, т.ж. «*ставить себе в образец», «*пара», «*ровня») [а по службе ведал делами] *создания земляных насыпей и курганов (фэн или фын) обратился с просьбой (цин) [к ученикам, чтобы] «увидеть (цзянь), – [как он] сказал (юэ), – их (чжи) Цзюнь цзы, прибывшего (чжи) в (юй) это место (сы). Я (у) еще не (вэй) пробовал колосьев нового урожая (чан; рит. «*вкушение», – название осеннего жертвоприношения колосьев нового урожая; чан хэ – рит.: «*проба урожая (культовый обряд)»), [я еще] не (бу) *получил пользу (дэ, т.ж. «*извлекать выгоду», «просветиться», омоним Дэ) от [его] лицезрения (цзянь, т.ж. «видеть»)». [И этот человек – ] тот, кто (чжэ) [хотел] видеть (цзянь) его (чжи, т. е. Конфуция), пошел следом (цун) [за учениками]. [Когда он] вышел из (чу, т.ж. «*появился») [помещения], сказал (юэ) [обращаясь к ученикам]: «[Вы, ] два (эр) три (сань) ученика (цзы), почему (хэ) [вы] печалитесь (хуань, т.ж. «страдать», «мучиться») по поводу (юй) соблюдения траурного обряда (сан; или: «зачем вам страдать из-за “*тела с гробом покойного”»)? [Ныне в] Поднебесной (тянь ся) нет (у) [того] Дао («путь»), [которое] было (е) в прежние времена (цзю)! (и, конечная восклицательная частица). Небо (Тянь) *желает (цзян, т.ж. «хотеть», «*приносить жертву [мясом]») сделать (и вэй) мужа– (фу, т.ж. «сановник») – Учителя (цзы) деревянным (му, т.ж. «дерево», «гроб») колокольчиком (до, «большой колокольчик»)».
Странное суждение, не правда ли? И совершенно неожиданное для читателя, потому что подобным образом его еще никто не переводил. Однако в таком его понимании не может быть сомнения, т. к. здесь приведен фактически подстрочник, т. е. дан самый что ни на есть буквальный перевод. А теперь нам осталось только правильно все эти слова объяснить.
Но предварительно сделаем одно небольшое замечание. Традиционно считается, что присутствующий в тексте иероглиф цзянь, «видеть», поставлен вместо табуированного сянь – «показываться», «показаться». И тем самым акцент суждения смещается в сторону такого понимания, что просьба чиновника заключается не в том, чтобы «увидеть» что-то, а чтобы «собственной персоной» предстать перед Учителем. Однако весь остальной текст этого суждения такому пониманию решительно противоречит.
Мы уже не удивляемся тому факту, что подлинный Лунь юй насквозь пропитан ритуальными ассоциациями и событиями, связанными, в первую очередь, с духами предков и похоронами. Из суждения ясно видно, что в нем описывается эпизод, когда ближайшие ученики привезли гроб с телом Конфуция к месту его окончательного захоронения. Их встречает чиновник местного «похоронного бюро», который ведает всевозможными земляными работами, и в первую очередь, вопросами насыпки могильного кургана.
Для того чтобы правильно понять это суждение, следует дать небольшое общее пояснение относительно тех правил похорон, которые существовали в древнем Китае. В соответствии с установленным ритуалом человека в Китае хоронили как бы дважды. Первый раз совершали временное захоронение (обряд бинь), – на третий день после смерти (такое правило распространялось на всех простых людей и на представителей ранга знатности ши, как у Конфуция). При этом яму для гроба выкапывали прямо около дома, непосредственно у порога, неглубокую, – так, чтобы над поверхностью земли немного виднелась крышка гроба, присыпанная комками земли. Покойника предварительно обмывали, облачали в чистые одежды (одевали на него до трех комплектов белья – друг на друга), затем накладывали сверху еще несколько комплектов одежды (для вана – до девятнадцати), и затем туго привязывали к трупу эти наложенные одежды несколькими поясами из материи. Смысл процедуры заключался в том, чтобы полностью скрыть все тело, – чтобы его невозможно было видеть. «Запасные одежды», судя по всему, предназначались для жизни в потустороннем мире. Второй раз хоронили уже окончательно – в месте захоронения предков, через три месяца после смерти (так для ши и простолюдина, а для Сына Неба, например, – через семь месяцев). Эти похороны назывались цзан. В суждении идет речь о приготовлении именно к этим похоронам, а значит, близкие родственники Конфуция – если они и были живы в это время – в окончательном погребении Конфуция участия не принимали.
Итак, к тем трем ученикам, которые прибыли к пункту назначения с повозкой, на которой находился гроб с телом Конфуция, и которые временно поместили этот гроб в какое-то помещение, обращается чиновник похоронного бюро. Он называет Конфуция словосочетанием Цзюнь цзы, старательно избегая называть покойника его прижизненным именем, что тоже является нормой для древнего Китая. Но при этом следует отметить, что даже сам Конфуций считал себя недостойным такого высокого звания, а чиновник тем не менее назвал, нисколько не сомневаясь. Это означает, что чиновник был каким-то образом уже знаком с Учением Конфуция и более того, он относится к Учителю с большим уважением.
Иероглиф и, которым охарактеризован этот человек, одновременно сочетает в себе и «благопристойные манеры» и «стремление к чему-то, как к идеалу». Именно поэтому мы и ввели в квадратные скобки авторское добавление – к «Учению Конфуция». А к чему же еще, если необходимость наличия этого что-то уже задана самим иероглифом и? И с другой стороны, чиновник называет Конфуция Цзюнь цзы, – тем именем, которое является конечным идеалом всего Учения. И что иное, в таком случае, можно здесь поставить в квадратные скобки?
Скорее всего, должность чиновника, которая обозначена словом фэн, имела, в том числе, непосредственное отношение к ритуалу, т. к. этот иероглиф означал также «*приносить жертву (Небу и Земле в день восшествия на престол)». То есть ритуал – это тоже общая точка соприкосновения внутренних миров Конфуция и чиновника. Российский и одновременно польский синолог Станислав Р. Кучера в книге «Установления династии Чжоу» (Чжоу ли) (Изд. Вост. лит., М.: 2010, стр. 124) пишет следующее:
Знак фэн зафиксирован уже в надписях на гадательных костях и бронзовых сосудах в изначальном своем значении: насыпать земляной вал и сажать на нем деревья для обозначения границы владения. Оно перекликается с <…> жертвоприношением, которое начиналось с насыпания земляного алтаря, когда на Тайшань поднимался правитель для проведения отчета перед Небом.
Таким образом, наше предположение о том, что в обязанности данного чиновника могла входить также организация насыпки могильного кургана, – а это тоже «ритуальное» действие – оказывается вполне правдоподобным.
Что желает получить от учеников этот чиновник? – Хочет, чтобы они показали ему покойного Учителя, т. е. чтобы открыли гроб, и чтобы он смог увидеть Конфуция. Обратим внимание читателя на тот факт, что это слово – «видеть» (цзянь – элементарный иероглиф с простыми значениями, образованными от рисунка глаза) повторено в тексте трижды. Во втором случае использования этот иероглиф не поставлен в качестве замены «табуированного», и понятно почему: здесь не возникает мысли о том, что Учитель уже мертв. При этом следует особо подчеркнуть, что китайцы боялись смотреть на покойников в гробу и по этой причине специально закрывали их одеждами. Существовала устойчивая игра слов с иероглифом цзан (второе погребение): хоронить – это прятать. «Человек умерший может причинить зло» (С. Р. Кучера, там же стр. 340). То есть этот чиновник, выказывая желание видеть, шел на нарушение всех древних традиций и при этом проявлял очевидную смелость.
В суждении нигде не сказано, что чиновник хотел поговорить с Учителем, и что это свое желание он исполнил. А ведь если бы Конфуций в это время был жив (как предполагается во всех традиционных переводах), в таком случае главной целью для чиновника было бы именно побеседовать с ним. Более того, из текста понятно, что сами ученики – без согласования с Учителем – решают вопрос: допустить или не допустить к Конфуцию постороннего человека. По той причине, что Учитель мертв.
А для чего чиновнику понадобилось видеть покойного Учителя? Мы можем задать читателю встречный вопрос: а почему, например, в СССР в течение более чем полувека выстраивались и выстраиваются очереди к мавзолею Ленина? Ведь все эти миллионы людей хотят видеть Ленина в гробу. Видеть – для того, чтобы малое могло приобщиться к великому на Земле, – чтобы «низы» могли приобщиться к «верхам». Вот и чиновник тоже, причем, инстинктивно, от своего внутреннего порыва, хочет приобщиться к тому великому Человеку, Учение которого он действительно понял и высоко оценил.
Причем, можно вполне обоснованно сказать, что этот чиновник является собратом Конфуцию по своей одаренности в «китайской грамоте», – по восприятию ее образности и зрительной «картинности». Это видно из его высказываний. Вот как он объясняет свое стремление увидеть Конфуция. Он говорит: «Я еще не вкусил колосьев нового урожая». И действительно, когда «колосья» росли в поле, – они были «живы». Когда «колосья» умерли, – когда урожай собрали – их надо – по ритуалу! – «вкусить». Вот он и хочет «вкусить» пользу для своего духа от того Конфуция, который уже умер, – как и те «колосья», о которых он ведет речь.
И далее он продолжает: «Я еще не получил пользу (дэ) от [его] лицезрения (цзянь)». И обратим внимание, здесь он тоже не называет имени Конфуция. Но главное – другое. Чиновник использует тот омоним дэ, который в Раннем Чжоу всегда использовался в качестве равноправного заменителя «настоящего Дэ», и это не случайно. Если чиновник прекрасно ориентируется в том, кто́ такой Цзюнь цзы, и при этом – единственный во всем Лунь юе! – нисколько не смущаясь, именует Конфуция этим высоким именем, значит, он также знает и о Дэ. Знает – опытно. Вот это Дэ он и хочет «получить» от «настоящего» Конфуция, воспринимая его уже не как человека, а как «духа верха».
При этом следует хорошо понимать также и то, что по своей истинной сути тело умершего Конфуция является наилучшим «видом» той деревянной «таблички предка», которой издавна поклонялись все китайцы. И если дух умершего человека может пребывать в «табличке», то тем более – в его собственном теле. Поэтому древние египтяне бальзамировали своих умерших, – чтобы «продлить» их жизнь на земле, т. е. чтобы сохранить земное пристанище для их души-Ка. А египетское Ка – это и есть китайское шэнь («дух» умершего человека). Вполне вероятно, что и китайцы долго не хоронили своих покойников именно по этой причине: чтобы как можно дольше оставаться рядом с «душой» умершего близкого человека.
Этот чиновник зашел в помещение, и затем «вышел» (чу). Этот иероглиф (чу) имеет одновременно значение «появиться», т. е. чиновник «зашел и затем появился вновь». Так можно сказать только в том случае, если тот наблюдатель, который фиксирует этот факт «входа» – а это ученики, – находится снаружи этого помещения. Значит, ученики стояли вне помещения, а чиновник зашел внутрь, и такое вряд ли было возможно, если бы Конфуций в это время был жив. Наверное, сами ученики боялись смотреть на открытый гроб с покойником.
Мы в своем рассмотрении последовательно продвигаемся по тексту суждения. И далее мы видим, что чиновник обращается к ученикам, используя то редкое словосочетание, которое было характерно и для самого Конфуция при его жизни, причем, в самых близких и доверительных беседах с учениками. Традиционно оно передается как эр сань цзы, буквально, – «два-три ученика (букв. сына)», причем, это странное обращение буквально «впечаталось» в менталитет китайцев с глубокого прошлого, как «Отче наш». Логически рассуждая, эр сань цзы – это, в какой-то степени, «бессмыслица», которую невозможно объяснить никаким знанием китайского языка, невозможно оправдать никакими аргументами. Это выражение всегда воспринималось в Китае на веру, как некий «завет Конфуция», но понимают и переводят его всегда иначе: например, «вы, несколько человек»; «вы, господа»; «дети мои», – кто на что горазд, но иногда и буквально – «два-три ученика».
И тем не менее, попробуем немного порассуждать на эту тему, – ведь данное словосочетание для Конфуция является характерным. Вопрос заключается в том, что́ конкретно оно означало для китайцев? Причем, пример данного суждения – то, что эти слова использует совершенно посторонний Конфуцию человек – показывает нам, что его вряд ли придумал сам Конфуций, и что оно существовало в это время как некое устоявшееся словосочетание, понятное всему обществу. Здесь может быть два решения этого вопроса, причем, значение словосочетания в любом варианте почти не меняется.
Первое решение: это действительно эр сань цзы – «два-три ученика». Изначально в Китае не было каких-либо сообществ, основанных на какой-либо иной, кроме племенной, общности. Поэтому самими близкими для взрослого человека были его сыновья. «Два-три сына» – это и есть первоначальное буквальное значение этой фразы, означающей самых близких молодых людей у взрослого человека. С развитием общества «отец» преобразовался в «учителя», а «сын» – «в ученика». И фраза стала восприниматься в смысле «самые близкие (или лучшие) ученики», без указания на их число.
Второе решение: возможно, знак эр – это, в действительности, неправильно понятое восстановителями текста первоначальное шан. Знаки шан («верх») и эр («два») графически очень схожи, а ко времени кодификации текста китайцы уже ничего не знали о древнем знаке шан. Это шан мы видим в иероглифе Жэнь, поэтому в таком предположении нет ничего невероятного. В таком случае выражение следует читать как шан сань цзы, при этом его понимание незначительно изменяется, т. к. его буквальный перевод – это «высшие три ученика». То есть речь в таком случае идет о каких-то трех лучших учениках. Однако, вполне вероятно, что впоследствии эта фраза приобрела значение некого обобщенного выражения в смысле «лучшие ученики», причем, небольшое число. Само число «три» носило в Китае символическое значение и принадлежало к числу «счастливых». Суть выражения от такого понимания не меняется. И еще одно уточнение. Иероглиф цзы мог означать не только учеников, но вообще любого молодого человека, и в таком случае в числе прибывших хоронить Конфуция могли быть и его молодые родственники.
Мы уже неоднократно доказывали, что в знаменитом иероглифе Жэнь, который Конфуций заимствовал из Ши цзин, его правая графема – это и есть древний иероглиф «верх», обозначающий «[духов] верха». Там, где верхняя горизонтальная черта была короче нижней, – это в Раннем Чжоу всегда означало «верх», а где эти две черты были равны по длине, – это было числительное «два». После того, как в графике иероглифов многое поменялось и иероглиф «верх» стал изображаться иначе, эта разница в длине перестала иметь существенное значение, и любые «две черточки» (графически напоминают знак равенства «=») стали означать числительное «два».
Но вернемся к нашему замечательному чиновнику. Что он «наговорил» ученикам после того, как вышел от Конфуция? Он сказал: «Зачем вам печалиться и соблюдать траурный обряд?». И если посмотреть на это с точки зрения ритуала, – то это будет явное нарушение всех традиций, и могло быть воспринято чуть ли не как кощунство. Но чиновник знает, что́ говорит. Отдаленную параллель можно увидеть в евангельском повествовании: зачем печалиться ученикам, если Христос воскрес? Китайцы никогда не знали Богов, потому что «богами» для них всегда были те умершие люди, которые не умирали, а становились «духами верха». Причем, китайцы никогда не отделяли земную жизнь человека от его посмертного существования. Для них «дух» Вэнь-вана был «тем же самым» Вэнь-ваном, который когда-то жил на земле. И в этом отношении они были ближе к истине, чем ранние христиане: умерший и воскресший Христос – это, в первую очередь, именно такой «дух верха».
Так почему, все-таки, ученики могли не печалиться? Потому что чиновник знает: Конфуций не ушел из жизни людей, как все «обычные» покойники, – он стал «духом верха», как Вэнь-ван, и продолжает влиять на мысли и поступки людей и участвовать в их жизни. И именно по этой причине чиновник захотел «встретиться» – увидеть – Конфуция. Ведь не на труп же он пришел смотреть. И более того, он вынес из этого смотрения очень мудрые мысли, и в таком своем правильнолм заключении он оказался самым первым во всей Поднебесной.
Ученики приуныли, потому что «в Поднебесной нет Пути» древнего Чжоу, – именно это констатирует чиновник. Судя по тексту, ученики вполне объективно полагали, что «земная карьера» Учителя завершилась, причем, без успеха и в безвестности. Занимаясь похоронами, они просто по ритуалу исполняли свой долг перед Учителем. Но этот чиновник «увидел» в этих «рядовых» похоронах нечто другое: он, войдя в помещение, увидел гроб, и в нем тело Конфуция. И воспринял эту зрительную «картину» в парадоксальном, образном виде: сам гроб – это как будто «деревянный» корпус какого-то Вселенского колокола, а тело Конфуция – это тот «язык», который «болтается» в нем и звенит, разнося Учение истинного Дао по всей Поднебесной.
И скорее всего именно этот чиновник вдохновил учеников на то, чтобы впоследствии зафиксировать беседы Учителя в виде упорядоченного Лунь юя.
Но позвольте, возразит читатель, по тексту стоит «колокольчик», пусть и большой, но не «колокол». А «колокольчик» – это как-то несерьезно для великого Учителя. Уж лучше бы был «Царь-колокол» (подумает русский человек), или хотя бы просто «колокол»! Отнюдь, возразим мы, читатель просто не знаком с логикой древнего китайца.
Традиционно считается, что выражение му до – это «колокол с деревянным языком», потому что му – это «дерево», «деревянный». Но подобное толкование противоречит и грамматике, и рисунку иероглифа. Выражение му до – это, буквально, «деревянный колокольчик» или «деревянный бубенчик». Графического указания на существование какого-то «языка» здесь нет.
То, что му – это обычное «дерево», а не какой-то «деревянный язык [колокола]» – об этом уже сказано. А иероглиф до расшифровывается следующим образом. Он состоит из двух графем. В его левой части – ключ цзинь – «золото», «металл». Этот иероглиф цзинь (БКРС № 588) имеет также древние значения «колокол», «звучание металла (о колоколе)». Кстати сказать, существует несколько других иероглифов с этим цзинь, которые означают различные виды колоколов. Но в большом колоколе – всегда «язык», а в правой части иероглифа до мы видим знак гао.
В древности знак гао означал что-то ритуальное: то ли голову «чёрта», или ритуальную «маску», или фигуру пляшущего жреца с «головой», а рядом с ним – «жертвенный бык». Обобщая, можно сказать, что это что-то «круглое». Главное то, что этот иероглиф с давних пор не имел самостоятельного значения, что тоже объяснимо: он никак не вписывался в традиционное понимание этого суждения о Конфуции. Но точно такой же иероглиф, который так же произносится, но в отличие от нашего имеет малюсенькую «черточку» (дянь) на «голове» жреца, имеет следующие значения: «яички», «тестикулы», «*высота» (БКРС № 4011). А это означает, что наш перевод – «бубенчик», «колокольчик» справедлив: именно у «бубенчика» внутри бывает не «язык», а «бусинка» или «шарик».
Да, но почему все-таки «бубенчик» (или «колокольчик»)? Дело в том, что в древности в домах не было освещения, – не было освещения и на дорогах. Китайцы ездили на одноосных повозках, запряженных лошадьми (чаще – одной лошадью, как и у самого Конфуция). Для того чтобы избежать несчастных случаев на дороге, к хомуту лошади – впрочем, так же, как и у ямщиков в дореволюционной России – крепился «бубенчик». И только благодаря звону этого бубенца люди вокруг знали, где проходит дорога (Дао), если движение происходило в темное время суток. Вот чиновник и сравнил уже умершего Учителя в гробу с таким «бубенцом»: после своей смерти Конфуций будет показывать Дао тем людям, которые «бредут во тьме». И история Китая подтвердила слова этого прозорливого человека.
Для того чтобы вся эта абсурдная история с «колоколом с деревянным языком» (так обычно переводится словосочетание му до) стала читателю более понятной, приведем наглядный пример из фантастического мира. Предположим, что первоначально в древнем Китае жили какие-то племена, средой обитания которых был лес. Племена достигли высокого уровня развития и в техническом, и в гуманитарном отношении. И один из мыслителей этого племени, похожий на нашего чиновника, философски взирая на какой-то мощный дуб, образно назвал его «деревянным танком». Потом эта цивилизация в Китае исчезла и вместо нее пришли «китайцы полей», – цивилизация, которая имела развитие более низкое и которая заимствовала у своих «лесных» братьев буквально все, включая иероглифы, т. к. языки были близкими. Они восприняли слова мудреца ушедшей цивилизации за «чистую монету», представляя себе дело таким образом, что раньше у «лесных» действительно был такой «деревянный танк» для сражений. Однако так случилось, что этот древний мудрец почему-то очнулся от своей летаргии в лесной пещере и пришел посмотреть выставку оружия «полевых китайцев». И зело удивился, когда подошел к «танку». На нем висела вывеска: «Железный танк из металла». А рядом стоял другой танк, с другой вывеской: «Деревянный танк из металла». Мудрец стоял и долго чесал свою седую лысую голову. А потом отправился обратно в пещеру – досыпать вечность, потому что не понял мира.
После того, как это непонятное суждение Лунь юя ознакомило Китай с понятием му до, в Китае появился «антагонист» этому словосочетанию: цзинь до, где знак до – то же самое, что и в суждении. И это словосочетание в традиционном понимании и переводе означает «колокольчик с металлическим языком». Но такое выражение включает в себя сразу два иероглифа «металл», – по одному в каждом знаке. И буквально получается: «металлический колокольчик из металла».
Для того чтобы понять, насколько велик был авторитет Лунь юя в древности, и как тщательно последующие китайские комментаторы встраивали в ушедшую «до-луньюйскую» действительность даже незначительные эпизоды Лунь юя, целесообразно рассмотреть один из таких показательных примеров. В Китае существует очень авторитетный древний текст – «Установления династии Чжоу (Чжоу ли)». Уже одно то, что в его традиционном названии мы видим известный нам иероглиф Ли, трактуемый – а именно об этом свидетельствует весь текст документа – в своем более позднем значении («уложения», «церемонии»), свидетельствует о его относительно позднем происхождении (не ранее IV в. до н. э.). При этом известно, что сам термин «чжоуский ритуал» (чжоу Ли) ввел в оборот Конфуций. Первые главы этого документа посвящены чиновничьей структуре в древнем государстве и обязанностям отдельных чиновников. Вот что можно прочитать в разделе, посвященном обязанностям одного из таких чиновников («Установления династии Чжоу (чжоу ли)», Раздел 1 «Небесные чиновники», пер. С. Р. Кучеры, стр. 158):
В первый же месяц нового года во главе подчиненных им чиновников просматривали записанные [для обнародования] тексты законов и объявляли [приказы], звоня в металлический колокольчик с деревянным языком.
А в примечаниях переводчик Станислав Р. Кучера пишет (там же стр. 244): «Имеющееся здесь в оригинале слово му до является названием ручного колокольчика с деревянным языком – если последний был тоже из металла, тогда наименование приобретало форму цзинь до. Использовался как сигнальный инструмент, особенно в армии». Нет сомнения в том, что археологические раскопки могут обнаружить такие «колокольчики» с остатками или признаками деревянного языка, – но только в археологическом слое, датируемом временем уже «после Конфуция». Авторитет Лунь юя просто обязывал китайцев начать производство именно таких «деревянных колокольчиков».
Для современного читателя осталась одна маленькая «неловкость». Все, конечно, похоже на правду, но Конфуций… и «тестикулы»? Ответим так: у нас, христиан, менталитет совершенно иной, чем у древних китайцев, мои драгоценные читатели. Ведь мы же нисколько не смущаемся от того, что называем кого-то словом «драгоценный(-ая)»? И китайцы тоже не смущались этими «тестикулами». Когда наиболее образованного и успешного чиновника назначали смотрителем императорского гарема, – а значит, чуть ли ни главным советником правителя – его оскопляли (с его согласия, конечно, но иначе он эту высокую должность занять не мог). То, что у него удаляли, – он никогда не выбрасывал, а помещал в специально изготовленную для этого шкатулку большой цены. Чиновник держал эту шкатулку на почетном месте в доме, и то, что содержалось в ней, имело традиционное название: «драгоценность». И для нашего чиновника из суждения тот Конфуций, которого он увидел, был самой высшей драгоценностью, а иначе, – зачем на него смотреть, открывая гроб (проведем вполне уместную здесь параллель: тоже – в «коробочке», и тоже – открывали, чтобы посмотреть)?
Мы – люди мира – совершенно разные в наших словах и привычках, но самое главное для всех нас то, что у нас – одинаковое Дэ. До сих пор. И это – «чудо из чудес», как сказано, правда уже совсем о другом, в коптском Евангелии от Фомы.



