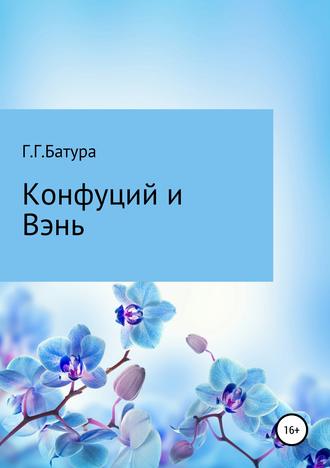
Георгий Георгиевич Батура
Конфуций и Вэнь
Суждение 2.18
2.18. Цзы-чжан подражал (сюэ) [древним в своем] стремлении (гань, т.ж. «щит [род мишени]») к награде (лу). Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Много (до) слушать (вэнь) – [значит] уничтожать (цюэ) сомнения (и). Быть внимательным (шэнь) к своим (ци) словам (янь) [даже] во второстепенном (юй, т.ж. «неглавное», «неосновное», «второстепенное дело») – [общее] правило (цзэ) для уменьшения (гуа) обвинений (ю) [в свой адрес]. Много (до) видеть (цзянь, т.ж. «уяснять», «продумывать», «вникать») – [значит] устранить (цюэ, т.ж. «уничтожать») [возможность] поставить себя в опасное положение (дай). Быть внимательным (шэнь) к своим (ци) шагам (син) [даже] в неглавном (юй) – правило (цзэ) для уменьшения (гуа) раскаяний (хуй, т.ж. «сожаление»). [Когда правильные] слова (янь) уменьшают (гуа) обвинения (ю), а [правильные] шаги (син) уменьшают (гуа) раскаяние (хуй), – [тогда] твое (ци) [стремление] к награде (лу) [которое заключается в том, чтобы] оставаться в живых (цзай), увенчается успехом (чжун, букв. «попасть [стрелой] в цель»)».
Традиционное понимание начала этого суждения такое, что ученик «учился с целью добиться жалования» (П. С. Попов).
Давайте еще раз попробуем конкретизировать значение иероглифа сюэ, который мы видим в этом суждении. Что означает наше слово «учиться»? Это значит перенимать какие-то знания или вещественные навыки в учебном заведении, самостоятельно или с индивидуальным преподавателем, используя при этом соответствующие учебники, наглядные пособия или дополнительную информацию из книг, интернета, фильмов и т. д. Учиться – это значит, вступать во взаимодействие исключительно с «внешними» предметами (все наши чувства – это тоже «внешнее», исходя из древней индийской классификации). Главная характеристика этого термина заключается в том, что человек познаёт что-то новое своим умом или своими руками (например, приобретает плотницкие навыки или обучается каким-то практическим ювелирным операциям). Но научиться христианству, например, нельзя, хотя можно изучать богословие в семинарии. И точно также невозможно научить сердце «любви», – это можно попробовать воспитать.
Тот иероглиф сюэ – «подражать», который использует Конфуций в Лунь юе, не имеет ничего общего со словом «учиться», потому что такое «подражание [древним]» направлено, в первую очередь, не на получение каких-то внешних знаний или рабочих навыков, а на особое воспитание своего собственного сердца. При «подражании» человек не получает новых знаний извне, точно так же, как йог не получает новых «знаний» при выполнении упражнений по концентрации внимания. Такое «подражание» – если оно будет успешным – само, «изнутри себя», даст человеку знание того нового, чему невозможно научиться извне. Это и будет то «знание знания», о котором говорит Конфуций в предыдущем суждении.
Принципиальное различие между китайскими глаголами «учиться» и «подражать» заключается в сфере их использования. Глагол «учиться» – это всецело социальный продукт, причем, учатся люди, как правило, у живых учителей. Глагол «подражать» относится исключительно к миру «духов предков», и такой человек учится «ни у кого», даже если он и подражает Вэнь-вану или Христу.
В соответствии с традиционным пониманием этого суждения Цзы-чан «учился» (или «обучался») у Конфуция, т. е. предполагается, что термин сюэ означает здесь отношения «ученик-учитель». В действительности в суждении речь идет о том, что этот ученик стремился «подражать древним», работая над собой самостоятельно и принимая во внимание советы Конфуция, – того человека, который конечной цели такого «подражания» уже достиг. И как ясно из этого суждения, Цзы-чан «подражал» не просто ради самого подражания, а стремясь к какой-то вполне определенной цели, которая в этом тексте обозначена иероглифом лу.
Традиционно этот иероглиф (БКРС № 9509) переводится как «жалование», «содержание», «карьера», «служебное благополучие», но все эти значения не имеют никакого отношения к подлинным словам Конфуция. В его время практически все «должности» в государстве занимали представители аристократических слоев, а ученики Конфуция – это, в основном, простолюдины. Возможность «сделать карьеру» появилась в Китае только после введения в стране официальных экзаменов на государственные должности, а это стало реальностью только через столетия после жизни Конфуция. И неужели сам Конфуций стал бы уделять этому чисто земному «карьерному» вопросу столько внимания?
Если мы посмотрим на иероглиф лу, то увидим в левой его части ключ ши – «алтарь», а мы уже говорили, что в древности все подобные слова имели отношение исключительно к духовным вещам (т. е. к «духам предков», их почитанию и их «потустороннему» миру). Но точно так же, как иероглиф сюэ со временем утратил свое древнее значение и приобрел новое – «учиться», также и иероглиф лу приобрел значение «жалование». В прекрасном Словаре Ошанина сохранено исходное значение этого иероглифа – «награждать», а значит, в том числе и «награда», причем, первоначально – именно духовная, т. к. здесь «алтарь».
Но вот какая именно это награда, – мы узнаём только в самом конце суждения. Конфуций назвал ее словом цзай – «жить», «быть в живых», «обитать в [верхах]», «быть в числе», «являться». Например, «быть в числе [духов верха]», – добавим мы от себя, ничем не прегрешая против мировоззрения Конфуция. «Оставь мертвым хоронить своих мертвецов» – так сказал когда-то евангельский Иисус одному из своих последователей. А отсюда вытекает, что наше общечеловеческое представление о «жизни» и «смерти» и представления об этом же предмете у Конфуция и Христа, не совпадают, причем, принципиально отличаются от наших. То, что мы сами считаем «жизнью», – это «смерть» в понимании евангельского Христа. А когда же здесь у нас начинается «жизнь»? – Только после нашего «рождения свыше». А если не «родились» – то так и умрем мертвыми. Ну а Конфуций, судя по всему, уверен в том, что и здесь, и там – одна и та же «жизнь», но при каких-то условиях там эта «жизнь» может оказаться совсем не жизнью. А следовательно, за «жизнь» там надо бороться здесь.
Интересно обратить внимание на полифонию высказываний Конфуция, которая придает суждению дополнительные смыслы, причем, часто более возвышенные, чем непосредственный текст. И в этом суждении – яркое проявление такого случая. Начало слов Конфуция звучит так: «до вэнь уничтожает сомнения». Но вэнь – это омоним того «главного» Вэнь, которому учил Конфуций, а иероглиф до в древности имел еще значение «*только лишь». В результате получаем духовную аксиому, высказанную Конфуцием: «Только лишь опыт Вэнь уничтожает сомнения».
Тот иероглиф вэнь (1), который мы видим в начале этого суждения – это «слышать», и он согласуется с последующим «видеть» (цзянь), которое возглавляет второй блок этого суждения. Но в древности этот иероглиф вэнь (1) также записывался вместо графически более сложного омонима вэнь (2), который обозначал «спрашивать» («разузнавать»), и в этом случае наш иероглиф вэнь (1) понимался в тексте уже как «спрашивать». То есть уже не «слушать ушами», а «говорить языком» (какие-то слова). И именно к этому его значению привязано последующее «будь внимателен к своим словам».
В чем здесь заключается главное наставление или главная мысль Конфуция? – В том, что человек должен всячески стремиться к «уменьшению обвинений» в свой адрес – со стороны, извне, и к «уменьшению раскаяния» – уже внутри себя самого. Для чего это необходимо? Только с одной целью. Дело в том, что для достижения любых духовных результатов в нашей душе должен царить мир. («Мир Мой даю вам» – говорит евангельский Христос, хотя это уже относится к заключительной стадии всего Пути). Как правило, этот мир нарушается или с внешней стороны – от окружающих, или изнутри – когда человек «грызет сам себя». И все это – только тот начальный «чистый лист» нашей души, на котором человек должен будет «записывать» многое из того, что «слышит» (вэнь) и «видит» (цзянь). Но эти его вэнь и цзянь должны быть «правильными», и не такими, как у тех, кто «стремиться к жалованию». А иначе можно «поставить себя в опасное положение». И мы уже знаем, что под этими словами понимал сам Конфуций. Фактически это означает – «не жить».
Интересно здесь проследить еще одну «игру слов», а правильнее – «игру иероглифов», которая полностью теряется в любом переводе. Вначале суждения сказано, что Цзы-чан «подражал в стремлении (гань)»… Но иероглиф гань в своем древнем значении – это также тот «щит», который использует в качестве мишени хороший стрелок из лука. А в самом конце этого суждения Конфуций заявляет своему ученику: «Тогда твое [стремление] к награде увенчается успехом (чжун)». Иероглиф чжун очень древний, и он переводится как «середина», «центр», а также «попасть [в цель]» и уже отсюда – «добиться успеха». Графически он изображает квадратный щит, в центр которого попала точно выпущенная стрела (одно из его объяснений). Конфуций уловил это древнее значение иероглифа гань в словах ученика и ответил ему тоже «со вторым смыслом»: «Если исполнишь сказанное, – попадешь точно в середину того щита, поразить который ты стремишься».
Лирическое дополнение к суждению: иероглиф совесть в Лунь юе
Несмотря на то, что мы уже уделили этому суждению достаточно внимания, мы не можем пройти мимо важнейшего духовного понятия – «совесть». Конфуций учит о духовном, а значит, вероятность присутствия в тексте Лунь юй этого слова очень велика.
Занимаясь последовательным рассмотрением перевода Лунь юй – суждение за суждением, – мы все время ожидали, что в тексте появится иероглиф, эквивалентный русскому слову «совесть». Дело в том, что западноевропейские переводчики не могут увидеть это слово в тексте Лунь юй по той простой причине, что во всех этих языках отсутствует адекватный эквивалент упомянутому русскому слову, а значит, европеец не в состоянии понять, о чем конкретно идет речь, если слово «совесть» в Лунь юе действительно встретилось. Но для того чтобы прояснить этот вопрос, нам придется немного углубиться в историю появления слова «совесть».
Вплоть до I в. н. э. европейская цивилизация – в лице греков (эллинов) и римлян – этого слова, судя по всему, не знала. Точнее, само это понятие – «совесть» – в текстах того времени еще не было сформулировано таким образом, как мы его знаем сейчас. Если мы возьмем самую полную русскоязычную «Симфонию» – алфавитный указатель к Священному Писанию христиан (Библия) и поищем там статью «совесть», то увидим, что это слово вообще не встречается в тексте Ветхого Завета (Священное Писание иудеев), – т. е. его и у древних евреев нет, включая даже псалмопевца Давида. Но нет его также в канонических Евангелиях, – что еще более удивительно. Точнее, оно упоминается один раз в Евангелии от Иоанна, но это – в более позднем вставном эпизоде (Ин. 8:9), где речь идет о «женщине, взятой в прелюбодеянии». Там сказано, что когда Иисус, сидя в Храме, говорит, обращаясь к книжникам и фарисеям: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень», – все они «будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим». Но этот эпизод с женщиной, как уже было сказано, носит более позднее происхождение, т. е. он может датироваться тем временем, когда уже появились «Деяния апостолов», а также «Послания апостола Петра» и «Послания апостола Павла», – в них это слово «совесть» в переводе на русский язык мы уже видим.
Более того, даже в этом вставном эпизоде с женщиной интересующая нас фраза – «обличаемые совестью» – добавлена уже позднее и она не встречается в ранних текстах, содержащих этот вставной эпизод. Современный общепризнанный научный текст Нового Завета (Nestle-Aland, 27-е издание) этого эпизода, а значит, и слов о «совести» не содержит. Маловероятно, чтобы древний человек вообще не испытывал этого чувства, – но оно, скорее всего, оставалось на периферии всего остального, и по этой причине не нашло конкретного отражения в европейских языках. Удивительно, но этого слова нет также не только у Платона, но даже у неоплатоников, включая Плотина.
Что же произошло в действительности во время проповеди Христа? Дело в том, что евангельский Иисус (а не его «двойник» – один из очередных иудейских Мессий) проповедовал на общеразговорном греческом языке, так называемом койнэ́, – что подтверждается не только сохранившимся греческим текстом Евангелий, но и филологическим анализом этого текста. Но в древнегреческом языке слова «совесть» не существовало. Иисус не стал придумывать новое слово для этого понятия (в этом случае Его бы окончательно признали сумасшедшим), а использовал наиболее близкую по своему значению замену – слово сюнэ́йдесис – «сознание» (в этой книге произношение всех гречнеских слов дается не по Ре́йхлину, которое является более поздним и которое было принято в Византии, а отсюда – в православии, а по Эра́зму, которое принято в научном мире и которое более точно отображает реальный фонетический строй разговорного языка того времени).
Смысловое содержание этого слова складывается из приставки сюн– (в сложных словах означает со-участие, что эквивалентно приставке со– на русском языке) и корня э́йдо, который является формой глагола о́йда – «знать», «понимать», «воспринимать». Все слово сюнэ́йдесис, включая приставку и окончание, образует существительное «со-знание». Так это греческое слово обычно и переводится в тексте Библии, но у Иоанна (в этом вставном эпизоде), а также в некоторых местах Посланий, оно переведено на русский как «совесть». Почему? Дело в том, что в этих местах оно трактуется не буквально, а «по смыслу», – так было еще при первом переводе Евангелий на церковно-славянский язык, когда этот вставной эпизод считался подлинным, – и это вступило, в какой-то степени, в противоречие с его основным древнегреческим значением. Кстати сказать, это означает, что слово «совесть» существовало в Древней Руси (и у других славянских народов) до перевода Евангелий на церковно-славянский язык.
Английское слово «совесть» – conscience (ко́ншэнс) является однокоренным со словом «сознание» – conscious (ко́ншэс), т. е. фактически повторяет главное значение его греческого эквивалента, и по этой причине оно не представляет собой того принципиального отличия от слова «сознание», которое мы имеем в языке русском. В англо-русских словарях это слово conscience переводится и как «сознание».
Главным действующим «органом» человека в евангельской проповеди Христа является «сердце» (у Конфуция – то же самое), а «совесть» – это «продукт» или «дитя» именно этого органа, в то время как «сознание» – это «продукт» мозга, т. е. нашей мыслительной деятельности. Подлинный последователь Христа – в Византийской, а не Римской традиции – со временем начинает «думать» не головой, а своим сердцем, – отсюда и рождается само понятие «совесть» (кстати сказать, именно к этому и призвана вся практика Иисусовой молитвы, которая родилась в Византии, – необходимо «спустить ум в сердце»).
В противоположность этому, европейцы – это наследники «ромейского/римского права», и для них «справедливость» заключается в строгом исполнении закона, а не в «прислушивании» к своему сердцу. Это наглядно видно из значения древнего греческого слова ди́кайос, которое одновременно означает и «справедливый», и «законный» (является производным от слова «закон»). И для иудеев тоже – Закон (Тора) прежде всего.
Для Христа и старой России (как наследницы Византии) – главное «сердце», т. к. именно оно «ищет правду», и найдя ее, руководствуется внутренним «голосом совести». «Совесть» – это подлинный девиз всей Русской цивилизации, которая обрела осознание себя самой только с принятием христианства. Даже после безбожной Октябрьской революции 1917 года последователи большевиков объявили лозунг, странный для сегодняшнего дня: «Партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи». И именно по этой причине Россия была жива даже с безбожными большевиками. Но после Горбачевской «перестройки» слово «совесть» сознательно исключили из русского лексикона, потому что «дела перестройщиков были злы». И хотя находившаяся прежде в загоне Церковь – расцвела, это ни на что не повлияло, потому что и в ней слово «совесть» забыли. Прежняя «совестливая» Россия Достоевского, Толстого и Анненского стала гибнуть, – буквально «рассыпаться на куски». Из-под нее «выбили стул» – то мощное основание, пусть только мысленное, на котором она стояла веками – «совесть». Горбачевская «перестройка» завершила Византийский этап существования России, а значит – существование самого государства в целом.
То Раннее Чжоу, которому следует Конфуций, уделяло огромное значение, как и евангельский Христос, человеческому сердцу, о чем мы уже неоднократно говорили. Именно Чжоу ввело в лексикон иероглиф «сердце» (синь), и именно рисунок сердца мы видим в составе иероглифов Вэнь и Дэ, а также многих других, связанных с нашими чувствами и внутренними преобразованиями. Та духовная ступень, о которой проповедует Конфуций, одинакова для всех людей, и это – «расширение» или «просветление сердца». А если так, – обязательно появляется понятие «совесть», которое обособляется от нашего «со-знания». Это мы видим в истории России и в древнем Китае, но не видим в Западной цивилизации, которая старается строго (правда, уже далеко не всегда) следовать закону или категории «права».
И вот теперь, когда мы дали читателю некоторое представление о содержании слова «совесть», зададим себе следующий вопрос: возможно ли такое, чтобы подобное состояние – когда человека «жжет совесть» – встретилось бы в тексте Лунь юй? Очень даже возможно. В Лунь юе пять раз встречается иероглиф «сердце» (синь) в своем «чистом» виде, и везде – именно в контексте правильного понимания Вэнь и Дэ, т. к. все эти иероглифы имеют между собой тесную взаимосвязь. Но, с другой стороны, «совесть» – это настолько интимное внутреннее чувство, что его невозможно «афишировать» ни в каком Учении, т. к. любое учение в этом случае вырождается в профанацию. Совесть – это та категория, которая относится к разряду «евангельского бисера». А что об этом говорил сам Христос – нам уже известно.
Для того чтобы иметь представление о том, ка́к понимают эту важную категорию современные китайцы – и понимают ли они ее вообще? – обратимся к современным словарям. Причем, мы рассуждаем гораздо шире: анализируя сегодняшнее состояние этого слова, можно сделать вывод о том, сохранилась ли в Китае традиция правильного понимания этого «русского аналога».
Итак, по-китайски «совесть» – это словосочетание лян синь, в котором иероглиф синь нам хорошо знаком – «сердце». Оба эти иероглифа нам уже встречались, хотя такое их словосочетание Конфуцию не известно. Иероглиф лян – даже в древнекитайском, не говоря уже о современном языке – это «хороший», «превосходный», «отличный». То есть сам китаец понимает это выражение в смысле «хорошее сердце», а это также значит – «доброе сердце». А известное нам выражение «совесть мучает» – на китайском это, буквально: «не мирное хорошее сердце». Второй китайский аналог для русского слова «совесть» – это «сердце-печень» (синь-гань), причем, это выражение означает также просто «сердце». А сам иероглиф синь, в своем отдельном виде, переводится сегодня и как «душа», «совесть».
То есть даже на первый взгляд видно, что сегодняшнее восприятие китайцем этого «русского слова» совесть носит весьма туманный и запутанный характер. Попробуем это доказать. Все это мы предпринимаем только с той целью, чтобы показать, что если в современном китайском языке фактически отсутствует правильное понимание категории «совесть», значит, любой «перевод», а точнее, понимание такого иероглифа в Лунь юе – если он там вдруг окажется – встретило бы затруднение у комментаторов Китая.
Процитируем стихи русского дореволюционного поэта Иннокентия Анненского (1855–1909) «о совести». Во вступительных статьях к его сборникам, где рассматривается творчество этого поэта, часто встречается мысль о том, что определяющей чертой его поэзии является «идея совести». Кстати сказать, слово «совесть» можно встретить в стихах у очень многих поэтов России: Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Алексея Константиновича Толстого (совершенно незаслуженно у нас забытого), Цветаевой, Мандельштама и других). Итак, приведем отрывок из стихотворения «В дороге»:
Перестал холодный дождь…
……………………………………………
В этом чаяньи утра
И предчувствии мороза
Ка́к у черного костра
Мертвы линии обоза!
…………………………………………..
…И кошмары снов мужичьих
Под рогожами телег.
…………………………………………….
Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть.
О, мучительный вопрос!
Наша совесть… наша совесть…
Этим четверостишьем стихотворение заканчивается. Анненский жил в Царском Селе, преподавал латинский и древнегреческий языки в учебных заведениях Петербурга, был назначен директором гимназии. Богатым человеком он не был, изучил более десяти иностранных языков, делал прекрасные переводы с древнегреческого, полностью перевел трагика Еврипида на русский язык. Умер от сердечного приступа, когда поднимался на ступеньки железнодорожного вокзала в Царском Селе, собирался прочитать в Петербурге лекцию о поэзии Лермонтова. Последние его слова – «Я не знал, что это произойдет так легко и безболезненно».
Попробуем «перевести» последние строки этого стихотворения на «китайский»:
О, мучительный вопрос!
Наше хорошее сердце, наше хорошее сердце…
Что-нибудь китайцу стало понятно «из Анненского»? Ничего. Хотя, сам читающий будет себе представлять, что «все понятно». Но «хорошее сердце» не имеет ничего общего с «совестью». Если вспомнить эпизод с «жертвенным бараном» (из Лунь юя, – он у нас впереди), которого пожалел ученик Конфуция, то, безусловно, такое «хорошее сердце» будет у ученика, а вот у Конфуция, у него – мы это скажем уверенно – «совесть». В виде совестливых обязательств – перед ушедшими предками, «духами верха». Те, кто с «добрым сердцем», требуют отмены смертной казни, а те, кто с совестью – настаивают на ее справедливом применении. Но в абсолютно бессовестном обществе такое требование губительно, – в первую очередь для честных и порядочных людей. И только по этой причине разумные люди боятся ее введения.
Но мы, конечно, несколько преувеличили: «хорошее сердце» все-таки имеет нечто общее с «совестью», потому что и тут, и там разговор идет о «сердце». Но если «хорошее сердце» – в том случае, когда речь идет о собственном сердце – оно всегда «мое», то «совесть», которая, по логике, тоже принадлежит мне – всегда «не моя». И человек с «хорошим сердцем» вовсе не обязательно должен быть человеком «с совестью».
Обратимся еще раз к этому стихотворению «В дороге». Хотя в данном случае можно было рассмотреть и его «Старые эстонки». Разве Анненский виноват в том, что по уже прихваченной ранним морозцем дороге идет – босиком! – какой-то нищий дед? Ведь в огромной дореволюционной России – 1000 судеб, и к каждой не приложишь своего участия, чтобы «всем было хорошо». А совесть Анненского говорит его сердцу обратное: «Виноват!». И никакие разумные аргументы ума в данном случае не помогают – совесть «жжет» наше сердце, и это сердце – только по причине наличия такой «несправедливой» совести – страдает. В таком страдании оно очищается, и такой «очищенный» человек никогда уже не сделает другому зла, никогда не украдет, никогда не ударит бессловесное животное. Сердце переболеет и, наконец, утихнет, став более светлым. Но нет сомнения в том, что такой человек, как минимум, мысленно возведет свой взор к небу, обратится к Всевышнему и попросит Его облегчить участь этого нищего страдальца. И мы, ведь, глупые, сами не знаем, – что́ для этого страдальца более важно (да и он этого не знает) – такая наша «просьба у Бога», или поданный этому нищему кусок хлеба или медный грош. Когда мы что-то искренно просим для другого у Бога, мы тем самым отдаем частицу себя, своего собственного сердца этому человеку. И это – главное.
Для того чтобы в человеке сформировалась зрелая совесть, он, как правило, сам должен перестрадать. Совесть – это обязательный внутренний компас человека, идущего к духовным вершинам. Когда сердце человека неосознанно равняется на этот «компас», – его, этого «компаса», как будто нет! Но стоит только сердцу хотя бы немного отклониться от его курса, – совесть начнет «нагайкой» хлестать наше «хорошее сердце». И от ее ударов никуда не деться. И миновать такого внутреннего «надсмотрщика» не может в своей жизни ни один человек, который достиг хоть каких-то духовных результатов. А Конфуций – достиг, без сомнения.
Итак, говорил ли когда-либо Конфуций о подлинной «совести» – знания которой не минует никто на своем пути к Вэнь – или не говорил? В рассмотренном нами суждении дважды встречается иероглиф хуй (БКРС № 8215), который имеет следующие словарные значения (в переводе на русский!): «раскаиваться», «сожалеть», «исправлять свои ошибки», «испытывать угрызения совести», «исправляться», а также «раскаяние», «сожаление». Перевод фразы с этим иероглифом – «Быть внимательным к своим шагам… общее правило для уменьшения раскаяний» не совсем логичен, если попытаться отследить главную мысль этого суждения. Перед кем «раскаиваться»? – Перед людьми, к которым «я» был несправедлив? Да, это хорошо, но как это связано с Учением Конфуция о духовном пути?
Иероглиф хуй состоит из двух графем: ключа «сердце» (слева) и иероглифа му – «мать» (справа). Эта графема поставлена под условную «крышу» в виде горизонтальной линии со штрихом, – «крышу», как бы отделяющую «мать» от «сердца». И в то же самое время эта графема «сокрыта крышей» от чужих взоров и чужого назойливого внимания. Му, в отличие от нюй («девушка», «женщина»), – это схематический рисунок «полногрудой» женщины, причем, короткими штрихами на ее «квадратных грудях» обозначены «соски́». То есть это – «кормящая мать», и рядом – «сердце». Этот иероглиф хуй и есть в первую очередь то, что в русском языке обозначает слово «совесть». Воображаемый «ребенок» олицетворяет высшую Истину, которой всегда следует «мать»: ради своего «сосунка» она готова отдать жизнь, – она всегда на стороне «истины-ребенка». И именно ей противопоставлено «сердце» в виде ключевого знака. Именно ему она «вещает» эту Истину. А вместе – это и есть «совесть» в нашем сердце.
Кстати сказать, в русском языке «со-знание» – это то «знание», которое есть и у других, и сам «я», осознавая его, становлюсь «со-участником» этого знания. А «со-весть» – это соучастие в той «вести», которая приходит к человеку не из мира людей, а из какого-то иного мира – мира высшего (шан). Итак, эти слова Конфуция следует понимать, скорее всего, несколько иначе: «Быть внимательным к своим шагам… общее правило для уменьшения угрызений совести». И насколько нам известно, этот иероглиф хуй в Лунь юе больше нигде не встречается.
Следует сказать еще несколько слов об одном достаточно наболевшем для России вопросе, – о том «неудобном моменте», который возникает при передаче фонетики Лунь юя на «богатый» русский язык. Китайское слово хуй – это очень хорошее китайское слово, которое встретилось нам в тексте. Но по-русски – это главное «матерное ругательство», т. е. слово табуированное в любом приличном обществе. И наши девушки стесняются, когда вдруг видят его на заборе – краска заливает их лицо (именно такую и надо брать в жены, совестливую!). Как поступить переводчику? «Прикрыть» это древнее китайское слово «фиговым листком», заменив его, например, на хуэй? Или «плюнуть, и оставить всё, как есть», сделав вид, что ничего особенного и не происходит (так многие и поступают, причем, именно так – в БКРС)?
Жил некогда в Византии один прекрасный небожитель – Симеон Новый Богослов. Слагал Гимны Богу и писал духовные «Слова»-наставления. Выше подняться человеческому существу по состоянию своей внутренней вселенной вряд ли возможно. Когда он был молод, у него был Учитель, тоже по имени Симеон (его-то имя и взял себе Богослов, в знак высшей степени почитания Учителя). Этот мудрый православный отшельник много лет прожил в уединении, в лесу рядом с Константинополем, и при этом всегда ходил обнаженным, как его за это ни корили церковные иерархи. И когда он беседовал с Богословом – тоже был голым, и этого не стеснялся – просто не обращал на это никакого внимания. И молодому ученику достало ума обращать внимание на его поучения, а не на его открытые гениталии. «Ученик – не выше своего Учителя» – сказал Христос. Богослов заказал портрет Симеона (добавим для не совсем образованных – не в полный рост), сделал из него Икону и молился на него, как на святого, за что понес наказание от церковного начальства.
Наше резюме будет таково. «Для грязного – всё грязно». Или иначе: «свинья грязь найдет». И для того читателя, который читает про «совесть», это слово хуй – не должно быть «грязным», если оно звучало чисто для Конфуция и для того древнего Китая, духовную жизнь которого мы сейчас пытаемся понять. Пусть это наше «ужасное» русское хуй будет «лакмусовой бумажкой» для читателя: со временем он не должен будет воспринимать его в нашем родном «матерном» контексте. Это своего рода – первый настоящий урок по внутреннему воспитанию себя самого, а не своего малолетнего ребенка. В Освенциме все были голыми, когда шли в газовую камеру, но на это внимания не обращали. У человека должны быть свои приоритеты, и он не должен равняться на тех животных, которых он видит вокруг себя в достаточно большом количестве. Свинья – хрюкает, собака – нюхает, а русский человек – матерится. И вся эта кагорта относится к разряду животных. Но свинья – навсегда, а русский… надеемся, что пройдут годы после этих «лихих лет», и у нашей молодежи мозги встанут на свои места.
Да, существуют свидетельства, что Лев Толстой тоже любил мат (в кругу близких друзей). Но пусть сначала тот, кто ратует за матерщину в нашем русском языке, напишет такую же «Войну и мир», а уж потом равняет себя со Львом Толстым и в вопросах употребления мата. Духовная сущность человека проявляется во время его смерти, а смерть Толстого была далеко не мирной. Его духовные поиски (в том числе перевод и объяснение Евангелий, а также мысли о Лао-цзы) были похвальными, но в этом он, к сожалению, не преуспел, – и ему в духовных вопросах было очень далеко до Конфуция. А в том, что Конфуций не матерился, – сомнений нет.
Люди Вэнь свою речь не портят, они свое слово берегут, т. к. почти с благоговением относятся к любому «рождению» мысли в окружающее пространство (и даже, – «про себя»). Отчасти по этой причине они любят благозвучие в виде стихов или музыки. И наш Конфуций именно таков: музыка и «Книга стихов» Ши цзин – это его стихия. А для тех, кто ориентируется на Льва Толстого в вопросах мата, добавим: наш великий Лев Николаевич в прямом смысле слова обожал стихи русских поэтов Тютчева и Фета, – он, читая такие стихи, плакал. И вы, матершинники, тоже плачете, читая великого Тютчева? Или вы даже имени такого не слышали? Лев Толстой прекрасно чувствовал русский язык, и только по этой причине, как истинный «ваятель слова», с ним пытался экспериментировать, – он был редким гением русской речи. И только отсюда – его пристальный интерес к табуированной лексике…



