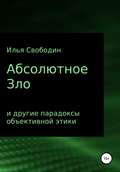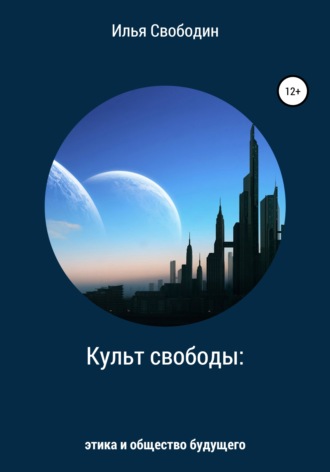
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
– Ложность науки
Не стоит слишком винить ученых в услужливости. Многим из них, активно занятым поисками истины (и зарплаты), недосуг задуматься над своим мировоззрением и тем, как оно влияет на эти поиски. А оно влияет. И наоборот. Научно-политические убеждения, т.е. ценностное отношение к социальной реальности, напрямую связанное с научным профилем (и помимо благодарности государству), зачастую само возникает в процессе профессиональной деятельности. Так, например, социологи постепенно становятся коллективистами, иррационалистами и иногда идеалистами, экономисты – индивидуалистами, рационалистами и частенько материалистами, антропологи – культурными релятивистами, а культурологи – уж и не знаю кем или чем. И затем начинают переносить свои убеждения далеко за пределы сфер научного интереса. Что логично. Наука же стремится обьяснить, найти причину, предсказать будущее. Но на самом деле, если осознать причины и следствия, то уже и вести себя начинаешь иначе. Например, в случае эволюционной психологии, этологии и прочей социобиологии – как животное. А как же ж? Мы же ж животные!
Все это обьяснимо. Социальную реальность люди создают, или по крайней мере пытаются, целенаправленно, а значит любые попытки найти закономерности, это либо 1) попытка отрицать очевидное, либо 2) попытка исправить и направить, что в свете отмеченной выше "обьективности", ставит каверзный вопрос – а куда? Ни существующее благо, ни что-либо иное кроме ОЭ, не может указывать верную цель. Остается 3). Изучать социальную реальность – искать способы закрепления существующего насилия "обьективных сил". Любые открытые таким образом законы – это предопределение дальнейшего поведения, самосбывающееся пророчество. Как можно противиться тому, что естественно и закономерно? И во всех трех случаях мы не имеем дело с истиной. Причинность материальной реальности удостоверяется практическим освобождением, причинность, найденная в соцреальности, если она там найдена, может быть признана истинной только в процессе аналогичного преодоления. А поскольку подобное преодоление сразу разрушает весь результат, надо признать, что социальные науки ложны в самой своей сути. Их могло бы спасти только точное следование ОЭ, но в этом случае они превратились бы не в науку, а в нее саму – нормативную и прикладную этику, в творчество и даже искусство. Надо, наконец, признать очевидное: само познание социальной реальности – уже ее конструирование, развитие и создание. Ибо наши знания о ней – часть ее самой.
Тут, наверное, ради обьективности пора провести черту между науками об обществе и науками о гуманоиде как детерминированном обьекте, нацеленном на выживание – индивидуальное и коллективное. Или научиться проводить такую черту внутри каждой социальной науки. Изучать человека как существо, запрограммированное природой – вполне правомочно, как и любое прочее ее изучение. Это и будет граница между детерминизмом и свободным поведением. И тогда наука вполне поможет его преодолеть, потому что поможет его распознать. Например, выявить специфику работы мозга, формирующего стереотипы. Или природу эгоизма, заставляющего нормальных с виду людей, которым просто не повезло родиться богатыми и со связями, опускаться до крайней подлости в использовании и того, и другого.
Результат естественных наук имеет практический выход – в этом, собственно и заключается цель познания. Тем более странно, что цель социальных наук как бы неизвестна. Понимание поведения влечет применение этого понимания на практике – т.е. изменение поведения. Но в чем смысл изменения? В чем смысл познания социальной реальности, если не в ее конструировании с целью улучшения и достижения общего блага? Очевидно, тоже блага, но уже не общего. Иного не дано. Или преодоление природы человека, или преодоление природой человека. И если уж сами ученые целятся точно мимо цели, что уж говорить об остальных, менее искушенных членах общества? Служение насилию само по себе становится целью науки в обществе, где правит насилие. И хотя социальные науки не привели напрямую к жертвам, если не считать нескольких несчастных случаев, они – проводник и укрепитель существующего социального порядка, что вызывает большие сомнения в их полезности. Насколько правильнее было, если бы ученые открыто обосновались на обьективной платформе ОБ и принялись искать пути к истине. С таким интеллектуальным потенциалом насилие бы недолго протянуло. Хотя кто знает.
13 Научная мораль
– Бессмысленность
Научная мораль – научный, т.е. сугубо правильный подход к проблеме правильности в поведении людей. Но какой подход правильный? Очевидно обьективный и универсальный, отделенный от всякого индивидуального интереса и традиционной коллективной практики. Возможно также логический и математический, но это сомнительно. В конце концов, здравомыслие присуще этикам, как и остальным здравомыслящим людям. Что касается ученых, выводящих этику из неумолимых законов природы и тем самым предлагающих нам превратиться назад в бессловесных природных тварей, пусть они сами следуют своей этике.
Как же так получается, что научная этика до сих пор не сформулировала в чем заключается правильное поведение? Моя субьективная догадка в том, что этики недостаточно обьективны и недостаточно универсальны. В процессе обучения им приходится усваивать множество убедительных теорий, обьясняющих происхождение, функции и цели морали. И что интересно – усваивать с позиции беспристрастности и обьективности, т.е. опираясь неизвестно на что. Но это невозможно! В результате, как и в социальной науке, им приходится принять какую-либо существующую точку зрения, а значит научная этика – это не столько создание этики, сколько внедрение в голову созданного ранее в качестве истины. Однако, в отличие от социальной науки, видимая обьективность не просто скрывает некую неявную точку зрения. Проблема в том, что эта точка зрения антиэтична – она отрицает этику как таковую! Согласитесь друзья, если учебник этики "обьективно" описывает множество этических систем, студенту исподволь внушается мысль, что все они либо одинаково обоснованы, либо одинаково ложны. Засорив себе голову этим хламом, несчастный студент неизбежно придет к выводу что этика субьективна и относительна, что абсолютных истин нет, что моральный долг – фикция. Так, изучение морали влечет моральные выводы, а обучение этике предотвращает ее дальнейшее развитие.
Причина, конечно, в том, что этика – не наука и даже не раздел философии. Это основа мировоззрения, основа, не побоюсь громкого слова, личности. Она не просто описательна – она предписательна, и отделить одно от другого невозможно. Даже если не использовать повелительного или иного мотивирующего наклонения, сам стиль выдаст намерения автора – нам ли не знать, как обосновать идею! Так что когда ученый этик внушает студентам свою точку зрения, при условии что он все же обосновывает необходимость морали – это не так плохо. Ведь зачем еще нужно познание этики, если не затем, чтобы доказать, что добро, слава богу, существует и далее предложить свое субьективное его видение?
Но с другой стороны, таких видений мы уже видели предостаточно. И традиционно-моральных, и практически-утилитарных, и утопически-теоретических. Быть обьективным не дано никому – кроме нас и нашей этики, конечно, друзья мои. А тем более таким ученым-философам, которые сделали из бессмысленного изучения этики свою вполне прагматическую профессию и которые, видимо в научных целях испытания общественной морали на прочность, не стесняются пользоваться преимуществами своего высокого положения в системе насилия для дальнейшего улучшения оного положения. Некоторые даже, слышал, пишут толстые, нечитаемые учебники о добре и зле, оценивают это добро в добренькую сумму, а потом обязывают студентов покупать и заучивать. Подозреваю, убедительности подобным учебникам не занимать. Особенно если учесть, что помимо толщины они снабжены длинным списком ссылок, подавляющим в студентах ростки малейших сомнений.
Я надеюсь, друзья, вам не надо напоминать, что ни "учебников", ни "учителей" этики быть не может? У свободных людей есть только диалог, частью которого, пусть и пока однонаправленной, являются настоящие письма, и будет являться, я снова надеюсь, будущая книга.
К счастью, видения, предлагаемые моральными философами, почти ничем и не отличаются от любых других. Разве что нарочитой расплывчатостью, оторванностью от жизни, да принципиальным скептицизмом в плане того, что вся эта этика – вещь крайне сомнительная и неясная. Что витает в философском воздухе уже тысячи лет. И, судя по всему, будет витать еще столько же. Это единственное, что отличает лучшую часть научной этики от прочих методов информационного насилия. Честность. Не знаю и все. И учебников не пишу. Вот такие этики вызывают уважение и желание выразить большое человеческое спасибо за невольную помощь в борьбе с научно-этическим засилием. Ну а худшую часть – учителей, претендующих на знание истины, трогать не будем. Я и так уже исписал тут всю бумагу.
– Мысленный договор
Я передумал! Простите друзья, просто невозможно пройти мимо такой удивительной философской проблемы, как проблема… социального договора, который стал довольно таки популярным последние пару веков! Вы не поверите, но многие философы всерьез занялись им и вот-вот решат проблему справедливости раз и навсегда. Не следует думать, что ее практическая, да местами и теоретическая сложность порождает у философов тяжелую философскую депрессию. Ничего подобного! На то они и философы, чтобы не бояться тяжести.
Вообще, договор, как средство разрешения противоречий – вещь универсальная. "Маленькая" договорная справедливость хорошо прижилась в спорте, на рабочем месте, в классной аудитории и огромном количестве других мест, где люди заранее и добровольно соглашаются с правилами. Проблема с жизнью и "большой" справедливостью в том, что ее никак не удается свести к карточной игре. Однако это не значит, что социальный договор обречен. Этика гарантирует ему успех – где-то в бескрайнем будущем. Но не всех устраивает такой неспешный подход. Прошлые неудачи не смущают новых теоретиков, которые постоянно придумывают теории справедливого социального договора, стараясь предугадать за всех живущих, как они бы хотели его составить. И если более скромные из них, вроде нас с вами, ограничиваются универсальными принципами гипотетического всеобщего соглашения, то теоретически более подкованные составляют его статьи прямо наживую, списывая его, разумеется, с нынешнего несправедливого общества – и, тоже разумеется, окончательно и бесповоротно, лишая несогласных каких-либо оснований для протеста. Для пущего правдоподобия, наиболее продвинутые из этих неназваных теоретиков проводят мысленные эксперименты, прогнозируя мысли и предугадывая идеи даже не живущих, а вообще любых мыслящих существ. Ведь разум у всех работает одинаково? Да и хотят все одного и того же, правда? Почему бы тогда не сконструировать "идеального агента", абстрактного, беспристрастного и обьективного? А для правдоподобия завязать ему глаза, лишить чувств и стереть память – и заодно разум. Тогда результат будет в точности соответствовать идеям самих теоретиков, обладающих, вне всякого сомнения, сверхестественными мыслительными способностями.
Удивительно, правда? Вместо того, чтобы попытаться посодействовать реальному договору, философы предпочитают брать на себя труд выдумывать и фантазировать. Ведь это намного легче! Зачем бороться за свободу, когда можно просто вообразить себя свободным? Зачем мучительно искать с кем-то компромисс, когда можно договориться с самим собой? И зачем признаваться самому себе, что ты всего лишь такой же угнетатель, как и все кто смог встроиться в систему лжи и насилия, да еще облеченный великим правом оправдывать ее морально. Вот подобные философы вызывают жалость и необходимость срочно перейти к следующему пункту нашего повествования.
***
А собственно… к какому пункту? Похоже пунктов больше не осталось! Совсем мой склероз меня одолел. Немудрено, такая усталость от этих писем все последние дни. И голова болит, и руки, и ноги – я ведь двумя руками писал, быстрее старался. Вот и результат – доразмышлялся до инвалидности. И это вместо свободы! Сам себя, можно сказать, обманул.
Да, кстати, об обмане. Не будет лишним лишний раз напомнить, друзья мои, что ложь – в любом виде – самое низкое, гадкое, отвратительное, безобразное и мерзкое насилие. Никакое другое насилие не может в этом сравниться с ней. И несмотря на это ложь вездесуща. Она сопровождает всякое иное насилие. Любое насилие, даже самое примитивное, начинается со лжи. Насилие без лжи невозможно, потому что разумные люди не склонны к насилию. Чтобы насилие достигло цели, надо сначала нейтрализовать разум. Пожалуйста, никогда не лгите! А приступая к размышлениям, не дурачьте себя, не стройте иллюзий, не поддавайтесь самовнушению. Помните – конец близок, а свобода – бесконечно далека.
Вот такое мое напутствие вам. Думайте, не спешите, не берите пример с меня. А то тоже получите инвалидность на ниве писательства. Не говоря о насмешках читателей. Да-да, я знаю, вы не могли скрыть веселья, читая мои письма. Однако будьте снисходительны к инвалиду – не все так плохо! Ну склероз, ну сумбур, ну отсутствие логики и вопросы без ответов… ну так что? Это не важно. Важно чтобы у вас, друзья, с головой было все в порядке.
За сим,
Ваш,
УЗ
PS. А пока суд да дело, пока я еще что-то помню, поведаю-ка я вам кое-что из моей прошлой жизни. Буквально пару историй. Вы же не хотите совсем остаться без моей компании? Эти истории нет никакого смысла включать в книгу. Книги пишут для посторонних. Вам я поведаю их чисто по дружбе.
Том 3. Об обществе
Безопасность: между рынком и государством
Давно это было. Горбатился я тогда в одной конторе от зари до зари света белого не видя, пока наконец не надорвал спину и не сломал живот. Но к счастью для работодателей, все обошлось. Направили они меня в салон лечебно-принудительного массажа – и не зря! Правда спина с животом так и не срослись, но зато там я познакомился с человеком будущего. Да! Человеком, который подарил мне веру, придал смысл и открыл глаза. Окрыленный и прозревший, с тех пор я несу найденный свет всюду, куда могу дотянуться. Внимайте.
1 Рыночная мечта
Человек этот был не простой. Он тоже надрывался в офисе, но этажом выше. Большой человек, с охраной. А сблизились мы на взаимной почве массажа. Массаж вообще располагает к близкому знакомству. Макс, так он представился, оказался созерцателем и мыслителем. Его любимая тема – справедливое общество, любимый способ туда добраться – раздать все вокруг в частные руки, а несогласных, и потому оставшихся с пустыми руками, отправить вместе с государством на ближайшую помойку истории. Я конечно не скрою, сначала не очень порадовался такому варианту своего будущего, но Макс оказался на редкость убедительным. Он обьяснил все мои беды бюрократически-олигархическим государством, которое мешает каждому проявить свою положительную сущность. Вот если бы не было государства, просветил меня Макс, а все управлялось свободным рынком, каждый мог бы получить по заслугам – а это и есть справедливость. А государство постоянно вмешивается, отнимает, перераспределяет и потребляет. Хотя при этом ничего не производит.
И я ему поверил. Ведь если так задуматься, а это хорошо получается в компании с массажисткой, все беды – от власти. Вечно она стращает, не пущает и удушает свободу, дороже которой ничего нет. Это ж прямо тюрьма какая-то! Узрев во мне единомышленника, Макс воодушевился и расписал мне такие перспективы, что я чуть было не свалился с массажного стола. И забрезжила перед нами новая заря скорой рыночной революции. Озаренные, мы стали наперебой возмущаться государственно-мафиозной олигархией с нечеловеческим лицом и воображать как расцвело бы все вокруг, исчезни из нашей жизни эта пакость.
И все бы хорошо, да только когда я наконец стукнулся головой об пол, я сообразил, что есть одна вещь, которая ну никак вписывается в свободный рынок. Ведь если всех отпустить на волю, мы ж побьемся головами! Кто-то ж должен нас беречь. Странно, что эта мысль самому Максу в голову не пришла, ведь охрана то как раз у него, не у меня. Оказалось – пришла. Более того, Макс очень доходчиво мне обьяснил, что именно без государственной мафии наступит полный порядок, потому что частные охранные агентства перейдут на самоокупаемость и бросятся очертя голову охранять простых граждан, жестоко конкурируя до последнего клиента. Будут следить за нарушителями и посягателями. Будут сторожить наши завоевания и стеречь нашу свободу. Короче, будут бороться за переходящее красное знамя капсоревнования, а счастливым гражданам останется только выбрать самое улыбчивое агентство, предоставляющее самую надежную безопасность по самой скромной цене.
Уж не знаю, то ли я так сильно ударился головой, то ли еще по какой причине, но не смог я прогнать сомнение. И задумался, хотя мне это, в общем, не свойственно. Первое, что мне пришло в голову, что государство – это в принципе и есть частное охранное агентство. Только очень большое. Нет, конечно монополия – это не комильфо. Не рынок. Но ведь государство на свете не одно. Есть и другие. Можно выбрать где лучше. Да только везде одно и тоже, в разной правда степени. Сговорились они, государства эти.
– Ты не понимаешь,– обьяснил Макс,– на свободном рынке нельзя сговариваться. Это наказуемо.
– А кто накажет?
– Другие агентства. Их же много.
– А… – сообразил я. – Война?
– Рынок! Конкуренция!
Боже упаси от такой конкуренции, подумал я, косясь на сурового охранника Макса, подпоясанного тяжелым ремнем в окрестностях брюха. И снова задумался. Откуда пошла власть эта? И почему нет свободы, хотя всем только ее и хочется? Неужели гнет власти, ее законов и ее правосудия – единственное состояние гомо, нашего глупого, сапиенса? Сколько мы на этой многострадальной земле, а власть есть всегда. Хоть рынок, хоть не рынок. И что-то не рынок эту власть под себя подминает, а все больше она его. Уж как хорошо при рынке – и цены низкие, и зарплаты высокие, и бедных мало, и богатых много, а вот поди ж ты – власть неискореннима. И всегда мешает. Мешает и никак не хочет в наш свободный рынок. Не нужны ей наши капиталистические деньги. Ей, власти, только власть нужна.
А только ли власть такая упорная? – стал я размышлять дальше. Только ли власть такая неподкупная? Вот та же конкуренция и чисто конкретный капитализм. И кто только прописал Максу все эти рецепты? Конкуренты – это ж враги. Им только дай. Ну понятно, Макс – бизнесмен и провидец. А мне, с простого массажного стола, видится иначе. Если вооруженная охрана конкурирует, я лучше под столом пережду!
Нет, не так все стройно с этим рынком. Криво я б сказал. Вот массаж можно купить, почему же нельзя охрану? Макс купил, как-то ему это удалось. Богатые, они все могут купить. Но бедным людям все не нужно. Особенно массаж. То ли дело охрана. На первый взгляд – как бы массаж головы, чтоб спать спокойно. Но массаж – штука опасная. Голову нельзя расслаблять. Вдруг массажисту зарплата покажется маленькой? Он попросит – раз, еще раз. И что делать? Сказать – добро пожаловать в рынок? Массажист, который по телу, он уйдет, и ты другого наймешь. А который по голове – не уйдет. Возьмет за горло и улыбнется. Ты к другому побежишь, мысленно конечно, а другой вежливо так – извините, Вы не наш клиент. Весело? Еще как! И понять их, в принципе, можно. Им своя безопасность тоже не лишняя.
Но это еще полбеды. Это еще по божески, потому что очень похоже на любимое государство. Куда хуже, если она – твоя охрана – скромно промолчит. И о том, что ей – твоей охране – кто-то заплатил больше – за твою же безопасность – ты так никогда и не узнаешь. Как же тогда покупать безопасность? А вдруг таки недоплатил? Вдруг у соседа ее больше? Или переплатил? С чем сравнить? Опять с соседом? Это ж бесконечный убыток, потому что собственная безопасность ни с чем не сравнивается и ничем не измеряется. А раз так, все эти вольные братства обязательно скупит какой-нибудь начинающий цезарь с большими карманами, великими планами и хроническим ощущением собственной уязвимости. Мало что-ли мы их уже повидали? Да и без великого цезаря в каждом безопасном агентстве найдется свой, пусть маленький, но тоже страдающий. И возьмутся они выяснять, кому из них безопаснее. И что противно – обязательно кто-то да победит. Не получится так, чтобы они все друг друга поубивали. Нет, не получится.
А с другой стороны, доверяться нынешним победителям – в виде мужей государства – тоже нет смысла. Чем они лучше? Тем, что помыты, побриты и глядят неподкупными глазами? Это тоже все пока. Пока им выгодно. Смотрят на тебя, а сами схватились за вымя и массируют, массируют… И нет средств их остановить. Не придумали люди за все свои долгие века. Так может и правда лучше рынок – там хоть сам выберешь кто? В конце концов, что мне ближе – мой личный выбор или ихние общие выборы? Персональное стойло или коллективный хлев?
Вот это дилемма! Пришлось мне мысленно бороться за будущее. Уж больно мне противны все эти государства и рынки. Пришлось, короче, усиленно думать. Нет, ясен пень, есть что-то нездоровое в идее, что закон, регулирующий рынок, должен регулироваться рынком. Почти то же, что и в идее, что цены, помогающие составить план, спускаются госпланом. Деньги и власть – две независимые силы. И они вполне стоят друг друга. Есть право – деньги не обязательны. Есть деньги – закон не помеха. Их противоестественный союз выражается в нашей веселой жизни качелями, с одной стороны которых нас давит рынок, а с другой – прессует государство. И уж коль скоро нам грезится свобода, надо бы не только распрямить рынок, чтобы он наконец проявил свою щедрость и доброту, но и нагнуть государство, чтобы оно не мешало нашей вольной инициативе. Найти ту единственную позу, где они бы уравновесили друг друга. Ибо порознь они нас сплющат и сами не заметят.
Об эту задачку набили шишки многие. И в мысленном построении безопасного будущего Макс со товарищи пожалуй выбрали правильное направление. Да и продвинулись дальше всех, жаль в обратную сторону. Это я сообразил еще тогда, на массажном столе, еще до того как узнал о шальной пуле и трагической гибели.