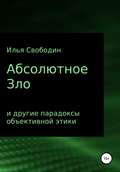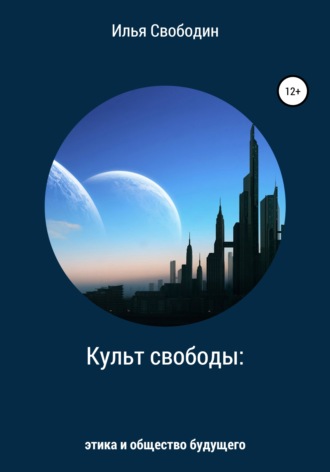
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
13 Автономия
– Индивидуальность разума
Нежелание мыслить занимает почетное место в цепи шагов, ведущих в обьятия коллектива. В стремлении к черте чувственные механизмы обязательно должны подкрепляться мыслительными. К сожалению, если эмоции возникают сами собой, это не всегда свойственно мыслям. Быть человеком означает не только жаждать свободы и справедливости, но как минимум участвовать в договоре. А участие – это труд и работа мозга, та работа которую очень не любят животные. Человек должен быть активным, он должен размышлять, делать то, что не требуется, не вызывается непосредственными бытовыми причинами. Зло не спит, а насилие не останавливается. Да и прогресс не стоит на месте – за тысячи лет появилось множество идей и они все еще появляются, что требует все большего умственного напряжения, постоянного поиска информации и анализа. Кто ленится думать оказывается во власти других – тех, кто снабжает его готовыми решениями, учит добру и злу. Невежественные превращаются в ведомых, теряют достоинство, человеческое звание и моральную автономию.
Что такое автономия? Это самостоятельность, независимость и ответственность. Если достоинство несколько статично, оно характеризует скорее отношения между людьми, то автономия динамична, она отражает деятельность человека, его целеустремленность и активность, способность самому ставить и решать вопросы.
Но как человек может быть независим, когда любое его действие должно быть согласовано договором? Мысленно. Если действия согласовываются, то размышления могут и должны быть самостоятельны и независимы. Иначе не получится самого договора. В чем смысл согласования действий, если все и так думают одинаково? Только имея свое независимое мнение, индивидуальную точку зрения, можно приступать к договору. Это – необходимое условие как поиска обьективности, так и этичности результата договора. Независимость мысли сводится к умению пренебречь всевозможными влияниями, и внешними, и внутренними, и вместо этого опереться на собственный опыт, интуицию, интроспекцию и прочее, что необходимо разуму. Можно сравнить с достоинством. Достоинство – тоже умение преодолеть влияния, но в отношении к другим.
Автономия работает и после договора. Здесь самостоятельность выражается в том, что человек следует договору сам по себе, независимо от других. Он, так сказать, принимает на себя ответственность за договор, за все общество. И как раньше, он остается независим от всякого влияния, в том числе "положительного", и внутреннего – эмоционального, вызывающего эмпатию, жалость и другие похвальные чувства, и внешнего – идеологического или религиозного, прививающего сознательность, благомыслие и другие похвальные качества. Он этичен не потому, что ему кто-то велел подставить щеку и не потому, что ему жалко котенка, а потому что он обладает собственным мнением и собственной волей. Источником этики его поступков для него служит только договор.
А как, например, быть, если норма оказалась недостаточно этичной? В такой ситуации возникает этический конфликт. Автономия требует, с одной стороны, отказаться от нормы, а с другой – безусловно следовать ей. Очевидно, разрешение конфликта возможно только если инициировать заключение нового договора, одновременно следуя старой норме, пока нет новой. Ибо правильна только норма, появившаяся вследствие договора. В этическом конфликте, невозможном без автономии и необходимом для этического прогресса, проявляется противоречие между индивидом и коллективом. Норма – дело общее, способность мыслить – индивидуальное.
Бездумное подчинение коллективу, любым его традициям и нормам, неспособность и нежелание мыслить – сущностное начало дикаря. То, что стадо – способ его существования, совсем не удивительно, поскольку разум – первое, что отличает человека от животного. Я предвижу ваши возражения, друзья. Да, разум зародился в коллективе, он насквозь социален. Преодолев животный эгоизм, разум сплотил альтруистичный коллектив. Но после этого он вновь возродил индивидуальность, на новом, свободном уровне. Освобождая, разум противостоит насилию, в том числе насилию коллектива. Разумный человек самостоятельно принимает решения и несет за них ответственность перед всеми. Это и есть цель разума – обьединение самостоятельных индивидуальностей в единое целое. Если решения принимает стадо, а ответственность не несет никто, мы скорее имеем дело с толпой баранов.
У воспитанных в насилии развивается лишь продвинутая способность следовать – инстинктам, внешним обстоятельствам, чужой воле. Закостенев, такой "разум" сам ищет подчинения, его даже не нужно к этому принуждать. Разумный человек использует другого в качестве равноценного дополнения, помогающего достичь обьективность. У неразумных людей другой становится заменой разуму. И эта коллизия неизбежна, поскольку человек не может избежать коллектива и общения. Но одно дело коллектив друзей или сотрудников, другое – коллектив как замена "я". Самодостаточный человек воспринимает всех остальных одинаково, не выделяя своих, не идентифицируя себя с ним. Он договаривается с таким же, а не становится таким же. Он не прогибается под количество, не льнет к массе. Его не волнует количество, потому что оно не влияет на обьективность. Даже наоборот. Масса несовместима с автономией. Чем самостоятельней человек, тем он индивидуальнее и уникальнее, тем менее склонен к ослеплению высокими идеями, фальшивыми ценностями и идеологическими штампами, предназначенными всегда и всюду только чтобы дурачить массу и вести ее за вождями. Тем он интеллектуально дальше от "мы" и ближе к "я".
– Власть и послушание
Автономия – вещь довольно банальная, о ней как-то неловко и говорить, она подразумевается. Тем наглядней противоречие между автономией и властью, принимающей на себя моральную ответственность, которую ей никто не давал. Физическое насилие вышестоящих недолговечно. Моральное – в форме государственной идеологии и "образования" – может продолжаться всегда. Оно делает из подчиненных инфантильных недорослей, нуждающихся в постоянном контроле. Увы, первая мысль приходящая в голову, когда думаешь о реальности свободы – да кому она нужна? Разве можно давать свободу детям государства? Граждане – это шестеренки властной машины, они крутятся только под прессом и чураются свободы, как черт ладана. Для них нет ничего страшнее хаоса, анархии. Чуть они заметят где непорядок, оскорбляющий их высокую мораль – послушание общепринятому – они будут строчить кляузы с требованиями немедленно пресечь. Да еще гордиться этим. Ведь законопослушание – это важнейшее достижение цивилизации, а его отсутствие – признак безнадежной культурной отсталости, не так ли?
Превращение граждан в аморальные шестеренки наиболее ярко проявляется в преступлениях, оправдываемых приказами сверху. Причем если сопротивление приказу еще чревато последствиями, что позволяет людям оправдываться слабостью и безволием, то в самых одиозных своих формах аморальность проявляется бесконфликтно, обыденно и даже с чувством глубокого удовлетворения. Системное, организованное насилие существует только благодаря людям, готовым выполнять самые отвратительные вещи, если с них снята ответственность, а тем более, если их покорность вознаграждается. Без таких шестеренок не было бы ни власти, ни иерархии, ни охранительной, а точнее репрессивной системы, ради буквы очередного демократически принятого закона методично ломающей чужие судьбы. Благодаря морали государственной шестеренки – "я плачу налоги, а остальное меня не касается" – все общество превращается в одну большую бездушную машину, работающую по своим, нечеловеческим законам. И нет ничего удивительного в противоречии между кляузной активностью шестеренок и их неожиданным равнодушием к тому, что их "не касается". Своим выборочным равнодушием они только подчеркивают полную покорность – власть всегда права, не правы те, кто с этим не согласен.
Так что нам не избежать этого морального механизма, который, несмотря на всю его банальность, необходим свободе так же неотложно, как покорность – власти. Почему люди подчиняются законам? От страха или из этики? Последнее кажется более вероятным. Следование правилам – очевидная часть этики и хочется верить, что люди все таки этичны. Однако, если посмотреть на обьем и безумие предписаний, которые безостановочно извергает вулкан власти, закрадывается невольное сомнение. Не следует смешивать абсолютно этичное отрицание насилия, которому люди следуют сами по себе, с подчинением этой лавине. Есть безусловная разница между нормами, следующими из собственного договора, и навязанными сверху, пусть и с подобием договорных процедур.
Принуждение властью ко всякой мелочи, которую она стремится зарегулировать, порождает атрофию морали и в итоге выливается в два типа поведения. Пока одни, скрывая под конформизмом страх и отсутствие принципов, превращаются в шестеренки и следуют самым аморальным законам, другие становятся циниками и, вместо честного подчинения полезным, начинают игнорировать их все опасаясь только одного – попасться.
Девальвация законов – и безграничным ростом их количества, и очевидной бесполезностью в устранении общественных несправедливостей – приводит к тому, что законопослушание становится неотличимо от послушания – первой добродетели зависимого человека. А отсюда итог: тоталитаризм, полный контроль, слежка, охват законами всех областей жизни – человек ныне лишен пространства морального выбора. У него больше нет ничего своего, ни цели, ни смысла, за него все решено. Вся его жизнь так и проходит в безусловном подчинении моральным авторитетам – начиная с родителей и кончая сиделками в богадельне. Системное насилие стремится полностью определять его поведение, власть стремится к безграничному расширению. У человека не должно остаться никаких областей свободы. Послушание не может быть выборочным, тогда оно чревато гибелью системы, а потому завинчивание гаек детерминированно точно так же как и девальвация законов.
– Любовь к подчинению
Пассивное послушание постепенно развивается до активного – любви к подчинению. Причина – слабость разума. Начиная с лени, экономии усилий, он приучается перекладывать работу на других, обманывать моральные механизмы, а кончает аппатией и безразличием. Так человек превращается в раба, в том числе раба своих пороков. Что усыпляет разум? Разумеется детерминизм – у него есть не только кнут, но и пряник. Послушание вознаграждается. Например, физиологические потребности не только мучают, но и доставляют удовольствие. По тому же пути пошли и психологические потребности и даже моральные. Естественно, что получаемое таким образом удовольствие, если касается посторонних, идет прямо поперек этики.
Любовь к подчинению ярко выражается в сотворении кумира – ведь как хочется быть на кого-то похожим! Тем более, что подражая, становишься лучше. Но любовь слепа. Не всегда обьект обожания достоин не то что подражания, а вообще внимания. Но, как ни странно, значительная часть общества питает искреннюю привязанность к знаменитостям, "звездам". Любовь эта проходит красной нитью через всю их жизнь, согревая ее и озаряя блеском далекой славы. Поклонение идолам подавляет личность, убивает потребность критично мыслить. Вы не замечали как ущербны любые фанаты?
Не менее ярко потерю автономии иллюстрирует поклонение модному учению, проповедуемому каким-нибудь духовным "гуру". Разобравшись в жизни и поняв что к чему, проникаешься ощущением моральной правоты. И хотя последнее время выбор учений существенно вырос, пальму первенства в моральной опеке все еще держит религия, чьи простые истины оставляют мало места для сомнения. Ощущение зависимости, никчемности, предопределенности своей судьбы прекрасно заменяет необходимость думать и действовать – благо, нашлись мастера озаботившиеся составлением для убогих свода заповедей на все случаи жизни. Изюминка в том, что их всемогущий Бог, почитаемый за Добро, не что иное как старый добрый детерминизм, то бишь Зло.
В наше просвещенное время, когда страх молнии сменился страхом налоговой инспекции, надежды, чаяния и любовь подвластных обращены не только к богу, но и к его солнцеликим наместникам на земле. Кто из современников, гордящихся активной жизненной позицией, интересуется, например, этикой? Никто. А политикой? Все. Она стала главной темой современности и современников, готовых поддержать любую глупость выдвигаемую "этой" партией, против "той" партии. "Этим" кандидатом против "того" кандидата. "Этой" идеологией против "той" идеологии. Активное послушание создает видимость моральной автономии, участия в неком социальном договоре. Но выбор власти не есть выбор свободы. Выбирая из того, что предлагает власть, нынешние пикейные жилеты лишь взыскуют вечного руководства собой. Закона и порядка. Стабильности и безопасности. Хлеба и зрелищ. И так же, как парализованные страхом верующие гнобили своих же оступившихся товарищей, нынешние винтики требуют от желающих свободы подчинения законам, участия в выборах, уплаты налогов – или немедленно покинуть их замечательное общество. Как всегда, кому-то не хватает свободы, а кому-то – кнута!
Подчинение эмоциональному и моральному насилию – не единственное, приносящее удовольствие. Как насчет экономического, которое тоже доставляет приятные минуты? Здесь подчинение менее явно, но радость – вполне реальна. Кто не ощущал удовольствия от скидок, распродаж и прочих "выгодных" сделок? Кто задавался мучительным вопросом – за счет кого эта выгода получена? Кто смог найти в себе силы отказаться от услуг крупной компании, осознавая, что она уже силой своего веса, не говоря о связях в эшелонах власти, душит конкурентов и эксплуатирует общество? Кто смог ограничить свое потребление, зная, что оно наносит вред природе и обществу, не говоря о себе? Кто смог отказаться от денег, зная что они – лишь долговая удавка на общей шее? Друзья, вы вероятно не согласны? Вы думаете, что накапливая собственность, повышая свое благосостояние, получая выгоды от удачных сделок, человек на самом деле оказывает экономическое насилие? Вовсе нет. Экономическое насилие обоюдоостро. Выигрывая в мелочи, удачливые покупатели проигрывают по-крупному. И хотят этого. Хотят дешевого, броского, взятого в кредит. Хотят участвовать в лотереях, накапливать очки и баллы. Хотят всю жизнь работать не на действительное благо общества, а на личное, безрассудное потребление. Хотят поклоняться дорогому, престижному. Хотят переплюнуть соседа. И хотят любить крупные компании, потому что это марка и гарантии, а работа там – престиж и карьера. Крупная компания – та же "звезда", затемняющая разум. А экономическое подчинение – инстинкт, ничего общего с разумом не имеющий, уступая которому человек уступает другим – тем, кого его рабское потребление возносит на вершину экономической власти.
"Лучшая" жизнь ассоциируется для многих не с достоинством, а с достатком. Рынок затуманивает разум иллюзией безграничной свободы выбора. Но дело тут не в свободе. Либерализм манит свободой, а соблазняет изобилием. Кому нужны автономия и достоинство, если они требуют умеренности и скромности? Кому нужна ответственность независимости, если можно наслаждаться сытым рабством? Выбирая между равенством в простоте и неравенством в роскоши, люди не задумываясь выберут последнее, даже зная, что их место всегда будет внизу. Лучше модное чем полезное, дешевое чем качественное, а сейчас – лучше чем завтра. Даже если платить в итоге придется втридорога.
Надо упомянуть и такую экзотическую, и одновременно привычную любовь к подчинению, как склонность к развлечениям. Не тем, которые полезны для души и тела, а тем, которые заведомо вредны, но которые так приятны. Мы опустим личные – о них каждый сам знает и они, в конце концов, касаются только его. Куда важнее те, которые касаются других. Например, любовь к телевизору и прочим СМИ, ставшими чем-то вроде Великого Учителя. Массовые медийные развлечения, от художественных до новостных, не только засоряют мозг, но и формируют личность – социальное лицо человека, его роли и поведение. Подсевшие на иглу СМИ и массовой культуры граждане становятся все менее самостоятельным и все более послушными. И им это нравится.
– Отказ от ответственности
Отказ от активного послушания не обязательно ведет к бунту. Общество никогда не будет идеальным и этичный человек всегда видит его несправедливость. Но иногда, понимая что не в состоянии в одиночку изменить его, он предпочитает отстраниться, отгородиться, внутренне "эмигрировать". Он как бы выбирает нейтральную позицию между добром и злом. Он говорит себе так: "Да, бороться со злом мне не по силам, но по крайней мере я не буду в этом участвовать". Более того, отстраняясь он начинает казаться себе лучше других, начинает смотреть на них свысока, презирать за их неспособность "не участвовать". Он даже мнит себя философом, поскольку интуитивно вынужден искать оправдания и придумывать разнообразные хитроумные отговорки. Забравшись в башню слоновой кости, он погружается в отвлеченные размышления и чем более бессмысленными они становятся, тем выше кажется себе философ. Но спросим себя, друзья философы, а возможна ли такая нейтральная позиция в принципе? Понимание добра как свободы позволяет ответить на этот вопрос со всей определенностью. Свобода – это уже баланс, отклонение от которого есть зло. Никакой дополнительный баланс между свободой и несвободой невозможен. Зло автоматически получается, как только человек перестает стремиться к свободе, отказывается от добра. А потому всякое забалтывание свободы, побег от реальности и уход в себя – лишь формы конформизма, приспособления и выживания. Моральная автономия тут если и проявляется, то, прямо скажем, довольно аморально.
Свобода требует постоянной борьбы, умения видеть все последствия своих действий, их влияние не только на себя, но и каждого постороннего. Умения исправляться, учиться и морально расти. Как это тяжело! Бывают случаи, когда разочаровавшись в идеалах и людях, отвергнув массовое общество, человек… нет, не становится морально автономным. Он опять подчиняется – но теперь своей депрессии, отчаянию или апатии. Он прикрывает больную совесть напускным цинизмом, начинает ненавидеть окружающих и жить опять становится легче. Впрочем, усталость и безразличие хоть немного присущи каждому из нас. Человек просто не в состоянии постоянно бороться, особенно в обществе системного насилия, где собственное бессилие слишком очевидно.
Подчинением, но теперь своему благополучию, сытости и определенности, также можно обьяснить боязнь перемен, желание оставить все как есть, даже если разум уже видит неправильность и знает как следует действовать. Личный консерватизм говорит о поражении в борьбе с детерминизмом, о моральном упадке и смерти автономии. Человек полагается на стабильность и плывет по течению, получая удовольствие от привычного.
Во всех этих случаях человек сознательно слагает с себя ответственность за общество и тут пора вспомнить о личной сфере. Автономия начинается с ответственности в семье. И с наказания тоже – как условия и воспитания, и восстановления справедливости. Я знаю, друзья, вам это уже надоело, но "правильное" насилие – это важно! Суд нейтрален и публичен, но обязанность и право наказания должно остаться личным. В чем смысл самостоятельности, если за тебя решает и наказывает кто-то иной, которому твои обиды глубоко неинтересны? В чем смысл ответственности, если отвечать приходится перед безликой государственной машиной, которая всех гребет под одну гребенку? А если придется отвечать перед теми людьми, которые пострадали?
Когда ребенок становится взрослым? Когда он принимает на себя ответственность. Когда он замечает, что все вокруг зависит от него тоже. И когда, изрядно набив руку жульническим исправлением отметок в дневнике, как бывало у нас в школе, он вдруг сам исправляется и начинает исправлять их честно занимаясь до самого утра. К ответственности нельзя принудить, воспитание ее требует доверия и риска. Да, каждый пока вырастает набивает шишки, без этого еще не получается. Однако, если бы родители, вместо доверия беспрерывно опекали и потакали – никто бы не вырос. Вот мне, например, повезло – я вырос и даже научился писать. Нынче, когда детей воспитывает государство, а не родители, мне бы этого уже не удалось.