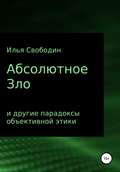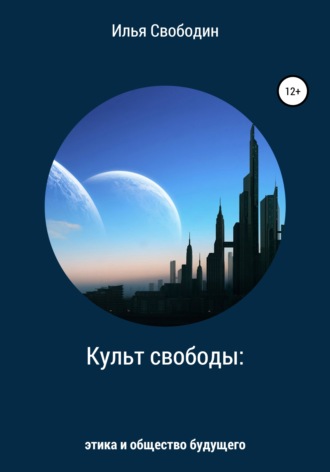
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
Истина и ее окрестности
Друзья мои!
Мучительные сомнения никак не позволяют мне приступить к долгожданной Книге Этики. Раз за разом я возвращаюсь мыслями к свободе, которая открывает каждому безграничные перспективы собственной правоты, и спрашиваю себя – прав ли я? Не ошибся ли где? И отвечаю – да! Нет, не ошибся! Но как же я могу быть прав, снова говорю я себе, когда все остальные могут быть тоже правы? В чем тогда правота? И опять отвечаю – в свободе каждого. В том, что у всех одно общее право на правоту – свою собственную. Но тогда я снова спрашиваю себя – в чем оно? В том, что каждый может быть прав? Даже если он неправ? Так прав я или нет? – спрашиваю я себя снова и снова и отвечаю опять и опять…
1 Загадка моральной истины
– Что такое истина?
В бытии и здравии разума самым важным является истина. Бытие и здравие разума – понятно что. Это – постоянный поиск. А что такое истина? Истина – это соответствие того, что разум нашел, тому, что он искал. А именно – правильности построения общества, красоте общественной конструкции, вечности результата усилий. Всякое иное понимание истины бесперспективно. Если понимать истину как соответствие наших знаний материальной, физической реальности, то такая, научная, истина к делу не относится – знание законов физики, биологии и даже психологии ничего не может нам сказать о том, что правильно в этой жизни. Мы же не собираемся жить по законам физики с психологией? Если понимать истину как соответствие наших знаний фактам, то такая, юридическая, истина имеет мало смысла – только для восстановления справедливости задним числом. Вперед ее уже не применишь, потому что факты бывают только в прошлом.
Сейчас у нас, однако, все наоборот – научная истина пользуется почетом и уважением, а моральная не вызывает никакого энтузиазма, а вызывает только непрерывные споры, хорошо если без крови. Это неспроста. Моральная истина коварна, к ней так просто не подобраться. Если в науке истина показывает, что мы приблизились к обьективной реальности, то в поиске правильности, красоты и справедливости – что реальность приблизилась к нам. Звучит несколько странно, но это именно так – окружающая реальность, выстроенная нами, шаг за шагом "приближается" к идеям, которые гнездятся в разуме. И хотя приближаться в обоих случаях можно сколь угодно близко, оставаясь сколь угодно далеко, истина могла бы сослужить добрую службу, если бы оценивала ход этого движения. В случае науки так оно и есть. Реальность, которую исследует наука, неизвестна, но непосредственно "дана" нам в чувствах, и потому применение критериев истинности к научным результатам выглядит правомочно и правомерно. В случае этики мы попадаем в ловушку. С одной стороны, какова может быть истинность того, что мы взяли просто из головы? А с другой, если результат уже в голове – значит мы его знаем? И с обеих этих сторон истина смотрится нелогично, бестолково и надуманно.
Очевидно, причина такой поразительной разницы между истинами кроется в предмете поиска. Физическая реальность, несмотря на свою невероятную сложность, все же как-то проще этической. Да и жизнь наша это подтверждает. Уж как мы мудры и продвинуты во всем, что касается науки, но как дело доходит до морали – дети детьми. Попробуем разобраться. Мы знаем, что в основе этики лежит свобода, но эта истина тривиальна. И одновременно – непостижима. Свобода допускает, вообще говоря, все что угодно. Тогда что такое – этическая истина? Есть ли она на самом деле?
Должна быть. Этика обьективна, а если есть обьективность – есть и соответствие ей. Если бы его не было, было бы невозможно судить не только о действиях других, не только о добре и зле, но вообще ни о чем. Я полагаю, что тогда и научной истины мы бы не получили, даже самой скромной. Но самое важное – было бы невозможно договориться и стать свободным. А в этом и заключается суть ОЭ и, очевидно, единственный критерий правильности наших действий. Да друзья, если критерий научной истины запутан, сложен, включает специальные методики практических, экспериментальных, математических проверок и даже необходимость одобрения авторитетными экспертами, то критерий моральной постыдно прост – истина делает человека свободней. Досадно, что простота критерия обратна сложности его применения.
– Познание через создание
Главная проблема в том, что узнать об этом можно лишь потом, по факту и по результату. Нет никаких способов выяснить, насколько истинны наши действия до того, как мы к ним приступим. А иногда – и до того, как завершим. А часто – и много позже, пока не станут ясны все их отдаленные последствия. Обычно для простоты считают правильным то действие, которое соответствует норме. Нормы даже называют "моральными фактами", намекая на то, что они уже апробированы и доказали свою истинность. Для этого, дескать, они и фиксируются. Например, "воровать – нехорошо". Но это как раз тот случай, когда простота – хуже воровства. Во-1-х, абсолютно точного соответствия реальной ситуации формальной норме никогда не бывает и быть не может. Например, что, если украсть – единственный способ вернуть свое законное? Конечно, строгое следование правилу так или иначе необходимо. Но важно понимать – истина тут не при чем! А, во-2-х, сами нормы? Так ли уж они всегда правильны? Некоторые, например, полагают, что собственность – уже воровство.
В науке все иначе. Что такое научная истина? Это достоверные сведения о независимой от нас реальности, всегда присутствующей рядом и непрерывно проявляющейся в разнообразных феноменах, которые мы наблюдаем и запоминаем. Т.е. это знания о прошлом. Прошлое всегда закономерно, поэтому научная истина – знания о причинно-следственных связях, позволяющие в некоторой степени предсказывать будущее. Но только в некоторой, и чем дальше мы заглядываем – тем эта степень меньше. В науке будущее всегда случайно. А у нас? Если в прошлом мы обнаруживаем детерминизм, то в будущем – свободу. И то, и другое хоть и одинаково присуще обьективной реальности, но требует абсолютно разных подходов.
Узнать прошлое можно повторяя одни и те же процессы, и наши знания – описания этих процессов. Строго говоря, поскольку прошлое тоже когда-то было будущим, свобода оставила в нем свой "отпечаток", изза чего прошлое нельзя выяснить детерминированно. Благодаря свободе из простого появлялось сложное, а мы, познавая, реконструируем прошлое, разбирая сложное на простое. Однако даже эта трудность не идет ни в какое сравнение с куда более трудной трудностью – познанием будущего.
Узнать будущее можно только повлияв на него, заменив хаотичное движение к свободе целесообразным, превратив описание в предписание, создав этическую реальность из девственной обьективной, которая в результате приобретет черты ОБ наблюдаемые вокруг. Эти черты и будут фактами этической реальности, открытыми в процессе преобразования. И так оно и происходит в нашей жизни. Своей деятельностью мы и создаем, и познаем этическую реальность, ибо только создав новое благо мы узнаем что оно – истинное, обьективное благо. В точности как, например, найти собственный смысл жизни – значит создать что-то обьективно полезное. Но можно ли гарантированно стать свободнее, если знать факты этической реальности? Конечно нет. Даже фразы, описывающие истинность: "это – правильно" или "это – хорошо", по сути означают: "мы должны сделать так" или "нам следует поступить так" и являются гипотетическими, ибо реальный результат создания чего бы то ни было неизвестен. Следовательно, моральная истина – не правильное описание фактов этической реальности, а описание правильного процесса создания таких фактов. Ибо факты бывают только в прошлом.
– Невозможность описания
Но что нам мешает научно исследовать уже созданное нами ОБ и узнать правильность процесса? Это и будет моральная истина, разве не так? Не так – узнавать уже поздно! Созданное благо, без всякого сомнения, вполне поддается исследованию (хотя и не до конца – в точности как и прочая реальность), поскольку оно уже в прошлом. Но по этой же причине, оно превратилось (или в лучшем случае вот-вот превратится) обратно во зло детерминизма, как происходит со всеми нормами, даже если их возвести в абсолют. Что толку теперь в его изучении? Свободы в нем уже нет, свобода – всегда в будущем! Самое большее, мы можем узнать, что наша цель была правильна и что мы к ней слегка приблизились. Но как узнать следующую правильную цель? Повторение процесса ничего не даст нам. Цель должна быть выбрана "свободно", т.е. без причины – свобода подтверждается только в новом, неповторяемом, свободном действии! А значит, изучение созданного ОБ, и, хуже того, вообще чего бы то ни было, никак не поможет нам. Существующее благо на эту роль не годится. К нему не только нельзя стремиться, но оно, как и все в прошлом, имеет причину. А именно в знании правильной цели заключается, извините за каламбур, цель знания моральной истины, а также в знании о том, как ее достигнуть. И, в частности, в знании о том, что научное, да и всякое иное знание этому последнему помочь не в состоянии. В прошлом, а значит и вообще, описания процесса не существует.
В это возможно трудно поверить, но это так. Описание правильного процесса превращает нас в детерминированных слуг причинности. Все, что нам тогда остается – следовать описанию, которое становится просто обычным законом, не имеющими ничего общего с будущим и свободой. Более того, выходит, знание моральной истины ведет нас не к свободе, а прямо в противоположную сторону! Знать правильную цель невозможно. Моральная истина непостижима. Такова горькая истина.
В это еще трудней поверить, но и это так. Всякое знание не имеет ничего общего с истиной. Знания и благо – абсолютно разные вещи. Зачем, например, учить террориста водить самолет? А что толку во всех знаниях автопрома, если мы уже давно стали его рабами? А взять моральные абсолюты? Заповеди "не убий" – наиболее бесспорной – больше двух тысяч лет, а ее истинность вызывает наибольшие споры! Знания сами по себе не только не делают нас свободнее, но бывает, служат источником величайших несчастий и горестей. Кому из нас, например, хочется знать дату собственной смерти? Но и действовать без знаний – не намного лучше. Важно их единство, которое позволяет замкнуть круг и начать вечное движение – по частям все равно не получится. Незачем знать о законах природы и нормах поведения, если потом не использовать их для реализации целей. А законы с нормами нельзя узнать, если не пробовать действовать, т.е. уже не иметь цели. А если быть педантичными – сами "действия" возникают там, где бессмысленная активность приобретает цель, а "знания" – когда бесполезные сведения находят целесообразное применение. Таким образом, в процессе поиска истины мы создаем процесс. Истина же – т.е. наша цель – оказывается вне процесса.
Что же это получается? Знания и мешают нам действовать, и помогают? И подсказывают цель, и вводят в заблуждение? Простите друзья, но я не удержался и принялся за старое, рис. 5.1. Заглядывая вперед мы ставим цели и цели эти – некая придуманная конкретизация непознаваемого ОБ, за которой скрывается новая свобода. При этом мы как-то загадочно руководствуемся имеющимися знаниями и нормами (т.е. имеющимся процессом). Действуя, мы приносим в мир новое благо, которое никогда в точности не соответствует нашей цели. Набравшись опыта и знаний, мы ставим новую цель. Это хождение по кругу – осмысленное, свободное движение, в отличие от природного беспорядка, где свобода пополам с детерминизмом слепо борются друг с другом – почти как добро и зло. Привнося в эту борьбу смысл, мы помогаем реальности двигаться в сторону добра.

– Роль договора
Но раз так, мы знаем направление? Конечно. Этика своей твердой рукой ведет нас в сторону ОБ. Парадокс в том, что свобода, которая скрывается за ОБ, означает максимальный выбор целей и соответственно – отсутствие направления! Наверное, мы действуем наугад? Это похоже на правду. Однако, в этом случае, неясно, зачем мы столько писали и читали. Да еще постулировали, что этика обьективна и у людей есть гарантированный шанс договориться. Но возможность успешного договора опирается только на одно – что правильный процесс создания ОБ существует! Само участие в договоре, в соответствии с нашим ФП, как всех кого только можно, так и только двоих, подсказывает, что мы можем знать истину! Хоть и не поодиночке.
Значит процесс создания блага существует, а его описание – нет? На самом деле, существует ли процесс как таковой – тоже вопрос. Единственное, что мы знаем – новое благо непредсказуемо, но при этом оно обязательно появится. Не так, так эдак. Можно сказать – процесса нет, но всегда есть его результат. Но как же ФП с вытекающими из него нормами? Разве правильная процедура – не единственный критерий правильности результата? Более того, это – единственный возможный процесс, посредством которого этика как-то нами управляет! Значит все наоборот? Описание существует, а процесс – нет?
С одной стороны – да. Договор – единственный способ получить ОБ. Следуя нормам мы можем планировать бесконечно далеко, т.е. прямиком в ОБ! Иными словами, знать способ достичь истинное знание равнозначно тому, что знать истину. И для этого даже не надо иметь в запасе бесконечное время. Способ и есть истина, особенно если он практически реализуем, что к договору, теоретически, вполне приложимо. Недаром сама идея договора представляется нам благом. Итак, правильная процедура договора гарантирует правильный результат, а ФП – единственная возможная правильная процедура и попутно принцип познания/создания блага. Вот она – моральная истина?
Конечно нет. Потому что, с другой стороны, если существует правильный способ создания ОБ, можно считать, что ОБ уже создано. Ведь способ его создания – это оно и есть! И что тогда? Все создано, можно помирать. К счастью или к несчастью, все не так. Во-1-х, ФП – это конкретизация общего блага, которая не намного конкретней, чем слово "ОБ". Его точно так же необходимо получать в результате договора. И, если мы еще не забыли, чтобы до него добраться необходимо создать бесконечное количество норм. Во-2-х, ФП – хоть и процедура, но не формула. В нем присутствует нечто настолько неопределенное, что полностью лишает его детерминированного результата. Что впрочем, и следовало ожидать от правильной процедуры создания ОБ. В-3-х, ФП, как и всякое знание, не указывает конечную цель. Процедура может указывать только промежуточные цели. Что толку, что в правилах покера указано кто выигрывает. Как из этого следует, что участники обязаны стремиться к выигрышу? Или вообще играть? Мы, конечно, можем прописать (и должны, и прописали) в ФП, что каждый участник обязан стремится к свободе, но это "правило" лишь ведет нас к "во-1-х"! В-4-х, развивая все тот же "во-1-х", надобно уточнить, что бесконечность создания норм – не цель сама по себе, а результат того факта, что каждая норма, будучи конкретным знанием, сама просит чтобы ее отменили и заменили чем-то новым, ибо знание – как детерминанта разума – противник свободы. Процедура отменяет сама себя!
Какая же тогда связь между ФП и процессом создания нового блага? ФП – не процесс, а только часть процесса. Он не создает благо как таковое, он лишь удостоверяет "выигрыш" – обьективную истинность результата. Это способ применить критерий моральной истины – убедиться, что все стали свободнее. Способ оценить созданную новую свободу и зафиксировать ее в норме. Но найденная норма, хоть и уточняет предыдущую, в принципе не может следовать из нее. Она должна быть новой, непредсказуемой. Норма – это лишь следствие применения критерия, своего рода побочный результат, который лишь расширяет наши возможности по планированию новой цели, но, как и любое знание, не подсказывает ее. Вечность нас не подвела – она бесконечна и можно жить дальше не опасаясь скорого конца.
Из сказанного можно сделать следующий вывод. Новое генерируется случайно, договор лишь отсеивает все неверное, придавая случайному целенаправленность, а очевидное несовершенство нынешней процедуры отсева – вероятная причина того, что многие бредовые идеи очень долго фигурировали – и до сих фигурируют! – в качестве окончательных истин.
2 Отгадка моральной истины
– Польза знаний
Однако, не рано ли мы сдались? Новые идеи, требующие удостоверения договором, включая многочисленное ложное ОБ, всегда рождаются в чьей-то голове. Там, например, родились естественные права, представительная демократия, равенство полов, диктатура пролетариата, свободный рынок. И не все из перечисленного клинический бред, кое-что на каком-то историческом отрезке оказалось очень даже истинно. Ясно, что все эти идеи были целенаправленны. Как же их авторы угадали эту, вполне конкретную, правильную цель? Более того. "Лишь" отсеить неверное тоже не получится без понимания верного. Придется нам размышлять дальше.
Очевидно, несмотря на всю неуловимость обьективности, она на практике вполне дееспособна. Чем? Тем, что хоть она не может указать что хорошо, она способна указать что плохо. Признайтесь, вы и сами это уже почувствовали, когда только вспомнили упомянутые выше идеи. Как нам это удалось? Ответ прост. Пусть новое непредсказуемо – зато предсказуемо старое, плохое, неправильное и вредное. Действуя, мы стараемся избегать этого и, чудесным образом, находим то, что нам надо. Так, мы не всегда можем сказать, что красиво, зато всегда – что некрасиво. Не знаем, что является добром, зато знаем – что злом. Не понимаем, где истина, но видим где ложь.
Все это – плохое, вредное, ложное и т.д. – палки в колеса свободы, а значит – старый добрый детерминизм, который прекрасно поддается познанию. Договариваясь о благе, люди не договариваются вести себя этично, они внутри уже этичны. Все, что им надо – выявить то, что мешает свободе. Договор учит. Это и есть познание свободы, познание наоборот. Потому обьективность этики оказывается практична – хотя и не так, как кажется. Она не только не указывает моральный абсолют, правильную норму или истинный процесс, она – это та же самая научная истина, только с обратным знаком. Из того, что нечто "есть", следует, что его быть "не должно". Вот и вся истина, вот и вся правда.
Не верите? Давайте посмотрим, что нам открывает научная истина. Физические законы, состав водки, обмен веществ в организме, симптомы вялотекущей шизофрении… А что делаем мы с этой истиной? Мы ее применяем на практике. Для чего? Чтобы выздороветь и окрепнуть. Знание физики помогает строить самолеты, биологии – травить микробов, психологии – избавляться от стереотипов. Более того, если мы посмотрим на критерий научной истины в самом его общем виде, он будет звучать так: "истинно то, что успешно подтверждено практикой". А что значит "успешно"? Это значит – победоносно. Это значит – мы стали свободнее, получили практическую, обьективную пользу. Иными словами – нет никакой отдельной научной истины, есть только моральная. Только становясь свободней, мы знаем, что поступили, и нашли, и узнали что-то правильно.
И разве это не то что мы уже давно и неоднократно обсудили? Запрет насилия сводится к постоянному поиску и созданию возможностей для этого. Детерминизм так плотно оккупировал обьективную реальность, что не оставил свободе ни одной лазейки. Оттого этическое "не делай" требует прежде всего ответа на вопрос "а как же тогда делать?" Любое знание требует его преодоления, потому что оно – знак детерминизма, его представитель, доверенное лицо. Вспомните о красоте. Не имея норм, нельзя их нарушить. А без нарушения не будет новой красоты. Точно так же не будет новой свободы без преодоления знаний – такого их использования, чтобы их причина потеряла свою силу. Разве после этого этичное "не делай" не приобретает более глубокий смысл? "Не делай" обращено к детерминизму и равнозначно – "умри несчастный!"
Из чего следует следующая тривиальная моральная истина: если свобода – наша цель, то борьба с насилием – наше средство.
– Ученые и свобода
Даже сами ученые уже почти согласны с этим, правда они еще об этом не знают. Многие из них считают, что свободными мы становимся от того, что познаем мир. Но разве знание закона освобождает нас от его действия? Наоборот. Оно теперь налагает на нас ответственность за последствия. Свобода – это не осознание необходимого и подчинение ему, не своеволие в рамках возможного. Свобода – преодоление неизбежного, изменение реальности, выход за детерминизм. Вот почему не наука приближает разум к реальности, а этика – реальность, вместе с самой наукой, к разуму. Так что все наоборот – разум познает мир, потому что он свободен и познает не просто так, а чтобы стать еще свободнее.
Я знаю, это звучит странно, потому что разум, как нам обьясняет биология, всего лишь средство познания. Но давайте обратимся к братьям нашим неразумным. Кто заводил домашних питомцев, прекрасно знает насколько они умны. Как отлично они понимают наше поведение, наши привычки и наши желания. Как старательно они познают наш мир, для которого их мозги совершенно, казалось бы, не приспособлены. Оказывается, прекрасно приспособлены. Сами ученые подтверждают нашу догадку. Не только дельфины, попугаи, обезьяны, крысы и вороны способны демонстрировать чудеса интеллекта, но и почти всякая тварь, кого судьба свела с людьми. Наши непосредственные предшественники – обезьяны – не только абстрактно мыслят, говорят и пишут, но и обладают лучшей чем люди памятью, не меньшими навыками труда и прекрасными способностями, необходимыми для социальной жизни, включая жертвенную мораль. Тоже, кстати, не хуже, чем у людей. Они прекрасно обучаются и живут дружным сообществом, пока ими руководят люди. Но вот беда. Как только всякое прирученное, наученное и обученное животное отпущено на волю, оно мгновенно забывает все, чему его обучили. Почему бы это?
Ему это не надо. Как ни странно, животные обладают достаточными способностями к познанию мира, но не пользуются ими по прямому назначению. Не менее интересен пример самих людей. Нет, я в данном случае не имею в виду большинство населения. Речь о доисторических людях. Ученые обнаружили, что мозг неандертальца по размеру больше нашего. Ученые конечно тут же оправдались тем, что, мол, даже маленький мозг, если его как следует организовать, намного эффективней. Но нас с вами так легко не проведешь. Какова реальная причина этого позора? Та же самая. Неандерталец действительно был умней. Просто он не использовал мозг так, как его используем мы. В том числе, чтобы называть себя умнее.
Как и у животных, у наших предков не стоял вопрос познания мира. У них просто не было такой цели. Их цель была совсем другая – выжить. Долгие тысячелетия доисторический человек жил биологически не меняясь, не познавая мир и не становясь, вследствие этого, свободнее. Что же случилось? Неужели пришельцы?
– Переход к свободе

К счастью, на этот раз обошлось. В письме про историю морали, мы пометили конец биологической эволюции там, где гоминиды стали массово уничтожать сами себя. Я думаю, точнее сказать – это было начало конца. Рождение человека случилось там, где гоминиды стали выбирать между насильственным альтруизмом и природным эгоизмом. Там, где появилась потребность в нормах и справедливости. И где родилась истинная мораль (рис. 5.2, точка А).
Выбор, как мы убедились, не отделим от смысла и цели. Вот тут-то мозг и переключился на что-то иное. У гоминид появилась цель стать людьми. И с тех пор мы (или они) только и делаем, что ставим эту цель. И попутно получаем знания, которые помогают нам ставить эту цель все лучше и лучше. Что же касается самой эволюции, то не будет преувеличением сказать, что, по крайней мере тут на Земле, она кончилась, ибо идти назад, от целенаправленности к бессмысленности, у человека уже не получится.
Впрочем, истина требует признать, что осмысленные цели разум начал ставить не сразу. Долгое время, назовем его "Эрой традиций", он освобождался наощупь. Это было время, когда люди только осваивались со своим разумом, и он действовал случайно, бесцельно и неосмысленно. Как это происходило? Мучительно (рис. 5.3, слева). Как в познании мира, повторяя тысячу раз какое-то действие, люди обнаруживали причинно-следственную связь позволяющую больше не повторяться, так и в общественной жизни, стремясь к выживанию и ударяясь тысячу раз лбами, они находили норму запрещающую дальнейшее соударение. Норма становилась традицией и передавалась потомкам. В силу такого неспешного способа познания, история и тянулась мучительно долго. Истинность найденных норм удостоверялась ощущениями действующих субьектов, крайней судьей которым являлась совесть. После чего цикл повторялся, а совесть воспринималась инструментом познания, что, конечно, вовсе не удивительно.  Удивительно, что столько лет люди умудрялись обходиться ей одной, без долгих размышлений.
Удивительно, что столько лет люди умудрялись обходиться ей одной, без долгих размышлений.
Зачем нужны размышления? Чтобы не заставлять совесть мучиться понапрасну. Если в отсутствии размышлений поиск норм представляет собой постоянную борьбу, то с размышлениями – борьбу спорадическую, способную время от времени сменяться одним только ненасильственным убеждением (рис. 5.2, точка В), а в перспективе вообще исчезнуть (точка С). Именно момент В можно считать настоящим поворотом к свободе. Традиции – это своего рода приобретенные инстинкты, отчего Эра традиций вполне может быть отнесена к био-эволюции. Совсем другое дело Эра ложных благ. Это уже работа разума. Размышления не только распознали насилие, но и позволили осознать необходимость его преодоления, чем воспользовались пророки, философы и идеологи, завалившие человечество своими вариантами ОБ, которые по большей части были ложными, хотя и живучими. Насаждение идей ОБ происходило путем сначала убеждения сторонников, а потом – насилия к несогласным, которое иногда оказывалось вполне демократическим, а иногда – немыслимо жестоким (рис. 5.3, справа). Но в любом случае очевидна роль разума не как инструмента удовлетворения любопытства и познания, а как орудия борьбы с насилием, где познание – лишь средство, хотя и существенное.
Если на первом этапе, в Эре традиций, детерминизм социального насилия преодолевался неосмысленно, то в Эре ЛОБ уже появилось понимание необходимости поиска "правильного" общественного устройства. Очень кстати оказалось и познание мира с целью преодоления детерминизма природного, который сильно ограничивал возможности построить общество изобилия. Голодные всегда будут драться за последний кусок хлеба, но сытые вполне могут расслабиться и заняться голосованием! Что же будет в свободном обществе? Вопрос о правильности устройства общества будет снят с повестки дня, останется только вопрос правильности норм, который сольется с вопросом изобретения новых ресурсов, неотделимого от дальнейшего познания природы. Вот тут-то разум наконец и развернется во всю свою мощь!
Полезно обратить внимание на корреляции между эрами и ценностями. В Эре традиций главенствует ценность №2 – другие люди, коллектив, а также накопленная мудрость, т.е. ценность предыдущих поколений. Эра ЛОБ – время перехода к господству ценности №1. Умы начинает занимать личность и личная свобода. Если перевести вышесказанное на язык "типов" договора, то поиск истины, равно как и создание благ, в Эре традиций осуществлялся путем нерыночного договора, в Эре ЛОБ – путем рынка, но гарантированного нерыночно найденными нормами. Эра свободы, хочется надеяться, позволит обойтись только этичным рынком/договором.
– Главный механизм этики
Все это хорошо, но никак не проясняет ни вопрос о целях, ни вопрос о способах их достижения. Разве размышления гарантируют нам правильную цель? Очевидно нет. Принцип отрицания насилия еще ничего не говорит о том как это сделать. Побороть то же земное притяжение, например, можно тысячью способов. Как угадать правильный? Да взять сами наши письма! Размышления – это то, чем мы занимались с первого из них. И где результат? Где истина?! Все, что обнаружили – совесть и другие моральные механизмы, которые и без того хорошо известны. Вместо истины мы обнаружили ОБ, которое настолько абстрактно, что если и манит, то в полную неизвестность. "В вечность", как мы это назвали, да еще пририсовали стрелку слева направо. Правда, мы нашли ФП. Но и он – лишь критерий результата, фикция, а не путь к истине. Надо бы исправить это упущение.
Когда мы рассматривали этику договора, мы не обнаружили ничего, что помогало бы движению именно вперед, к новым правилам и выходу за их пределы, а не бестолковому мельтешению на месте. Описанные механизмы предохраняли нас от насилия, от нарушения чужих прав и от ограничения чужой воли. Они указывали как не надо поступать, но не подсказывали как это делать. Они не позволяли смещаться со стрелы вечности, но не учили продвигаться по ней дальше вперед. Они требовали следовать нормам, но не говорили, где их найти. Самое большее, что мы от них добились – надо стремиться к обьективности, раздвигать черту и искать там смысл… Как говорится, быть за все хорошее против всего плохого. Но как? Как стремиться к №3, чтобы не промахнуться и попасть точно в цель?
Как органы чувств могут направлять нас в познании реальности? Никак. Они лишь предоставляют для этого возможность. Точно так же и моральные механизмы. Они лишь информируют о том, где насилие. Они, если следовать им абсолютно точно, приведут нас к полной неподвижности, да и то в мире ином, ибо само появление на свет – немыслимое насилие. ОБ, запуская их, служит им своего рода противовесом, заставляя крутится всю машину. Но в результате эта машина оказывается детерминирована. Мы не можем избежать этого рабства.
В чем же тогда настоящая свобода? В том, что мы не знаем, как она работает. Поиск целей, способов их достижения и оценки результатов не может быть обьяснен никакими механизмами. Потому вместо того, чтобы радоваться готовым механизмам, мы только и удивлялись парадоксам. Правилам и их нарушению. Единству и разнообразию красоты. Эквивалентности обмена. Абстрактности пользы. Устареванию нового. Исчезновению ценности. Путанности изложения… Так есть ли у рабов свободы выбор или есть только его видимость? Есть! Но не в том, куда идти, а как! Мы не можем отвертеться от ОБ, но каждому надо найти уникальный способ туда попасть – каким бы парадоксальным он не был. И можно предположить, чем парадоксальнее – тем лучше. В этом и заключается свобода.