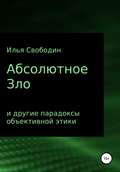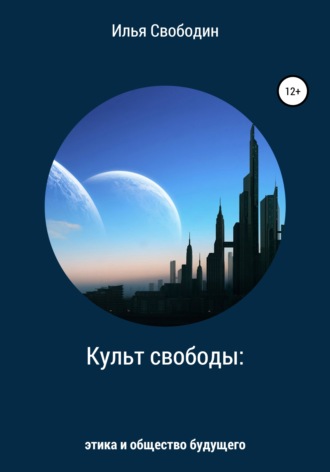
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
14 Насильственное благо
– Публичное благо
Давайте наконец прервем этот поток бесцельных размышлений и вернемся к сегодняшней теме – практической деятельности. Практические блага, хоть и опираются на ОБ, не могут оказаться абсолютно общими. Конкретное всегда отличается от абстрактного и не всегда так, как нам бы хотелось. Никакой практический институт не может до конца гарантировать отсутствие недостатков. Но зато он может и будет совершенствоваться до бесконечности.
Однако следует отличать практическое благо, вытекающее из общего и несовершенное в силу недостатков нашего разума, и публичное, изначально задумывающееся как полезность – польза для одной части публики за счет другой. Прекрасным примером публичного блага является государство. Считается, что благо это равно обрушивается на головы всех его граждан. Но так ли это? С одной стороны – да, поскольку все граждане пользуются защитой от врагов и злодеев, а кроме того, благодаря успешной защите государственных интересов граждане богатого государства находятся в лучшем положении по сравнению с гражданами бедного. Но гораздо публичнее благо государства по отношению к его верхушке. Именно эта публика наслаждается всей его полнотой. Именно они – получатели публичного блага за счет всех остальных.
Пример государства демонстрирует важную мысль. Практическое благо всегда добровольно. Оно приносит пользу, а значит выгодно участникам. При условии, что те, кому это не выгодно, согласны поступиться личными интересами во имя коллектива и получить справедливую компенсацию. Это и дает ясный ответ на вопрос о том, является ли коллективная власть, демократия, да и вообще политика в любом виде практическим благом. Тут надо провести четкую границу – насилие, тем более системное, не может являться практическим благом. Кто видел этот гипотетический социальный договор, которым прикрывается демократия? Наш, друзья мои, по крайней мере, явно прописан в виде ФП, а социальный даже прописать некому – ибо стыдно! А потому, не может являться практическим благом и все то, что навязано государством, несмотря все усилия убедить нас в обратном. Благо может быть насильственным только для рабов, не способных на автономию. Да и откуда власть узнает, что благо для ее подданных, а что – нет? Власть сочиняет законы, внедряет, отменяет. В свободном обществе инициатива идет снизу – от полезной идеи. Власть руководствуется сиюминутной пользой, в лучшем случае – умозрительными фантазиями о благе, которые в худшем превращаются в ужасы. В свободном обществе инициатива следует только из фактической потребности. Власть, как институт, аморальна – это желания групп избирателей, давление лобби, шумиха в прессе, (интер)национальные интересы верхушки, причуды вождей. Благо свободного общества опирается на договор, учитывающий интересы всех, а не политически активной/влиятельной части демоса. Благо публичной власти требует принуждения к нему. Уместно спросить, если уж люди оказались способны организовать "благо" власти, почему они не могут организовать те публичные блага, что вытекают из него?
Публичные блага, реализуемые государственным насилием, препятствуют возникновению процедур этичного обмена и рынков истинных практических благ. Да и тот рынок, что у нас есть, тоже не вечно гарантирован. Есть примеры государств, так озабоченных благом своих граждан, что они им даже стирку сорочек не доверяют.
В этом разница между насильственными и добровольным подходами к практическому благу. Кто-то может засомневаться – а какой правильнее? Свобода – это конечно хорошо, но благо – все ж лучше? Еще кто-то может веско подтвердить, что насилие помогает найти коллективное решение быстро и эффективно, особенно если желающих слишком много – иначе, дескать, договориться просто невозможно. Типа, множество свободных племен вымерло с голоду, так и не сообразив, как делить общее пастбище. К счастью, мы знаем, что на это ответить – поделом.
– Утилитаризм
Но у государства, разумеется, иной подход и иная этика. Насилие требует оправданий и самое лучшее из них – польза. И правда. Правила делают взаимодействие эффективным. Без правил нельзя ни писать книги, ни играть в карты. Они всегда ограничивают выбор, но благодаря им взаимодействие переходит на качественно новый уровень, невозможный при "полной свободе". Стало быть, правила можно придумывать как угодно, лишь бы они были полезны. Власть – это утилитаризм и прагматизм. Почему бы, например, не ускорить процесс? Не усовершенствовать культуру? Не поднять производительность труда? Не нарастить ВВП?
И ускоряют, и поднимают, и наращивают. Да еще попутно выжимают из подданных жертвенные соки во имя заманчивой цели. Только скоро выясняется, что все опять не так, потому что благо оказалось полезно всем по-разному – кому-то очень, кому-то так себе, а кому-то и очень вредно. И на самом деле процесс не ускорился, а замедлился. Оказывается, польза и эффективность индивидуальны и не поддаются логическому или геометрическому агрегированию. Оказывается, творчество, красота и поиск нового не происходят из под палки. А утилитаризм оказывается, соответственно, профанацией этики, заменой сложного и не всегда ясного процесса простым, скорым и неправильным результатом. Не говоря уж о том, что в погоне за ним это аморальное учение умудряется оправдывать насилие. Ибо что может быть морального в идее "цель оправдывает средства"?
Свобода может казаться тяжелой и пугающей, и ради лени и комфорта может быть выгодно отказаться от нее, продать подороже. Иллюзия власти, направляющей общество по пути пользы, вредна тем, что не оставляет свободе ни одного шанса. Если от власти нельзя отказаться, когда она становится бесполезна – в чем был ее смысл с самого начала? На инвалидной коляске может быть очень удобно, но в конце концов она обязательно катится не туда. В конечном итоге самым полезным – и самым правильным – всегда оказывается полная свобода без кавычек. Это единственная универсальная польза для всех – включая тех, кто потом, и даже тех, кто был, но жив в нашей памяти. Но эта польза настолько абстрактна и обща, что требует не утилитарной, а совсем другой этики – бесполезной. Общее благо взывает не к пользе, а к правильности. Оно требует этики независимости, а не опеки, норм, а не указаний, бесконечности, а не сиюминутности. Короче – этики процесса, а не результата, даже если сам процесс требует постоянной этической оценки и правки. И тогда реальное общее благо, в виде свободы, справедливости и всего хорошего, рано или поздно возникает само собой.
– Нерыночный договор
Насилие не имеет ничего общего с полезной деятельностью, результат которой подвергается проверке рынком. Благо насилия – фикция. Но исчерпываются ли рынком виды договора? Как насчет разрешения конфликтов? Восстановления справедливости? Если есть нормы, есть и право. Есть право – есть и суд. Как оценить благо такого договора? Но спросим себя опять. А нужен ли этичным людям суд? По крайней мере в том виде, как он есть сейчас. Очевидно нет, как и законы. Этичные люди сами найдут выход из конфликтной ситуации. В крайнем случае попросят помощи у третьего. Ведь каждый этичный человек – и адвокат, и прокурор. Он знает нормы и умеет находить путь в их лабиринте, руководствуясь только ФП. Этичное общество не нуждается в профессионалах, сначала запутывающих право, а потом обирающих запутанных, кого и без них достаточно наказала судьба.
Впрочем, оставим этичных людей в далеком будущем. Пока что люди улаживают разногласия нерыночным (или неторговым) договором – и будут еще долго. В основе нерыночного согласия обычно лежат заранее изобретенные законы. Законотворчество – это предвидение, это выход из конфликта до того, как он случится, преодоление насилия до того, как оно всех замучило. Но поскольку жизнь непредсказуема, всегда есть шанс столкнуться там, где не ждешь. И если люди упорствуют, приходится полагаться на ускоренное творчество – в рамках процедуры. Это и есть суд. Точнее суд в своей самой важной функции – производителя справедливых норм.
Причиной упорства, требующей суда, является субьективное представление об ОБ, отчего, собственно, и возникает конфликт. Для иллюстрации вернемся к нашей пирамиде благ (рис. 3.6). Внутри пирамиды действует рыночный договор, который ищет наиболее правильные и вечные блага. Насилие, которое преодолевается таким образом, это насилие опознанное и согласованное участниками рынка, это насилие природного детерминизма, и преодолевается оно трудом по производству всякой практической всячины, от ресурсов до идей.

Строго говоря, человечество еще пока только учится торговать, не то что, скажем, эквивалентно. Если какой-то рынок материальных благ создан, то с нематериальными пока сплошной туман. Такие ресурсы, как здоровье, знания, правосудие, безопасность, пока плохо торгуются. Пока не существуют процедур обмена, позволяющих эффективно оценивать их и значит производить.
Вне пирамиды оказываются публичные блага – блага для одной части общества за счет другой. Все они основаны на насилии – но не природном, а человеческом. Можно ли преодолеть его путем честной торговли? Конечно нет, поскольку обмен должен быть абсолютно свободен от насилия. Законы, ограничивающие пирамиду, опираются на некие представления об ОБ, которые вовсе не обязательно бывают правильны. В этом случае пирамида оказывается кривой и чтобы придать ей правильное положение, нужен нерыночный договор. Формальный суд – один из вариантов такого договора, но далеко не единственный. Можно договориться и неформально – например, устроить публичное обсуждение, опросить экспертов и в конце концов общими усилиями выяснить наличие насилия и найти компромисс. Или можно устроить референдум, созвать учредительное собрание, избрать законодателей и парламент. Или даже устроить революцию и применить силу, хотя о договоре тут уже речи не идет. Но так или иначе все это будет нерыночно.
Продукт всех вариантов подобного нерыночного договора – новые законы, т.е. формальные нормы, воплощающие знания о прошлых конфликтах и тем позволяющие людям избегать их повторения. Эти нормы – в идеале только запреты – как бы помещают вершину пирамиды в правильное место, оформляют справедливый правовой "каркас" общества. Однако с точки зрения движения к свободе, нерыночный договор вторичен, поскольку инструментален – он так или иначе требует последующего "утверждения" рыночным, посредством свободных обменов новыми благами и возможностями, полученными из необходимости удовлетворения запрета. Только рыночным обменом можно достигнуть обьективности – понять где на чертеже пирамиде находится вновь полученное благо. Или же выяснить, что пирамида опять оказалась крива и справедливости не получилось. Оба типа договора, так сказать, превращают пирамиду в бур, которым общество вскрывает фрактал свободы – они нацеливают его точно в цель и позволяют бесконечно расти вширь.
Правда, есть нюанс. Насилие возникает постоянно и не всегда ясно, что лежит в его основе – выбор человека или детерминизм природы. В какой момент насилие выходит за границы пирамиды? Как участники рынка будут разбираться – когда можно обойтись обменами, а когда идти в суд? Я думаю, граница будет находиться моральными механизмами. Если человек не лукавит, он сам осознаёт, что получилось нечто некрасивое и либо снизит цену на свой продукт, либо увеличит выплату. Возьмем к примеру монополию. Вот изобретатель создал ресурс, который принес ему славу и богатство. Когда пришла пора иссякнуть этому заслуженному успеху, люди будут все более недовольны. Соответственно, монополист будет чувствовать это давление и искать пути к более справедливой цене, что может потребовать уничтожения монополии. Если же он окажется упрямым или бесчувственным, люди просто откажутся иметь с ним дело. Бойкот, отказ от сотрудничества – предельный вариант рыночного договора и одновременно – граничный способ устранения насилия в свободном обществе. Этичные люди не будут рабами удобства и не выменяют его на свободу.
15 Ложное общее благо (ЛОБ)
– Абсолюты
Конкретизированное ОБ всегда отличается в худшую сторону от своего абстрактного предка. Таков даже ФП, поскольку он прописывает какие-то конкретные детали и наверняка чего-то не учитывает. Но пока конкретизация попадает в рамки пирамиды, насилие природы не будет сопровождаться насилием людей. Если же конкретизация порывает с ОБ, она порождает псевдотеорию ложного счастья и практически полезную, т.е. для некоторых, мораль. Подобная мораль требует от других долга во имя произвольно выбранной цели – от эффективности и прогресса, начертанного на знаменах власти, до спасения, путь к которому открыт в заповедях, сурах и иных священных изречениях. Полезная мораль служит теоретическим оправданием насильственных публичных благ. Она обманывает, подсовывает готовые ответы, учит как надо и как не надо, подменяя собой не только моральную автономию, но и жизненный смысл. В самом деле, зачем задумываться и ставить цели, если и так все ясно? В результате мы имеем сначала моральное насилие над личностью, а затем гулаг, джихад, инквизицию и остальные прелести истории и современности. Все, кроме обещанного прогресса, спасения, мира и счастья.
Лживая мораль – это ложное общее благо (то самое, чьи вариации засорили нам рис. 3.6), его суррогат и неудачная конкретизация, неудачная настолько, что полностью извращает его смысл. В худшем случае это хитрая выдумка. В лучшем – честный моральный абсолют, чей-то с трудом найденный, но не до конца продуманный смысл собственной жизни, если его начинают насаждать окружающим. Как так получается? Людям свойственно ошибаться, тем более когда дело доходит до чисто умственных абстракций, каковой является ценность №3. Но обойтись без нее невозможно! Вот и приходится фантазировать. Если №3 вполне осознана, обоснована и выражена внятными словами, она отливается в социальные и политические доктрины, если не обоснована – в религиозные и светские моральные идеалы, а если не осознана – остается в национальных традициях и коллективных привычках. Впрочем, этическое творчество может занимать весь спектр между этими крайностями. Поскольку оно смешивает эгоистический и альтруистический мотивы, результат бывают весьма причудлив – от насилия до свободы, от жертвы до расчета – в зависимости от того, как автор воспринимает себя и людей, как он их оценивает, как далеко в будущее ему позволяет заглянуть его мозг и какой мотив там, в итоге, перевешивает. А если автор еще и общественно активен, то свои шедевры он непременно старается довести до максимально широкого круга людей, отчего они обязательно превращаются в ЛОБ, ложность которого как минимум в том, что оно – не общее.
Конкретный абсолют, в отличие от самой идеи абсолюта, всегда не дотягивает до общего – охватить рассудком "всех" невозможно. Истинное ОБ недосягаемо для любых рассудочных построений. В конце концов, свобода всегда гарантирует возможность – и правильность – чего-то иного. Не говоря о том, что обьективность требует не только разумного обоснования, но и договора, в отсутствии чего легко появляется ошибочность, отражающая субьективность автора. Например, это может быть общественный долг, который все должны нести в обязательном порядке ради счастья менее удачливых и систематически угнетаемых, или платоническая любовь ко всем, включая своих врагов, которая в конечном итоге приведет к неизбежному поражению, или голый эгоизм, который способен магически создать необычайной красоты общественный порядок прямо на пустом месте. Родственный власти утилитаризм, обьясняющий и оправдывающий ее кипучую деятельность – это целый сонм ложных благ, производимых по мере необходимости. Рядовое, бытовое, присущее каждому вследствие того, что каждый непременно чем-то обижен, ложное общее благо – это классовая идеология, выросшая из принципа "общественное бытие определяет общественное сознание", когда теоретиков на самом деле вдохновляет жажда справедливости лично для себя и, может быть, для таких же обиженных. И жажда эта, отлитая в захватывающие идеологии, служит обоснованием как разрушительной, так и созидательной деятельности, как против, так и в поддержку власти. Но как бы эта деятельность не оправдывалась великой и всеобщей пользой, она не настолько абстрактна, чтобы мы могли считать ее чисто над-прагматичной, т.е. не имеющей никакого практического значения. В этом второе отличие ложного блага от истинного – несмотря на всю его возможную абстрактность, оно всегда тяготеет к некой конкретной, хотя и не всегда очевидной, пользе.
– Практичность
Ввиду схожести звучания различных видов благ, полезно уточнить – какая связь между практическим и ложным общим благами? Не одно ли это и то же? Абсолютно нет. Во-1-х, практическое благо получается от решения конкретных проблем, вследствие общественной потребности. Ложное благо – от постижения "высшего смысла", вследствие большого ума. Во-2-х, практическое благо вытекает из ОБ – преодоление потребности делает всех свободнее. ЛОБ плодит личные и публичные, среди которых, как минимум, удовлетворение творческих или политических амбиций авторов, а чаще полный набор всевозможных благ для всех причастных, и которые тем больше, чем сильнее ему удается внедриться в общество. Например, если религия – ЛОБ, то церковь – публичное благо, пока находятся те, кто получает терапевтическое удовольствие от походов туда, и те, кто наживается на последних в личных целях. Если равенство, либерализм и социализм – ЛОБ, то социальная демократия произвела целое множество публичных благ, которыми наслаждаются узкие круги причастных, а их остатками – широкие. Даже коммунизм, как это ни странно, умудрился сотворить для некоторых блага, хотя основные его обещания быстро превратились в ужасы. В-3-х, практическое не претендует на роль ОБ, а ложное делает именно это. Претензия на всеобщность необходима для того, чтобы навязать и само ЛОБ, и вытекающие из него публичные. Существуют, правда, и независимые ложные блага мелкого масштаба. Например, ограничение продаж алкоголя или права меньшинств. Но они легко оправдываются каким-либо расплывчатым ЛОБ, типа "общественного здоровья" или "справедливости". Собственно, измельчение ЛОБ – естественный шаг на пути его превращения в публичные блага. Можно сказать, и ЛОБ, и публичные блага – выдуманная или искаженная общественная потребность. В случае практических благ, наличие ясной потребности делает их субьективность очевидной, и потому их не требуется навязывать тем, кому они не нужны. Публичные блага можно оправдать только их ложной "всеобщностью" и "правильностью", т.е. необходимостью всем. В-4-х, ложное благо как правило скрывает свои реальные цели. В-5-х, практические блага преходящи – кто может поручиться, что например, деньги или суд будут с нами всегда, а не исчезнут во чреве прогресса? Ложное благо претендует на роль окончательного решения.
ЛОБ нужна ясная оболочка, а массам – простые и понятные ответы, иначе массы, не привыкшие к свободе и самостоятельности, легко попадают в когнитивный ступор и берутся не за те вилы. Потому ценностная картина, нарисованная ЛОБ, может быть очень изощренной и убедительной. Не будет преувеличением сказать, что чем картина подробней, детализированней, целостностней и взаимосвязанней – тем она ложнее ибо притягательнее. Например, доктрины христианства, марксизма, либерализма довольно проработаны и даже весьма убедительны. Каждая включает связь с иррациональными мотивами: христианство – с жалостью к несчастным, коммунизм и либерализм – с освобождением и равноправием. Все они обещают светлое будущее: христианство – после смерти, коммунизм – когда все наладится и исчезнут классы, либерализм – когда рынок наведет порядок и каждый станет богат. Будущее это не только весьма привлекательно – царство божие, бесклассовое общество, экономическая личная свобода, но и гарантирует блага вполне конкретной части общества – праведникам, эксплуатируемым или собственникам. Эта притягательность в сочетании с очевидным коллективным настроем на борьбу одних против других, позволяет предположить, что удачное, большое ЛОБ скорее всего опирается на мобилизационную, героическую мораль, т.е. озабочено практической пользой недовольных групп и потому едва ли способно вести общество к свободе.
В клинических случаях эгоизма, тяготение ЛОБ к практической пользе может быть очень сильным. Можно быть, истинный талант демагога как раз и заключается в том, чтобы максимизировать ее при ее одновременном кажущемся убедительном отсутствии. Тогда все выглядит так, словно реальная польза ложного блага не ясна, отчего включаются инстинктивные моральные мотивы. Однако при этом действия, которых оно требует, вполне осязаемы, отчего происходит несомненный практический эффект. Обосновывая ложное общее благо, такой талант эксплуатирует невежество и подменяет ценность – теперь не высшая ценность порождает цель, а цель порождает высшую ценность. Новые, производные ценности, появившиеся из ложного блага, используются как способ достижения весьма практичной субьективной цели. Например, заработать миллион трудно, но можно попытаться убедить других отдать его на благое дело. Есть только два способа это сделать: использовать существующую ложную ценность или создать новую, т.е. придумать идею высокоморального долга, требующего не меньше миллиона. Скажем, послать шубы в жаркие страны.
Впрочем, я слишком требователен к творцам идеологий. Вероятно, для обьективной оценки их творчества надо исходить не из обьективности, а из реальности. Как ни удивительно, но в условиях нынешнего отсутствия обьективного критерия истинности общего блага, самые успешные из этических теорий не только стремятся попасть как можно ближе к нему, но и попадают. В историческом масштабе конечно, т.е. по отношению к тому ужасу, среди которого они родились. Самые успешные из них оказываются приняты общественными массами, что можно считать подобием договора, и реально двигают общество в сторону свободы, что мы в конце концов имеем счастье наблюдать своими глазами. Воодушевленные массы на какое-то время обретают новый смысл жизни, история поворачивается то вправо, то влево, а свобода кажется все ближе и ближе. Ложность идеи становится очевидна уже потом, когда она сыграла свою прогрессивную роль. Так что не стоит думать, друзья, что ложность – моральная оценка, это лишь констатация факта. Хотя любая конкретизация ОБ имеет шанс и скорее всего окажется чуточку ложной, правда и то, что найденная в мире насилия, она имеет шанс оказаться чуточку истинной. Что касается практической пользы, люди всегда найдут способ воспользоваться чем-либо к своей выгоде. Даже если бы они осознали требования обьективной этики, наверняка нашелся бы кто-нибудь, кто смог бы извратить ее прямиком в свой карман. Способность людей портить любые идеи, приводит к тому, что и практические блага, честно задуманные служить всем, усилиями проходимцев и дураков рано или поздно смещаются в сторону публичности, что вызывает необходимость новых коррекций пирамиды. Как видно из рис. 3.6, ЛОБ могут двигать ее в обоих направлениях и, несомненно, что лучшие из них на своем историческом этапе выполняли роль вдохновителя освободительного нерыночного квази-договора. Публичные блага становились доступны многим, а справедливость на какой-то момент опять торжествовала.