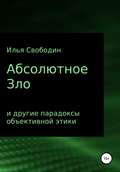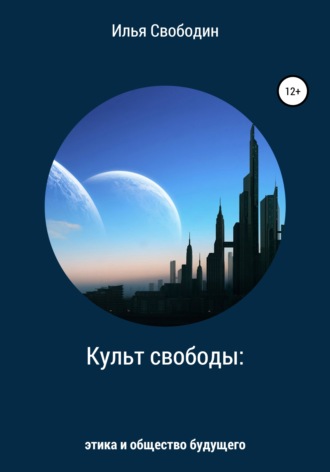
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
Бытует мнение, что ответом на насилие должно быть поощрение – подставить другую щеку, обнять и поцеловать, поблагодарить и простить и т.д. Вы не поверите друзья, но такие травмы рассудка довольно распространены, правда только в книгах. ОЭ к книгам не имеет отношения. Есть также мнение, что справедливость обязательно включает возмездие – независимо ни от чего. В этом случае мы имеем дело с обычной местью. ОЭ не имеет отношения и к мести. Баланс может быть восстановлен без возмездия – участники лишь должны прийти к соглашению о справедливой компенсации, включая ситуации, когда все полностью восстановить уже невозможно.
Таким образом, торжество справедливости может быть разделено на две части, относящиеся соответственно, к публичной сфере и обьективной этике, и к личной сфере и морали. Первая часть требует безусловного восстановления баланса, возмещения вреда и справедливой компенсации, включающей хлопоты и испорченное настроение. Она не требует наказания или мести как таковых. Баланс должен быть достигнут, а меры согласованы, договором – т.е. обьективно и добровольно. Вторая часть – оценка события, характера нарушения и нарушителя, персональных причин. Она может привести к прощению или наказанию в зависимости от конкретных обстоятельств, личной воли пострадавшего и его чувства справедливости.
– Заслуги
Справедливость ассоциируется также с воздаянием не за насилие, а за что-то хорошее. Например, друг дал совет – надо отблагодарить. Мастер сделал вещь – надо заплатить. Привратник открыл дверь – надо улыбнуться. С точки зрения свободы, такая справедливость не вполне справедлива. В личных отношениях благодарность да, очень уместна, как собственно и сами обмены небольшими и даже большими жертвами. Близкие постоянно делают друг другу что-то хорошее, хоть и не расплачиваясь за каждое доброе дело, а также несут ответственность, которую они добровольно на себя приняли. С незнакомыми людьми мы тоже часто расплачиваемся краткой благодарностью, например, за придержанную дверь. Но эта благодарность – лишь след личных отношений.
В чисто публичных отношениях все иначе. Незнакомые вообще не должны делать для нас что-то хорошее. Непрошенная польза – это насилие. Все хорошее, что мы можем получить от постороннего человека должно быть оговорено заранее, как например, при покупке в магазине, где с товаром можно предварительно ознакомиться. Соответственно, результат такого взаимодействия, а это не что иное как эквивалентный обмен, имеет мало общего со справедливостью личного воздаяния. Справедливость в публичной сфере требует не только правильной процедуры обмена, но и обьективности результата: от каждого по способностям – каждому по полезности, так сказать. Проблема в том, что не существует процедуры автоматически генерирующей подобный замечательный результат, ибо в отличие от ущерба или затрат, пользу, которая всегда в будущем, невозможно формализовать. Говоря иначе, если поступать этично, то надо платить за вещь стараясь сосредоточиться на ее обьективной пользе, а не том, сколько времени, ресурсов и нервов вложено в ее производство. И не на том, сколь лично моей персоне хочется – или не хочется – ее поиметь. Каждый из нас, бывает, вкладывает массу сил в дела, которые никому кроме него оказываются не нужны. Следует ли считать такое положение дел несправедливым? Едва ли. Я, например, даже не жду, что мою будущую книгу будет кто-то читать. Кроме вас конечно, друзья мои.
Что касается философских рассуждений вообще, о том заслуживают ли люди своей судьбы, несут ли они ответственность за свой выбор, должна ли жизнь, напополам с обществом, возмещать, награждать, карать и т.п. – кто тот философ, что присвоил себе моральное право вершить суд над посторонними, незнакомыми и свободными людьми, дела которых никак и ни в чем его не касаются? Ну а если несвободные – совсем другое дело. Заслуживают и очень надеюсь, что воздастся по делам их.
12 Достоинство
– Моральная ценность
Балансировке между эгоизмом и альтруизмом, равно как и поиску справедливости, помогает другой моральный механизм. Он, правда, служит не компасом, скорее – якорем. Моральное чувство, помогающее человеку не впасть в крайность и породить несправедливость, называется достоинство. Или, по-старинному, когда еще не была известна обьективная этика – честь. Можно сравнить с совестью. Если совесть – универсальный детектор насилия, то достоинство – ограничитель, помогающий не доводить дело до ее угрызений. Если совесть работает везде, но предпочитает личные отношения, то достоинство напротив, больше помогает в отношениях с посторонними, что обьясняется его происхождением – основанным на праве занимать ступень иерархии. Это делает его особенно важным с точки зрения свободы.
Достоинство можно рассматривать как осознание собственной особой ценности, дающей право на свое мнение, на участие в договоре. Свободный человек непременно имеет ценность, это условие самой возможности его взаимодействия с другими. Участвуя в договоре, он материализует ее – превращает в пользу другим. Раб обладает той ценностью, которую ему придает хозяин, у него нет ничего своего, кроме преданного взгляда. Это полезность вещи. Хозяин, в свою очередь, обладает ценностью равной количеству рабов и он сам – раб своего положения. Свободный человек – это активный субьект, он меняет мир так, как считает нужным. Но достоинство – не обязательно субьективная вещь, следствие собственного мнения "вершителя судеб мира", оно – следствие обьективных, реальных качеств человека, а именно его способности быть разумным и свободным, преодолеть свою природу и проявить волю. Т.е. это – моральная ценность, ценность самой свободы. Эту ценность нельзя продать или обменять, она служит исключительно для участия в договоре. Ее можно только потерять, причем безвозвратно. А если человек не хочет участвовать в договоре? Вот тогда он и теряет свою моральную ценность, ибо только договор удостоверяет ее наличие. А почему безвозвратно? Потому что предпочтя насилие, человек утрачивает необходимое для договора доверие.
Отсюда видно, что достоинство, как и свобода, не выживает в гордом одиночестве индивидуальной души. Осознание собственной моральной ценности невозможно без осознания аналогичной ценности другого, без умения видеть достоинство (равно как и его отсутствие) в других – ибо нельзя договариваться с самим собой. Человек не может быть свободным в одиночку, не может ощущать себя свободным, когда вокруг одни рабы. С кем он будет сотрудничать? Кто его будет уважать? Кто обеспечит ему свободу? А потому свободный человек предполагает достоинство в каждом по умолчанию, до тех пор пока не доказано обратное. Он не стремится отделиться или выделиться – в одиночестве обьективное достоинство превращается в субьективное самомнение, которое, правда, тем дороже, чем успешнее стадо губит все, что выступает – ибо всегда есть те, кто ведет и те, кого ведут. Но, как бы то ни было, достоинство – коллективный механизм, следствие как качеств человека, так и состояния общества.
Ценность свободного человека не обьясняется его силой или руководящим положением. Силой можно вызвать страх, принудить к послушанию, но нельзя принудить к уважению, к честному учету интересов и мнения. Эта ценность не обьясняется деньгами и прочей собственностью. Богатство может вызвать зависть, подобострастие, но опять не может – уважение. За исключением, пожалуй, того случая, когда оно заслужено отражает качества человека, если такое бывает в наше нечестное время. В любом случае, и бедный, и богатый претендуют на обладание равного достоинства. Аналогично, достоинство человека никак не связано с его авторитетом, статусом или ценностью его человеческой жизни. В первом случае речь опять идет о его социальной стоимости, оцененной если и не рыночным путем, то все равно – через приносимую практическую пользу. Во втором – о его ценности для близких. Но моральное достоинство человека не теряется в смерти (до тех пока он "жив" в публичном пространстве, т.е. работают инициированные им транзакции и приносится обьективная польза), в то время как младенец им еще не обладает. И наконец, эта ценность не пересекается со славой или посторонним мнением. Достойный человек поступает достойно не потому что хочет, чтобы об этом знали или потому, что за ним наблюдают. Он, как водится, не может иначе.
Достоинство человека – это его ценность как абстракции. Но как абстракция может быть ценной, ведь одна абстракция не отличима от другой? Достоинство как бы уводит все личное за пределы публичных отношений, личное закрывается от посторонних, становится им недоступно, а полученная таким образом абстракция взамен приобретает универсальную, общую и единую для всех ценность. Поэтому все свободные люди обладают равным достоинством – ценность абстракции иной и не может быть.
– Проявления достоинства
Как работает достоинство? Оно "уравнивает" людей независимо ни от чего, требуя абсолютного баланса во всем. Оно не только не позволяет унижать другого и использовать его в своих интересах, но и унижаться самому и быть использованным в чужих интересах. Это тот якорь в отношениях, который зафиксирован на искомой воображаемой черте между эгоизмом и альтруизмом. Унижая другого, человек унижает себя, унижая себя – унижает другого. Что вызывает раскаяние, стыд, муки совести, презрение к самому себе. И потерю достоинства.
Достоинство связано с самоограничением. Чем лучше человек осознает свое достоинство, тем меньше он поддается влиянию инстинктов и страстей, прихотей и соблазнов, тем сильнее его сопротивление им и способность к самоконтролю, тем он сдержаннее, осмотрительнее и мудрее. Он не боится ответственности и не поддается угрозам, не любит халявы и не ценит бесплатного сыра. Напрашивается аналогия с массой. Чем массивнее физическое тело, тем труднее его сдвинуть, тем сильнее оно сопротивляется всевозможным силам. Достоинство – это как бы моральная "масса" человека. И, разумеется, как всякая масса, оно вызывает "притяжение" – доверие. На достойного человека можно опереться. Фигурально выражаясь.
Способность достойного человека контролировать себя во многом базируется на подавлении инстинкта страха, он не позволяет ему влиять на свое поведение. Конечно, любой человек испытывает страх. Иногда человек стремится скрыть страх показным равнодушием и безразличием. Дескать, "это меня не касается". На самом деле, он просто не хочет признаваться себе в своей трусости, чувствовать себя униженным и бессильным. Свободный человек не боится признаться себе в своем страхе, а потом преодолеть его, делая то, что требует его достоинство. Иногда человек боится показаться трусом и проявляет повышенную агрессивность, демонстрируя свою жесткость, способность противостоять насилию, свою честь и доблесть. Достойный человек не опускается до этого. Он всегда сдержан и уравновешен. Однако, он не терпит нарушений договора и готов к тактичному исправлению ситуации и восстановлению справедливости – без истерик и агрессии. Но если требуется ответное насилие, он готов и к нему.
Достоинство – комплексный механизм, затрагивающий и ОЭ, и мораль, работающий и в ситуации договора, и в ситуации насилия. Однако достоинство не позволяет насилию стать руководящим мотивом поведения. Оно всегда контролирует его необходимость и цели. Если насилие лишает человека свободы, достоинство требует ее защиты и максимально возможного сопротивления. Оно мобилизует все моральные силы человека. При этом он знает, когда надо остановиться и не превратить борьбу за свободу в насилие над поверженным противником. Если насилие требуется для восстановления справедливости, это означает, что отношения перешли в личную сферу, где оскорбленный человек может ответить, не роняя достоинства и не неся моральной травмы. Личное возмездие, равно как и прощение, снимает тяжесть обиды и горечь неудовлетворенной мести. Но что если ответное насилие или борьба за свободу невозможны, если силы слишком неравны, обида не отомщена, а свобода призрачна? Достоинство помогает справиться с этим. Человек не ломается и не озлобляется, он остается выше – как всякий свободный человек по отношению к животным. Достоинство хранит человека в моменты несчастий и унижений. Оно помогает ему выстоять, сохранив свою моральную ценность, и возвращает его в общество таким же достойным.
Тот, кто отказывается признавать достоинство других, теряет и достоинство свое. В эту ситуацию попадают люди, практикующие насилие. Насилие – это прежде всего попрание чужого достоинства, низведение свободного человека на уровень камня, подверженного воздействию сил. Насилие может быть соблазнительно. Оно может действовать как наркотик, потому что оно – наша биология, а биология имеет свойством постоянство и неумолимость. Разумный человек будет хранить механизм достоинства в исправности, не подвергая ненужным испытаниям, которые сами сомнительны с этической точки зрения – не будет увлекаться охотой на животных, чрезмерной властью или руководством близкими людьми, не будет экспериментировать с жестокостью становясь в строй или надзирая за осужденными. Психическое здоровье, как и моральную репутацию, значительно легче потерять, чем восстановить. Вот почему, не лишним будет снова напомнить, наказание преступника должно оставаться делом пострадавшего, а не отдаваться в руки профессиональных палачей, самих рискующих психикой и, соответственно, достоинством.
– Потеря достоинства
Люди с рождения способны быть разумными и свободными. Достоинство растет в человеке с разумом, самостоятельностью и ответственностью. Но насилие, особенно систематическое, способно сломать человека, превратить в раба. Тогда он теряет способность воспринимать себя равным и свободным, он становится зависимым и безответственным, пресмыкается и заискивает или помыкает и глумится. Ему нет смысла следовать этике, ему не нужно достоинство. Фактически, сломанный человек превращен в животное, подчиняющееся индивидуальным или коллективным инстинктам выживания. Возможен и вариант потери человеческого лица самопроизвольно, например, когда условия воспитания или жизненная ситуация оказались неподходящими для его сохранения. Детям необходимо социализоваться в группе и если ребенок случайно окажется в среде, где приветствуется обман и жестокость, он рискует сломать свой механизм отвращения к насилию. А взрослый может сломаться от трудностей судьбы, даже если они не были следствием чьих-то злонамеренных действий.
Потеря (или отсутствие) достоинства может достигать двух характерных стадий. Первая – более цивилизованная, свойственная гражданам умеренно иерархических обществ, где систематическое насилие осознается/ощущается как зло, но зло неизбежное, которому нет сил, и соответственно смысла, противостоять. Здесь человек унижен, он завидует тем кто выше и стремится самоутвердиться за счет нижних. А если их нет – унижая равных. Не обязательно лично. Важно иметь привилегии, позволять себе что-то особенное, выделяться на фоне прочих. На этой стадии человек осознает/чувствует свою несвободу, свое ничтожество как личности, как шестеренки иерархии. Поэтому он способен освободиться от иерархической психологии, если будет работать над собой. Иногда так происходит, если он попадает в общество более равноправное и его жизненная ситуация и перспективы улучшаются. Но если лень и глупость побеждают, то вместо роста личности мы видим, как иммигранты из отсталых стран кучкуются вместе, консервируя свои привычные дефективные нравы.
Вторая стадия, стадная, свойственна диким коллективным образованиям – большинству населения отсталых стран, варварским племенам, уличным бандам, всевозможному дну общества. Эти люди безнадежны, потому что в душе сломано что-то критически важное. Они с рождения воспитаны в несвободе – физической, экономической, моральной. Унижение и иерархия для них естественны. У них нет понимания свободы и равенства, а есть потребность, с одной стороны, в самоутверждении насилием, а с другой – в своей стае, в вожаке, в покровительстве "высших сил". Они не имеют собственной "массы" и похожи на мыльные пузыри, которые могут существовать только в виде пены, а потому они сбиваются в стаи, где смелеют и начинают проявлять ненависть ко всему непохожему и чужому. Особенно их бесят свободные люди. Это – признак страха. Они боятся, потому что не понимают их, потому что на самом деле они не уверены ни в себе, ни в своих вожаках, ни в своих святынях. Агрессия – способ их самозащиты. В отличие от первых, они не ощущают свое ничтожество, свобода им не нужна. Получив свободу, они тут же берутся за старое. Вся их примитивная, групповая мораль: свои – хорошо, чужие – плохо. Они унижаются в поражении и наглеют в победе, пресмыкаются перед сильными и глумятся над слабыми. Неприглядная картина.
Вероятность дикаря "исправиться" практически нулевая и требует не только его нетривиальных личных усилий, но и создания для него соответствующих условий, возможности жить достойно в этичном, чутком коллективе. Примеры, когда беспризорники перевоспитывались и начинали жизнь с начала – исключение, иллюстрирующее всю сложность этой задачи. Для решения ее современное общество совершенно не приспособлено.
– Личность и коллектив
Ужасная картина сломленного человека демонстрирует роль коллектива в условиях систематического насилия. Поскольку достоинство – общественный механизм, стадное "достоинство" оказывается способно подменять личное. Как это происходит?
Для ответа надо обратить внимание, что в достоинстве важную роль играет чувство гордости. Достоинство – это своего рода гордость своей свободой, званием человека, тем, что человек нужен другим. Свободный человек может гордиться и принесенной другим пользой, потому что в мире свободы польза каждого обьективно оценена и признана, а гордость – оправдана. Несвободный человек ничем таким гордиться не может, даже пользой. В мире насилия нет пользы, есть победа – польза самому себе. Соответственно, место пользы занимает что угодно – капиталы, известность, регалии, страх соперников. А если с этим проблемы, то показуха и престиж. А если и этого не набирается, сгодится гордость принадлежности. Что и понятно: успех одного – поражение всех остальных, а значит соперники неизбежно формируют боевые группы, ведь победа в одиночку невозможна.
И моральная, и социальная ценность свободного человека обьективна – никакой коллектив не имеет к ней никакого отношения. Несвободный вынужденно приобретает ценность за счет коллектива – до победы еще далеко, да и та будет в любом случае неличной. Для этого коллектив выделяется в самостоятельную сущность и ему придается безусловная, хоть и фиктивная ценность. Ценность – как человека, так и коллектива – всегда определяется относительно других, иначе гордиться не получится. Соответственно, коллектив, с приданной ему ценностью, приходится сравнивать с другими коллективами, а приданную ценность приходится подтверждать и доказывать, что в конечном итоге выливается в поношение "других" и выпячивании "своих", потому что никакой обьективной ценности коллектив из себя не представляет. Его единственная ценность – этика, и это этика составляющих его людей, а значит чем ценнее коллектив, тем менее он, в лице его членов, осознает свою ценность, тем паче выпячивает ее.
Достоинство определяет отношение к другим людям. Тут и проявляется эта разница. Коллективист основывается на принадлежности к коллективу. Принадлежности оказывается достаточно для далеко идущих выводов – ценность всякого человека рассматривается как функция ценности его коллектива. Свободный человек оценивает другого обьективно – с точки зрения доверия и возможностей сотрудничества. Он никогда не скажет "он плохой", он скажет "он другой". Или промолчит и пройдет мимо.
Доверие, основанное только на достоинстве, в противовес разнообразной личной близости, позволяет организовать иную человеческую общность, нежели коллектив – цивилизованное общество. Тоже коллектив, но уже бесформенный, не имеющий ни границ, ни идентичности, ни прочих признаков коллектива. Поскольку такой коллектив не противостоит другому коллективу, его члены автономны и индивидуальны, их обьединяет только этика, позволяющая одновременно быть и членом общества, и свободным индивидом. С одной стороны, цивилизованное общество не подавляет человека, навязывая ему коллективные ценности, а с другой – индивидуальность не отчуждает, заставляя подозревать, опасаться или принуждать других. Цивилизованное общество, несмотря на всю расплывчатость этого термина – единственно возможное "организационное" воплощение правильного договора.
Коллективизм – это болезнь достоинства. Все его разновидности – клановость, фашизм, шовинизм, патриотизм, национализм и т.п. – обьединяет пренебрежение личностью, превращение человека в рядового, в винтик большой машины. Вместо личного достоинства такие гордятся коллективной идентичностью, тождественностью. Вместо следования этике следуют "священному долгу", если, конечно, не следуют силе. Вместо личной чести и стыда появляются коллективные, а традиции возводятся в ранг сакрального. Но не всякими традициями следует гордиться. И нельзя любить идентичность. Есть родной язык, но его любить нелепо. Вообще, нельзя любить абстракции. Нельзя любить и коллективы, можно любить только конкретных людей. Ценность коллектива, гордость им, "любовь" к коллективу, как и аналогичная "любовь" к богу – это психологический дефект, атавистический страх оставшийся со времен каннибализма, когда выжить вне коллектива было нельзя, когда коллектив был единым целым, а его члены – никем. Страх поражения и насилия приводят к желанию примкнуть, спрятаться за коллектив. Коллектив – это сила. Слабый человек силен своими знакомствами, своими предками, своими высокими абстракциями – Родиной, Страной, Народом. Если его всего этого лишить, его слабость сразу же станет видна. Такие находят свою значимость рядом друг с другом, они тянутся друг к другу чтобы самоутвердиться, найти опору.
Свобода избавляет человека от страха, но свобода нелегка. И если люди предпочитают сбиваться в стадо, если стадный инстинкт берет верх, они рано или поздно теряют и достоинство, и цель. Все это подменяется коллективом, его атрибутами, символами, ценностями. Человек приобретает коллективную идентичность – он наконец понимает, кто он такой. И мы тоже.