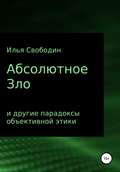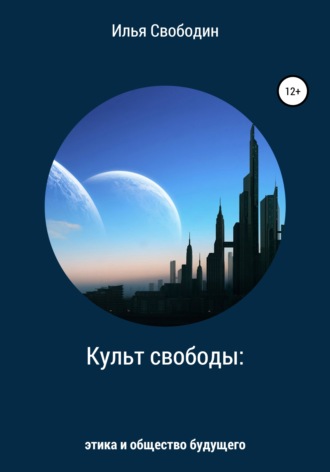
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
Деятельность и смысл
Приветствую вас, друзья!
После таких серьезных вопросов, и не побоюсь этого слова, парадоксов, я до сих пор не могу собраться с мыслями и поэтому пока решил поразмышлять о чем-нибудь попроще, не таком отвлеченном. Ну например, как в реальности ежедневного быта появляется этика? Однако, в реальности – это ж на практике? А практика – это ж деятельность? В ней как в капле воды отражается и человек, и его деятельность. А также некоторые их комбинации, как например деятельность человека, деятельность ради человека, деятельность для блага человека, деятельность в ответе за человека, деятельность во имя и вместо человека. Вся эта деятельность – не что иное, как сам человек – как практик и деятель. И конечно в деятельности мы находим самое главное – цель, смысл и суть человеческого бытия, а также цель, смысл и суть человеческого действия.
Да, вот такие размышления. Но это, если коротко. А если подробнее, то тут надо по порядку.
1 Цели и ценности
Любая деятельность, если это действительно деятельность, имеет некую цель. Этим деятельность отличается не только от бездеятельности (которая иногда тоже имеет цель), а главным образом от бесцельной суеты. Последним заняты не только неживые обьекты окружающего мира, но и большинство живых существ. Так, мы можем смело сказать, что падающий кирпич не имеет цели, даже если он попал точно по голове. В данном случае голова – это не цель, а препятствие, потому что истинная цель кирпича нам неизвестна. Он может и метил в голову, но мы не можем этого знать. И поскольку цели кирпича нам неизвестны – их нет, ибо только по отношению к знанию разума можно говорить о каких-то целях. Далее, возьмем живое существо, скажем ежа. Если еж топорщит иглы, он вовсе не собирается колоться, он делает это как бы сам по себе, вроде как падающий кирпич. Нет, мы конечно можем предположить, что он думает, что если он уколет, это будет по-своему прикольно. Но мы, опять таки, не можем этого знать. Поэтому мы имеем право говорить о том, что цели есть только у людей. Но не потому что они так говорят. Как известно, выпытать истинную цель у человека бывает крайне сложно. Мы знаем это потому, что можем заглянуть внутрь себя.
А потому, заглянув в себя и честно осознав свои намерения, мы признаем – у всякой человеческой деятельности есть цель. Уступая любви к обобщениям, я бы даже сказал, человек – вообще тот, кто способен ставить цели. Все, что человек делает – он делает намерено, и в силу этого вся его биологическая жизнь и даже физическое существование приобретает целесообразность. Даже когда он старательно делает что-то бессмысленное с точки зрения своей природы или противное ей – он этим утверждает свою свободу, а это великая, на самом деле, цель. Или даже если он не знает свою цель – он ее ищет, а это тоже большое, почетное дело. Понять человека можно поняв его цели. Однако все цели нас не интересуют. Если допустим, человек падает с крыши, то куда он метит уже не так важно. Хотя, может и важно – может он для этого и падает. То есть когда дело касается человека, мы сразу видим, что у него есть много разных целей. Одни короткие – упасть с крыши, другие подлинней – попасть куда-то, третьи – совсем дальние. Предположим он так решил поквитаться со своими кредиторами. И упасть прямо перед входом в их офис.
Нас будут интересовать самые дальние цели, ведь именно им подчиняются более близкие. Соответственно, все цели так или иначе подчиняются последней – самой главной. Но когда мы задумаемся о том, откуда берется самая последняя, самая дальняя цель, мы придем к выводу, что ей неоткуда взяться. Человек не может просто придумать цель, если она ему безразлична. Она ему должна быть интересна. Значит все человеческие цели так или иначе уже заложены в человеке, потому что где же еще хранятся его интересы? Но что человеку интересно? Что для него ценно?
В человеке полным-полно интересов. Есть интересы, берущие свое происхождение в социальных инстинктах, есть – в животном эгоизме, а есть – в разуме, хотя это последнее упорно отрицается многими вполне разумными мыслителями. Но и неразумные интересы порождают действия, которые как правило контролируются или подавляются рассудком. Или, по крайней мере подпадают под таковое желание. Происходит это так. Сначала все источники подобных интересов – потребности – собираются в одно место, чтобы с ними было удобно работать. Работать, разумеется, на их удовлетворение, что в конце концов и становится целью. Но прежде, чем потребность родит цель, она должна родить ценность. Ценность – это как бы инструмент по работе с целями, то, что помогает оценить потребность – ее важность, срочность, хлопотность и т.д. А бывает, ценность в свою очередь рождает промежуточные потребности. Человек придает ценностям весовые коэффициенты, распределяет их по полочкам, окрашивает в разнообразные эмоциональные тона. Когда все наконец рассортировано, человек оценивает цели уже с более практической точки зрения и, в зависимости от наличия возможностей, превращает далее в мотивы, намерения и, наконец, в действия. Поскольку достигнуть цель иногда не получается, цели заменяются, подменяются и изменяются. Человек забывает о конечных целях и сосредотачивается на промежуточных. Ошибается в промежуточных и вспоминает о чем-то совсем ином. В результате, как видите, все так перепутывается, что понять откуда что взялось, становится совершенно невозможно.
Но это нисколько не останавливает разум в контроле над целями. Разум старается навести порядок тем, что строго ранжирует ценности и выделяет главные, которые оказываются соответствующими самым дальним целям. Но найти их причину уже нельзя. В конце концов, эти далекие цели, с гарантированной невозможностью их достичь, приводят человека к совершенно иному выводу, чем мы поспешно заключили – к осознанию того, что у всего должен быть иной смысл, нежели потребности и интересы. И поскольку в себе найти подобный смысл точно не удается, многие действия человека становятся не то чтобы бессмысленными, но не совсем прагматичными. Или, скорее "над-прагматичными". Над-прагматичность попросту означает, что не всякие осмысленные дела могут быть сведены к конкретному интересу. Но если поискать, наверняка можно найти то, что его заменяет, правда? Ведь должен же во всем этом быть хоть какой-то смысл?
2 Ценность №1
Если захотеть бесцельно позанудничать, можно попытаться найти источник некоторых весьма человечных потребностей в животных инстинктах. Например, любопытство похоже на насущную необходимость быть заранее готовым к возможной опасности, ощущение скуки – на необходимость не расслабляться, потребность быть начеку и т.п. Но занудство, которое тоже без сомнения, животно по происхождению – дело пустое. Посему оставим в покое начало практической деятельности и посмотрим на ее конец. И как только мы это сделаем, то сразу станет понятно, что самая дальняя цель у человека, самая главная цель всего – он сам. Человек для себя, как ни отпирайся, ценность. Разве можно полноценно жить без самого себя? Хуже того. Никакая ценность не может существовать без ценителя ценности, а цель – без ее постановщика. Это – непреложные факты. Соответственно, такая важная ценность требует много забот и всевозможной деятельности. И что интересно, почти всякая такая деятельность повышает эту ценность. Например, если женщина причешется, она начинает себя ценить уже немножко больше. Если юноша окончит ВУЗ, ему уже обидно работать хоть и супер, но всего лишь интендантом. А уж если поэт напишет стих, он сразу начинает так гордиться собой, что и руки не подаст.
В некотором смысле, все, что человек делает – увеличивает свою ценность. Сюда входит не только внешний вид и образование, но и например, занятия спортом, работа, отдых, общение с полезными людьми, диета. Развлекаясь и получая удовольствие, равно как изнуряя себя трудом и добиваясь результатов, человек стремится удовлетворить свои потребности, но потребность есть не просто следствие какого-то интереса, а следствие самой способности проявлять интерес – и любая такая способность уже есть потенциальная ценность, если дать интересу как следует проявиться. Так, проявление интереса к стихам вполне может обнаружить в человеке поэта, а к общению с людьми – выявить будущего отца нации. Поэтому интерес прочно связан с повышением своей ценности. Даже когда человек просто тратит на себя деньги, он как правило не беднеет, а ценнеет. И не только потребляя здоровую пищу или дорогую косметику – любая разумная покупка играет свою незаметную роль. Ибо в покупке проявляется его индивидуальность, которая своим проявлением и ценна – само ее проявление одновременно есть и повышение ее ценности. Особенно это заметно в случае больших покупок – яхты, самолета – или культурном потреблении где-нибудь в кинозалах интернета.
В этих примерах мы наглядно видим, как из одной большой человеческой ценности вытекают ценности помельче – здоровье, образование, богатство. А там – еще мельче, и еще, и еще… Возвращаясь к нашему банкроту, можно заметить, что ценность его жизни уже как бы мала, ценность сладкой мести – уже побольше, и потому ценность точного приземления тоже не так уж мелка, как могло показаться с первого взгляда.
Деятельность, описанную выше, можно назвать прагматической или, на худой конец, экономической, включая, как ни прискорбно, месть конкурентам, а ценности, проявляющиеся таким образом – прагматическими. Личная экономика – их производство, начиная с себя самого, как биологического и социального субьекта, и последующий прибыльный обмен с другими. В повышении своей ценности заключается и цель такой деятельности, и важный смысл жизни. Человек запрограммирован на него, как животное на выживание. Если он отбросит глубокие размышления, есть большая вероятность, что все его интуитивное поведение к этому и сведется – как бы стать богаче, значительнее, привлекательнее, успешнее, известнее и т.д. Для многих людей все означенное напрямую ассоциируется со счастьем, блаженством, эвдемонией, нирваной и другими эвфемизмами того, к чему стоит стремиться в этой короткой земной жизни. Она служит мерилом для всякого бытового, практического события по умолчанию, отчего собственно, она и стоит под номером "1": крыша не течет – хорошо, горячую воду дали – еще лучше, зарплату прибавили – вообще праздник. Откуда радость? Оттуда, что стало хорошо ей, любимой ценности №1. Закон постоянного и неуклонного повышения личной ценности – это, так сказать, квинтэссенция животной сущности человека, адаптированной к общественным условиям.
Прагматические ценности ассоциируются обычно с деньгами и материальной собственностью, но конечно сюда надо включать также идеальную – продуктивный потенциал (способности, образование), личный социальный капитал (полезные знакомства, авторитет), человеческий (здоровье, обаяние) и еще что-то такое же условное, например, гражданство престижной державы. Накапливание подобных ресурсов всегда имеет конечной целью Большое, Важное, Значительное "Я", оценка которого возможна только относительно других людей. Как это происходит? Изначально ценность личных ресурсов (и ресурсов личности) субьективна и может быть обьективирована только деньгами (отчего №1, как вы уже догадались, друзья, есть не ценность, а стоимость). Т.е. все эти ресурсы рано или поздно необходимо конвертировать в материальную собственность – тогда и получится общая база для сравнения. В этом овеществлении человека – и суть результата, и суть процесса. Если взять идеальную экономику, то прибыль там возможна только путем создания новой ценности. Никакой иной прибыли – например, от утайки информации – там нет. Экономика ищет, а в идеале и находит, обьективные ценности любых ресурсов – сначала ценности вещей относительно людей, а потом ценности людей относительно людей: люди, которые в начале процесса служили мерилом полезности вещей, в конце превращаются в мерило друг друга, а в качестве обьективного ориентира ценности появляется нечто не зависящее от них. Стремясь к обьективности – как это требуется этикой – они уподобляются экономическим шестеренкам, действуют правильно и предсказуемо, а потому ценность №1 и все ее ценности нижних уровней в идеальной экономике можно считать обьективными, почти как обьективны этические "силы", действующие согласно своим собственным этическим "законам".
Однако пока до идеала дело не дошло, материализованная величина ценности №1 воплощает не столько обьективный результат генерации ценностей, сколько способности добиваться успеха "субьективно этичными" методами. И поскольку накопленная таким способом собственность дает такому успешному множество дополнительных возможностей по сравнению с менее успешными, не будет большим преувеличением заметить, что материализация №1 недалеко ушла от банального экономического насилия.
3 Рациональность и ее отсутствие
Нам всем очень льстит, когда нас считают рациональными существами. То есть целеустремленными, рассудительными, соображающими что к чему. Прагматическая деятельность требует всех этих качеств. Поставив перед собой цель, человек нагружает свой рассудок, изыскивает возможности, распределяет средства, напрягает способности и – раз! – цель достигнута. Ему становится хорошо. В этом и заключалась его цель. Никто не станет напрягаться, чтобы ему стало плохо. И в этом также заключается смысл "большой", прагматичной рациональности – человек ставит перед собой такие цели, чтобы получить пользу или удовольствие. Только видя свою пользу, чувствуя ее своим нутром, человек способен планировать, выбирать, строить свою деятельность и в конце точно знать, что цель достигнута. Т.е. в основе рационально выбранных и рационально достигаемых целей могут лежать только ценности, проистекающие от №1, все то, что легко угадывается в рациональной сфере жизни – экономике, да и вообще в публичности и политике, хотя современную политику почему-то и не принято относить к экономике. Вся эта рациональная сфера очень разумная. Все там правильно, понятно, логично. Есть четкий личный интерес, есть понятный смысл, план, результат. Правда некоторые мыслители доказывают, что люди в рыночной экономике ведут себя неразумно – как стадо баранов, если выражаться точнее. Но это имеет очень простое обьяснение – они ведут себя самым разумным образом для тех обстоятельств в которых находятся – в обстоятельствах отсутствия информации, неуверенности в своих желаниях и чужих намерениях и, возможно, недостаточного умения наилучшим способом распоряжаться своим мозгом. Но даже просто тратя деньги без всякого смысла они поступают рационально, потому что тратить на себя – это все же удовольствие.
Однако следует признать, что ставить перед собой цель "хорошо жить чтобы жить хорошо", как-то пустовато. Конечно, природа заполняет эту пустоту приятными ощущениями, включая чувство превосходства над окружающими, отчего хорошая жизнь кажется наполненной глубоким смыслом. Найденный таким образом смысл, кстати, создает иллюзию сакрального знания, добавляя тем приятных ощущений. И все же, несмотря на всю разумность этих целей, нетрудно видеть, что полностью рациональные люди недалеко ушли от неразумных животных. Истинно рациональные люди стремятся к иррациональному. Туда, где нет личного интереса, понятного смысла, плана, а иногда и результата.
Ничего этого нет разумеется в иррациональной сфере. В этой бестолковой сфере люди действуют как бы без цели. Они не могут спланировать ресурсы, соптимизировать средства, приложить максимум усилий в нужный момент. В этот самый нужный момент у них вполне может пропасть желание вообще что-то делать. А все потому, что конечная цель, намечаемая людьми в такой деятельности не до конца осознаваема, не вполне осмыслена и, в силу этого, принципиально недостижима. Иррациональные цели берутся просто из желания сделать что-то эдакое, доброе – скажем, подсобить кому-то. Но откуда мы можем знать, что тому нужно? Он, бывает, не дурак так сразу признаваться. Да и то сказать, сам-то он всегда ли знает, что ему нужно? Если в основе действия свой интерес, он рано или поздно проявится где-то внутри – в чувствах, в ощущениях, в интуиции. А чужой не проявится. Никогда. Да и риск велик. Как можно быть уверенным в результате в мире, где от нас мало что зависит? Если стараешься ради себя – неудачу можно пережить. А как пережить, когда по неумению и неразумению обрушиваешь несчастье на ближнего?
Но надо же делать хорошее! И потому люди действуют по наитию. Это наитие – весьма коварная вещь. Если кто-то поручал работу дураку, он знает, сколько проблем возникает потом от его усердия. В чем причина? В том, что дурак не видит конечную цель – только промежуточную, а если и видит, то не знает как ее достигнуть – только что надо сделать, а если и знает, то не может – он выполняет только прямые и простые инструкции. А представьте, что будет если дать дураку волю?! Действия дурака – иррациональны с точки зрения умного. Но все мы такие дураки, когда дело касается благих деяний. Мы не видим цели, не чувствуем результата, не ощущаем пользы. Мы только убеждаем себя, что видим, чувствуем и ощущаем. Нас согревает то, что мы поступаем "правильно" – в иррациональном действии для нас на самом деле важна не практическая цель, а сам поступок, процесс, даже жест. Иррациональное действие выявляет мотивы и намерения – в этом его смысл. Чувства, толкающие к поступку часто оказываются важнее результата, даже если нам не хочется в этом себе признаваться.
Люди хотят поступать правильно часто не до конца понимая, что это такое – "правильно". Правильно – что-то эфемерное, инакое, но важное. Например – честь, долг, принцип. Единственное, что можно сказать точно, правильно – это когда лучше не себе. Но если мы уберем из картины "я" и свою пользу, что останется? Все остальные. И значит, конечная цель таких действий – всегда и только – чужая польза и чужая выгода. И соответственно собственный ущерб, потому что счастья, как известно, на всех никогда не хватает. Уж очень ценность №1 хрупка! Человек например, может думать, что он богач из богачей, пока не увидит действительно богатых, и в результате в один момент станет бедным и несчастным – с ценностями не шутят! Тем непонятней рассудку действия направленные на помощь другим в ущерб себе. Им и названия придумали какие-то иррациональные – самоотверженность, самоотречение, самоотдача.
Парадоксальность иррациональных действий люди заметили давно и выразили расхожей мудростью – "благими намерениями вымощена дорога в ад". Нарицательными также стали выражения "медвежья услуга" и "слепая любовь". А тот факт, например, что "излишняя святость Грецию погубила" намекает на вполне жизненно-здравую предпочтительность собственного интереса. Горькое разочарование неудачей иррациональной благотворительности вылилось в присказках "не делай добра – не получишь зла", "сделал добро – жуй дерьмо". Хорошо иллюстрирует вышесказанное и всем известная судьба одного чудака, распятого на кресте по причине такой же чрезмерной святости. Что, однако, ни мало не мешает продолжать эту тяжкую работу.
Как же иррациональная деятельность может иметь хоть какой-то прок? Причина в том, что иррациональный мотив удостоверяется не столько результатом, сколько тем, как другой человек, получатель помощи, интерпретирует этот результат. Его мнение, не наше, становится гарантией правильности выбранной цели, а его радость, одобрение – фактическим результатом. Мы полагаемся на другого в оценке результата и придания смысла нашим действиям, что конечно есть вопиющая иррациональность. Но что-то же мы еще стараемся сделать, кроме того, чтобы просто доставить радость? Мы стараемся увеличить ценность другого человека, поскольку это – естественный, нормальный и самоочевидное желание каждого вменяемого, рационального человека – в данном случае того, кому мы хотим помочь.
Однако, иррациональность в целеполагании влечет не только некоторую сумбурность в выполнении, но и, например, невозможность и ненужность прогнозировать более длительные последствия. Действительно, как нам знать, что человек дальше захочет делать со своей ценностью №1? И даже, стремится ли он к ней на самом деле? Может, он обнаружил в жизни нечто иное, нам недоступное? Да и сами выбираемые нами средства вполне иррациональны. Иногда, парадоксальным образом, в долговременном плане большую помощь может оказать отсутствие помощи, или суровое воспитание, или обидная правда, или иные горькие пилюли. Но такие средства не очень популярны именно в силу иррациональности. Последняя часто сочетает желание помочь с желанием проявить заботу, приблизить человека к себе, укрепить взаимоотношения. Можно спорить, что это уже рациональность, но на самом деле, это просто необходимость признания факта заботы. Иррациональность нуждается в нем, в отличие от ее противоположности. Свой интерес не требует подтверждения – он чувствуется. В своем персональном случае, человек может заставить себя принять и самое трудное решение, если оно необходимо. Иррациональность предпочитает цели, которые не столько повышают чью-то ценность №1, сколько угодны, приятны и нравятся предмету заботы. Ибо он, предмет, не всегда может оценить истинность нашего мотива – в конце концов в чужую душу не заглянешь. Необходимо доверие больше, чем самому себе. Человек своим согласием принять помощь должен удостоверить ее именно как факт помощи. Как бы поставить на поступок печать иррациональности.