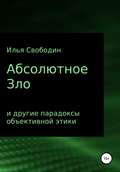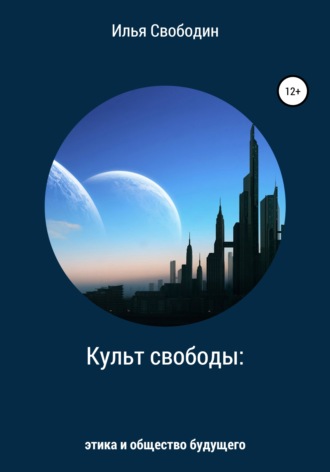
Илья Свободин
Культ свободы: этика и общество будущего
4 Ценность №2
Изобилие иррациональности вокруг нас доказывает, что ценность чужой жизни, ценность другого – тоже важна. Она тоже заложена в человеке. И если добрую половину своей жизни человек действует ради себя, то вторую, еще более добрую, он действует ради других. И получает от этого не только проблемы, но и своеобразное удовлетворение, которое как бы дополняет его счастье, эвдемонию, нирвану и прочее высшее наслаждение, придает ему так сказать обьемность и глубину. В отличие от экономической ценности, тут играет роль другая часть психологии – жертвенность, доброта, семейственность, коллективизм. Полученное таким образом обьемное счастье уже не очень-то назовешь животным – жизнь ради других это человечно, морально и заслуживает всяческих позвал не зависимо от результата.
В этом последнем проявляется интересный, хоть не слишком очевидный феномен – ценность собственной жизни никому не интересна кроме самого себя, а вот ценность других – им, другим, очень интересна. И потому иррациональные действия, они как бы кажутся ценнее, чем есть на самом деле. Они как бы важнее оказываются. Ими как бы есть смысл гордиться. Такие искренние, импульсивные и, на самом деле, иррациональные действия кое-где даже принято называть не просто похвальными, хорошими и добрыми, но "ценностно-рациональными", чтобы придать сразу двойной положительный смысл – и вроде ценностные, и в то же время вроде бы рациональные. Ну сами понимаете, кому охота признаваться, что он действует бестолково, напрасно и вообще как дурак? Это никому ни разу не льстит, мы ж разумные существа. Тем более, что у иррациональной деятельности тоже может быть своя логика. Человек может действовать вполне рационально на неком промежуточном этапе, например он может четко спланировать время, затраты и другие ресурсы для поездки по магазинам, чтобы купить так необходимые на юге шубы. Ведь обещали глобальное похолодание. Почему не запасти впрок?
Но мы смотрим прямо в корень. Когда человек сознательно поступает в ущерб себе – это иррационально во всех отношениях. При этом если от его иррациональности кому-то прямая польза, то в его деятельности все таки есть явный смысл. Только уже вне-прагматичный. Он не только не имеет экономического результата, он вообще лежит вне экономики. Помогая другому, человек отдает свою экономическую ценность и взамен приобретает другую – личную, человеческую, моральную и т.п. Он как бы конвертирует №1 в некую №2, материализует ее своей жертвой. Ценность №2 появляется как бы из небытия, но при этом результат усилий вовсе не обязательно, и даже обязательно не, равняется конвертированному. Внеэкономическая ценность не имеет рыночной цены, ее нельзя обменять. Можно отдать все и не получить, а точнее, не материализовать, ничего. Помощь, оказываемая другому, может быть оценена только этим конкретным другим, с его конкретной, субьективной точки зрения, и никем больше. В иррациональном поступке важнее факт поступка, чем сумма пожертвованного, хотя в наше время многие и любят подсчитывать. Такие подсчеты извращают отношения, потому что экономика в этих делах, например в семье, совершенно неуместна – важно, чтобы каждый вносил все, что мог, а не процент, долю или часть.
Таким образом №2 оказывается двойственна. С одной стороны – она находится внутри субьекта, движет им, материализуется путем собственного ущерба, и в этом смысле равна самому ущербу. С другой – она трансформируется в прибыток другого, улучшает его положение и в этом, ином смысле, равна приросту его ценности №1. Поскольку сам этот обмен не равноценный – малая жертва может принести массу благ, а огромная оказаться напрасной, то как же считать ценность №2? Что это?
Разумеется, это то, насколько нам ценен другой, насколько мы хотим принести ему пользу, причем независимо от его собственной ценности №1. Суть проявления №2 в наших действиях – не просто в том, чтобы нарастить чью-то №1, а именно в том, чтобы делать это себе в ущерб, предпочесть своим интересам, сделать наш собственный ценностный выбор. Потому правильно измерять ценность №2 той частью нашей ценности №1, которую мы готовы пожертвовать. Если мы при этом согласны пожертвовать еще чем-то или кем-то, что к нам отношения не имеет, это уже, понятно, не в счет – важна именно собственная жертва, в пределе достигающая всей №1, т.е. включая и собственную жизнь. Отсюда, кстати, ясно, почему №2 напрямую связана с моралью – с возможности выбора собственной смерти начинается всякая мораль.
В чем причина всей этой механики, помимо смутного желания сделать добро? В том, что всякая ценность алчет обладания. В человеческой потребности реализации собственной ценности, ее применении ради других, нахождении этим собственной, личной нужности. Вот если задуматься, зачем вообще наращивать №1, генерируя и генерируя ценности? Для себя? Для себя человек и так по-всякому ценен. Реально, для удовлетворения своих потребностей, ему не так много и нужно. Уж точно ради них не стоит всю жизнь карабкаться к недосягаемому успеху, переступая через конкурентов и остальных мешающих. Значит все это – для кого-то еще? Вот именно. Ценность №1, как будучи полученная в результате обменов, так и остается по характеру обменной. Тем, что человек повышает свою ценность, он фактически признает себя средством – потому что только то, что можно обменять имеет цену. Конечное, истинное достоинство человека нельзя измерить. Потому-то №1 зудит и жжет, требуя ее применения и признания другими, что обеспечивается ее жертвой.
Мораль лишь обслуживает эту механику. Мораль не любит ценность №1. Она любит только себя. Все попытки придать №1 некие добродетельные черты, например храбрость, умеренность, скромность и т.п., оказываются лишь отражением ценности №2, лишь тем, что в ценности №1 важно для других. И чем ближе тот, кому предназначена жертва, тем лучше он способен оценить ее. Если №1 – это сугубо социальная ценность, вернее стоимость, то №2 – максимально личная. Жертвы ради одних людей редко имеют тот же смысл и эффект, что ради других. По сравнению с более обьективной №1, №2 проявляется непредсказуемо и остается чисто субьективной. Нет никаких способов ее обьективно оценить и потому к публичной сфере с ее договором она никак не относится.
Многие поклонники рациональности, однако, обьявляют ценность №2 надуманной и обьясняют кажущуюся иррациональность простым недоразумением. Человек, по их утверждениям, поступает хорошо просто потому, что у него есть нужда в моральном и психологическом комфорте, ничем не отличающаяся от всех прочих естественных потребностей. Иными словами, совесть, по их мнению – уже вполне (или изначально?) биологический орган. В то время как рациональное зерно в этом безусловно есть, такой взгляд не только противоречит практическим наблюдениям и явно утопичен, но и демонстрирует непонимание окружающего мира. Конечно было бы неплохо превратить человека в моральную машину, но боюсь такое невозможно, ибо мораль требует свободы не только от всего машинного, но и от всякого биологического. Свободного человека ничто не заставляет делать добро и многие этим прекрасно пользуются. Да, плотская любовь и мужская дружба во многом обьясняются эволюцией, но ее обьяснительная сила невелика, как мы уже имели возможность убедиться. Нужда в психологическом и моральном комфорте так же безусловно присутствует, особенно вследствие социального давления, но и она не способна обьяснить истинно добрых дел. Истинно доброе не имеет причины. Вместо причины у него ценность №2.
5 Реальные действия
- Классификация
Конечно все такого рода отвлеченные рассуждения – пустая трата времени, потому что реальные действия бывают так запутаны, что понять их не в силах никто. Отчего так? Во-1-х, оттого, что в жизни оба мотива переплетаются. Почти вот как в примере с шубами. Во-2-х, потому, что свободный выбор цели – вещь почти невозможная. Все они, в большей или меньшей мере, навязаны нам или вытекают из предыдущих действий. В-3-х, поскольку цели, соответствующие обеим ценностям независимы друг от друга, они могут конфликтовать и, как правило, конфликтуют.
Рассмотрим реальные действия. Начнем с самых древних, кирпично, так сказать, ежовых и присвоим им для оригинальности номер 0.
0) Детерминированные (цель задана, неизвестна или отсутствует, не всегда можно выбрать средства)
К этой группе действий относятся те, что прямо вызваны внутренними или внешними силами. В конце концов, мы все только слабые несчастные существа, временно приютившиеся на этой негостеприимной планете. На нас постоянно действуют всевозможные силы. А сила – это такая вещь, от которой не отмахнешься. Например – падающий метеорит, туберкулезная палочка, игла ежа. Окружающие тоже бывают источниками сил, как рациональных – требование вернуть долги, реклама в телевизоре, так и нет – нищий на тротуаре, бабушка с сумками. Но не все вынужденные действия настолько мучительны или тягостны, многие бывают приятны, особенно те, что вызваны внутренними силами – поесть, выпить и поспать, или вполне нейтральны – ответить, когда спрашивают, поздравить коллегу с повышением, уступить дорогу даме с коляской. Хоть и обязанность, но не напрягает, правда?
Последние примеры граничат с интересным случаем детерминизма – социальным давлением. Да, детерминизм бывает весьма коварен! Социальное давление – это детерминизм, когда оно не имеет ничего общего с обьективной этикой, а обьясняется традициями, идеологией, групповой моралью или случайными всплесками общественного мнения. В этом случае человек не обязательно может не осознавать, что на него действуют силы, но напротив – вполне осознанно им поддаваться, стыдиться своих чувств и пытаться рационализировать свое поведение, делая вид, что он поддается давлению по собственной воле. Например, чаевые находят мириады нелепых оправданий, а на самом деле это – не более чем мелкая коррупция, обьясняемая меркантильным интересом и бессовестным давлением. Социальное давление может быть и более глубоким. Тогда люди, вы не поверите, ставят свои самые серьезные, жизненные цели не самостоятельно, а как все вокруг, как от них ждут. Ведь надо доказать, что ты достойный член коллектива. Например, много зарабатывать, покупать престижные вещи, играть в гольф, заниматься мошенничеством или спекуляциями.
Человек в подобной, детерминированной ситуации иногда может варьировать способ действия, но едва ли может отказаться от самого действия. Такой отказ – это совершенно особенное действие, требующее иногда невероятного количества сил. Вынужденные действия не предполагают никакой свободы, напротив, цель принудителей (если они есть) – ограничить свободу и лишить выбора. Вынужденные действия не могут быть рациональны – перед человеком стоит чуждая цель, он должен подчиниться и требовать от него рациональности, эффективного выбора средств – верх нахальства. Вся его рациональность будет направлена на то, как бы отвертеться и не делать того, что от него требуется. Или сделать кое-как, чтобы скорее перейти к своей, приятной цели. Или получить от неизбежного процесса максимум удовольствия, если это возможно.
Замечательное свойство некоторых сил награждать послушных исполнителей приводит к тому, что многие начинают обманываться и думать, что они все это делают по своему почину, ради удовольствия. В этом только доля правды. Хотя детерминированные действия иногда удается разнообразить приятными средствами исполнения или приятными промежуточными шагами, следует помнить, что чем настойчивее сила, тем меньше выбор возможных удовольствий.
1) Рациональные (цель и средства свободно выбираются)
Сюда входит всякое экономическое действие (к которым прямо применим анализ затрат и издержек, даже если он бессознательный), а также те публичные действия которые не дают прямого материального результата, но тем не менее весьма полезны. Например, поэт пишет стих, зная, что его манера, его творчество и он сам никогда не будут популярны, но при этом отказываясь писать в модной манере, потому что он рассчитывает на другую аудиторию. Это невыгодно, но рационально, т.к. его цель не деньги, а слава в узких кругах посвященных. Другой стремится к власти, чтобы повелевать и тратит на это все свои средства. Третья хочет стать звездой и ради этого продает самое ценное что у нее есть. Человек может вполне обдуманно влиться в коллектив и подчиниться его правилам, если достижение коллективной цели принесет ему пользу. В коллективе он, однако, остается чисто рациональным, ни в коем случае не жертвуя своими интересами ради других. Иначе зачем ему этот коллектив? А иногда наоборот – человек ставит себе цель влиться в коллектив в надежде на будущий успех или решение каких-то своих проблем, и ради этого наносит себе вред. В любом случае, подобная деятельность требует анализа, поскольку она и есть практическая деятельность в примитивном смысле этого слова. Цели ее, хоть и обозначены как свободные, свободны только условно, ибо подчинены собственному, неважно насколько превратно понимаемому, успеху, №1 – т.е. заданы заботливой природой.
2) Иррациональные (цель не ясна, средства не критичны)
Действия мотивированные моралью, долгом, любовью, состраданием, в общем – добродетелями. Добрые дела. Человек отказывает себе в выгоде, ничего не получая взамен. Иррациональные действия не требуют анализа средств и затрат. Он не только неуместен, но может им прямо противоречить. Например пожертвование может казаться тем правильнее, чем больше потрачено. В большинстве случаев эти действия бесцельны – человек действует потому что "так надо", а не для того "чтобы". Более того, человек может даже внутренне противиться своим побуждениям – например, давать "в долг" другу алкашу не следует – но ничего не может с собой поделать. Рациональный анализ, если применяется к иррациональной деятельности, не делает ее прагматической, просто потому что не может изменить ее цель. Однако, он может придать ей более осмысленный характер, помочь понять другого человека, найти его благо в своих действиях, придумать за него его ценности. Но несмотря на все рациональные усилия, польза, приносимая такой деятельностью, остается предположительной, хотя и дает определенное моральное удовлетворение. Значительная часть этой пользы заключается в улучшении взаимопонимания и укреплении взаимоотношений.
– Примеры действий
Теперь рассмотрим, как описанные мотивы переплетаются в реальном действии. Если взять что-нибудь рефлекторное, например чихание – то это явно детерминированно. А бурное выражение эмоций? По-разному. Если, например, это удовольствие от забитого гола + поддержка любимой команды = явно работает ценность №1. Если восхищение с целью приободрить знакомого музыканта, особенно бездарного – то скорее №2. Если освистывание артиста – то это эгоистичное эмоциональное насилие. А вот например, паническая продажа акций, себе в убыток? Частично детерминированно – человек не смог справиться с эмоциями, но с заметным рациональным оттенком – в спешке он успел вспомнить о своей выгоде, хоть и потерял ее. Т.е. результат может выглядеть иррациональным, а вот мотив – нет. Или, скажем, молитва. Если женщина молится, чтобы бог ей послал хорошего мужа – это вполне рационально, хоть и бестолково, а если, чтобы у ее мужа было хорошо в семье – абсолютно иррационально. Откуда ей знать, что он сам хочет?
Дальше. Спасение тонущего может быть, как ни странно, рационально. Допустим, тонущий – его должник. Или, например, человек идет с перспективной спутницей и просто не может не попытаться проявить героизм, хотя в другое время, он бы, скажем остановится и начал раздумывать – а доплывет ли он до тонущего? Вообще, человек может вести себя альтруистично, не потому что этого требует его душа, а потому что это выгодно – позволяет вписаться в коллектив и добиться таким образом успеха. Будет ли такой мотив иррациональным? Нет конечно.
Возьмем что-нибудь попроще. Например, человек едет на пикник с друзьями и складывает в сумку сьестное. Еда – это детерминизм, но ехать на пикник изза нее нелепо. Часть сьестного предназначена друзьям – как угощение. Это жертва. В то же время жертва оценена с точки зрения последующей пользы – это рациональный мотив. Однако вся практичность рассуждений об угощении может оказаться напрасной, если это угощение им не понравится. А если его вообще есть нельзя, то все будут голодны и радость от пикника сменится личной обидой.
Возьмем месть. Даже на поверхностный взгляд видно несколько мотивов. Например польза другим в том, что нехорошие дела не остаются безнаказаны. Польза мстителю – уважение (если таковы обычаи), ослабление врага. Есть и вынужденный мотив – человека жжет и мучает обида, не дает сосредоточиться на своих личных делах. А как отомстит, ему станет легче. Альтернатива мести – великодушное прощение – вполне может иметь те же рациональные мотивы, возможно неосознанные: унижение обидчика, попытка вызвать раскаяние, уважение коллектива, возвышение собственного эго, духовное удовольствие и т.п.
Возьмем подаяние. Помимо искреннего желания помочь бедным или сиротам, человеком могут одновременно двигать такие рациональные мотивы, как одобрение окружающих, пастора и семьи, желание спасти душу и угодить в рай, а также вынужденный мотив успокоить совесть, если его избыточные средства приходят нечестным путем. А ежевоскресные походы в церковь? Есть ли тут хоть какой-то смысл, помимо детерминированных страхов перед богом, общиной и собой, срочного спасения души, "так надо" и привычки, давно ставшей первой натурой? Начнем с эгоистических мотивов: одобрение общины, духовное удовольствие, общение с друзьями, поддержание личных связей, воодушевление и контакт с богом, помощь со стороны общины, облегчения от утоления иррациональных страхов, а также повод задуматься о вечном, умиротвориться и стать лучше. Альтруистические: материальное укрепление общины, выполнение долга перед соседями, родителями и детьми.
Еще случай – капитан не покидает тонущий корабль. На первый взгляд виден иррациональный мотив – помочь спастись команде. Но в этом поступке можно увидеть и вынужденность – каково ему будет потом жить, не выполни он этот традиционный долг? Не сохранив честь? Как он будет смотреть в глаза коллегам? Молчаливое давление коллектива может быть сильнее прямого насилия. Рациональный мотив: если у капитана есть родственники, дети и друзья, то выполнив свой долг, он оставит о себе хорошую память, даст повод гордиться собой, не перечеркнет то хорошее, что он уже сделал в своей жизни. Этот дальний прицел говорит о той важной роли, какую играет в деятельности время.
6 Время и (ир)рациональность
– От инстинктов к мудрости
Разнообразие и смешение мотивов создает изрядную неразбериху и возникает резонный вопрос – а нельзя ли как-то все это упорядочить и свести воедино? Я думаю нельзя, но почему бы не попытаться?
Первое, что бросается в глаза – все детерминированные действия имеют очень короткий временной эффект. Инстинкты вообще не умеют думать. Они могут инициировать всякие потребности, эмоции и чувства, но чем сильнее роль разума в их оценке, контроле и реализации, тем дольше (или нет) длится их эффект. Углубляясь в эти соображения, можно заметить, что степени и эгоизма, и альтруизма, лежащих в основе обоих типов действий, явно коррелируют с временем их планирования или эффекта, а значит – со степенью контроля разума над нуждами (и вытекающими чувствами).
Это же выяснили и ученые. Взяв ЯМР-машину, они сканировали добровольцев, которых просили выбрать между получением дешевого квитка, дающего право приобретения в магазине прямо сегодня – или получением дорогого, отовариваемого через две недели или через месяц. Сканы выявили, что оба варианта вызывали активность в латеральном префронтальном кортексе, но что вариант с немедленным отовариванием также вызывал непропорциональную активность в лимбических районах. Более того, чем выше была активность лимбических районов, тем с большей вероятностью люди выбирали немедленный квиток. Этот результат – свидетельство не просто того, что рассудок и эмоция сражаются у нас в голове, но и того, что там сражается человек и животное!
Посмотрим на рациональные действия. Чем неотложнее нужда – тем горячее голова, тем меньше забота о будущем. Так появляется воровство, мошенничество и вообще насилие – хочу прямо здесь и прямо сейчас, ибо "жизнь копейка, судьба индейка!" Голый эгоизм. Потом идет деятельность, не связанная с насилием, но приносящая прибыль достаточно быстро, например – мелкая торговля, не требующая больших инвестиций, или спекуляции на многочисленных рынках. Тут и выгода близка, т.к. меньше время оборота, и риск меньше, чем при насилии. Меньше и эгоизма – надо следовать правилам, думать о покупателях, коллегах и т.п. Более далекие действия – реализация каких-то практических идей, скажем, разработка, производство, серьезная профессиональная деятельность. Тут надо потерпеть и поработать, проявить упорство, целеустремленность и одновременно – на какое-то время забыть о скором результате. Есть и еще более долгосрочные – наука, искусство. Цели маячат так далеко, что их даже не видно и поэтому может показаться, что люди уже отказываются от выгоды, посвящая себя любимому делу.
Если теперь взять иррациональные действия, то тут тоже можно увидеть зависимость от времени, конечно с поправкой на то, что сама иррациональность предполагает очень неопределенную пользу, т.е. строго говоря, в этом случае нельзя вести речь о времени планирования. Эмоциональные импульсы, жалость, сострадание требуют эффекта прямо сейчас, не оставляя времени на размышления. Далее идут осознанные жертвы во имя самых близких – это вклад в их ежедневное и ежечасное благополучие, но уже и оглядка на перспективу. Еще более продуманная жертва требует не столько альтруизма, сколько размышлений и анализа последствий. Т.о. "планирование" незаметно проникает и в этот тип деятельности – оно оказывается в какой-то степени связано с расстоянием между людьми. Семья – это выживание своих потомков. Участие в жизни общины, соседей и знакомых – своей "малой" родины. Долг во имя нации – своей культуры. Легко видеть, что широта охвата получателей пропорциональна временному горизонту действий – потому что время возможного эффекта, отражающееся во времени жизни целевой общности, тоже растет. Ведь потомки, как ни хранить семейные традиции, рано или поздно растворятся в народности, сама народность – в каком-нибудь "плавильном котле", а сам котел – еще в чем-то. Но одновременно – чем дальше отстоят друг от друга люди, тем слабее альтруизм. Чувства к близким вряд ли сравнятся с чувствами к соседям.
Будучи с детства не в ладах с книжками без картинок, я решил опять прибегнуть к помощи графики. У меня получился рис. 3.1, где я изобразил зависимость альтруизма и эгоизма от времени. Тут вроде все тривиально, особенно если сравнить его с уже знакомым нам рис. 1.6. Но несмотря на кажущуюся их идентичность, внешность обманчива! На рис. 1.6 время историческое и общее, мы смотрим как бы назад и видим, как меняется проявление чувств в жизни людей, а на рис. 3.1 время индивидуальное, мы смотрим теперь вперед. Если мгновенный результат вызывается мгновенными эмоциями, то в пределе остается только мудрость и никаких чувств. Также надо иметь в виду, что картинка никак не отмечает близость к субьекту других людей – на которых направлены, или от кого зависят, или кого затрагивают его действия. Очевидно, что альтруизм больше ассоциируются с личной сферой, а эгоизм – с публичной, вследствие чего вероятна асимметрия рисунка. Асимметрия также должна бы появиться в силу того, что эффект альтруистичных действий отстоит обычно дальше эгоистичных. Простите друзья, но я, как водится, предпочел эстетику истине.

– Серая область
Человек обычно ставит цели где-то впереди, иначе от них не будет никакого проку. Но ведь будущее неизвестно – как далеко можно загадывать? От ответа на этот вопрос зависит не только насколько труднодостижимые цели будут выбраны, но и даже то рациональны они окажутся или нет. Причем граница между ними видна невооруженным глазом. Если цель оказывается за пределами срока жизни – действие незаметно превращается в иррациональное. Дело только в том, что сама эта отдаленная точка не очень-то видна, и потому граница размывается уже по дороге и превращается в серую область.
Уточним, почему время жизни превращает рационального деятеля в иррационального. Личная выгода имеет смысл, если можно ей насладиться прямо сейчас. Ну или чуть позже, завтра например. Логично, следовательно, чтобы сугубо рациональные действия имели относительно короткую цель. Согласитесь, что та же самая личная выгода, лежащая за пределами собственной жизни – это уже нечто странное. Можно ли насладиться такой выгодой? А в принципе можно. Просто думать о ней – уже по-своему радость. Так, человек может упасть с крыши зная, что своей смертью он отомстит за свои земные печали. Однако планирование подобной деятельности так или иначе требует направления ресурсов на других – тех, кто будет жить потом, после смерти деятеля. Иначе – если все помрут одновременно – нет и смысла. Следовательно, деятель отнимает ресурсы у себя живого и направляет их на себя – мертвого, а вернее на остающихся живых. А это уже иррационально, потому что почти ничем не отличается от помощи другим. Вот она – серая область.
Аналогично, увеличение времени в случае иррациональных действий, приводит к проникновению в них рационального мотива. Поскольку иррациональные действия сопряжены с понятием "свой", они как бы продолжают человека вовне, но чем шире охват окружающих, одариваемых помощью, тем менее субьективны достигаемые результаты, тем более они общечеловечны. И вот тут-то в эту деятельность начинает проникать рациональность. Если жертвы во имя близких никак не способствуют личному процветанию (если конечно, мы не имеем дело с банальным расчетом), то чем шире общность – тем заметнее личная польза. Возьмем, к примеру, действия по защите национальной культуры. Занимаясь такой патриотической деятельностью, человек может на самом деле бороться и за долговременный успех своего профессионального дела, поскольку ассимиляция одной культуры другой имеет тенденцию подменять в коллективном сознании проигравших победителями – кто знает, сколько замечательных памятников культуры сгинуло под копытами завоевателей? Защита культуры остается иррациональной, жертвеннической деятельностью, однако сама идея победы своего коллектива над чужим, будь то военная, культурная или экономическая, очень даже рациональна – она гарантирует и лучшие условия для личного успеха тоже. И опять мы видим ее – серую область.
– Еще картинка

Если опять обратиться к графике и попробовать на рис. 3.1 заменить эгоизм и альтруизм на рациональность и иррациональность, то получится рис. 3.2. Тут, конечно, на первый взгляд, все еще запутаннее, но я думаю, если разобраться, станет яснее.
График показывает степень (ир)рациональности в деятельности – зависимость полезного эффекта от вкладываемых умственных усилий, и отражает тот факт, что рост времени планирования напрямую ведет к успешному результату – но только до определенного момента, после которого соответствующий мотив неизбежно теряет свою силу. Какой эффект имеется в виду? В случае рациональности – это увеличение ценности №1, а иррациональности – не ценности №2, как может показаться на первый взгляд, а №1 другого человека. Почему? Потому что увеличение №2 вообще не возможно путем какой-либо деятельности – оно идет от личных чувств, а кроме того, №2 противоположна №1. Если мы делаем что-то, материализуя №2, наша №1 при этом уменьшается или как минимум не растет, хотя должна. Люди, однако способны наращивать ценности №1 одновременно и для себя, и для другого. Т.е. на каком-то этапе цели вполне могут оказаться выгодны сразу нескольким людям. Соответственно, большая иррациональность получается там, где человек способен успешнее нарастить ценность другого. Так что можно считать, что вертикальная ось отражает намеченные приращения ценностей №1 – себя и кого-то еще.
Может показаться, тут что-то не так, потому что, чем меньше толку в иррациональном действии – тем вероятно больше там иррациональности? Например, снабжать алкоголем пьяницу, чтобы доставить тому радость – максимально иррационально, потому что это стоит денег, хотя и губит его, или делать другие рискованные подарки только из желания порадовать, не заботясь о последствиях. Но в том-то и дело, что наша иррациональность – это инверсия, а не отсутствие рациональности. Это рациональность наизнанку, рациональность направленная на другого и тем самым в ущерб себе. Это эффективность конвертирования своей №1 в чужую №1, рациональность иррациональности. Можно сказать, что наш выбор термина "иррациональность" тоже по своему иррационален.
– Зоны инстинктов и принуждения (1-2)
Посмотрим, наконец, на рисунок. Самые короткие действия (1) детерминированы и не требуют никакого особого мысленного напряжения, участие разума в них сведено к минимуму – цели предопределены, остаются только вариации в исполнении. Соответственно, ни о какой эффективности говорить не приходится. С рациональными это все и так ясно, а в иррациональной части преобладают социальные инстинкты – эмпатия, сочувствие, влюбленность. Чем инстинктивнее альтруистичные действия, тем меньше в них осмысленной иррациональности, потому что даже жертвенная мораль – это уже более продуманные действия, т.е. чем дальше горизонт планирования, тем глубже в разумную иррациональность погружается субьект, тем больше в его действиях автономного, осознанного и морального. (Например, место эмпатии заменяют верования и убеждения, а обьект от родных смещается все дальше в направлении всего человечества.)
Далее, с увеличением времени, все сильнее включается рассудок. Срочные рациональные действия (2) порождают физическое насилие, обман и прочее, что лежит на границе инстинктов выживания и рассудка уже выжившего цивилизованного человека. Чем горячее голова, тем легкомысленнее мотивы и меньше участие рассудка. Его тут еще немного, поскольку такое поведение вызывает ответное насилие и еще неизвестно чем все кончится – выгодой или потерями. Насилие может проявляться и по отношению к близким – хоть и в эмоциональной или психологической форме. Субьект может эксплуатировать родных, беззастенчиво надавливая на их теплые чувства и призывая к совести. Эгоизма тут много, а разума не очень, т.к. долго подобная эксплуатация обычно не длится и в любом случае плохо кончается.