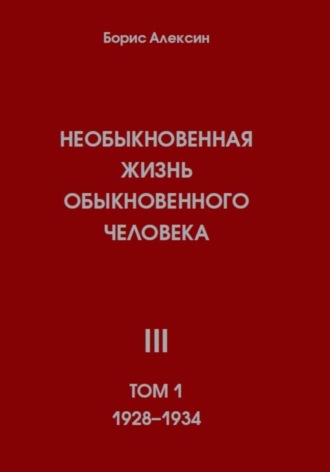
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
Конечно, наше повествование будет неправдоподобным, если мы не упомянем о большой общественной работе, в которой участвовали оба Алёшкиных. Борис был членом бюро партячейки, руководил кружком политзанятий. Тогда ещё не было единой сети партийного просвещения, программы занятий определяли каждый обком и губком самостоятельно. Алёшкин занимался с коммунистами руководящего состава. Они изучали стенограммы партийных съездов, различные произведения В. И. Ленина и книги И. В. Сталина «Вопросы ленинизма». В 1933 году вышло первое издание «Краткого курса истории ВКП(б)», но его изучение ещё не велось. И, к стыду Бориса, он, хотя и приобрёл его, но сумел прочитать всего лишь первую главу. В эту зиму ему удалось по случаю купить полностью второе издание сочинений В. И. Ленина, эти книги он добросовестно читал – не изучал, не конспектировал, а просто читал, правда, далеко не всё и не всегда ему было понятно; читал он подряд, начав с первого тома. Очень многие статьи были просто интересны, и Борис их запоминал. Конечно, он продолжал участвовать в стенгазете, активно выступать на собраниях и вести довольно большую работу как депутат Владивостокского горсовета. Единственное, от чего он совершенно отошёл, это от участия в художественной самодеятельности.
Екатерина Петровна перестала работать с пионерами, слишком ответственна и хлопотлива была её новая должность. Однако комсомольскую работу она не оставила – была членом бюро ячейки ВЛКСМ, членом редколлегии и выполняла отдельные самые разнообразные поручения, кроме того, дома она подрабатывала на пишущей машинке. Старенький «Ундервуд», привезённый Борисом из Никольск-Уссурийска, удалось сравнительно быстро отремонтировать. Обошлось это недорого, и машинка себя оправдывала. Катя по вечерам частенько выколачивала на ней настоящую барабанную дробь.
Вот так и текла, вернее, летела бешеными темпами жизнь семьи Алёшкиных. И действительно их дни были так загружены, что времени всегда не хватало, и потому они мелькали с удивительной быстротой. Вот уже Траловый трест приобрёл и отремонтировал собственное помещение – двухэтажный небольшой дом, расположенный на мысе Эгершельд, немного выше здания ДГРТ. К 1 января 1933 года управление Тралтреста переехало в него. Вот уже вернулся из командировки директор треста Новиков. Он привёз нескольких специалистов, и всё руководство треста принялось искать для них квартиры. Жилищный кризис во Владивостоке в это время был в самом разгаре. Помимо развития промышленности Дальнего Востока, а, следовательно, и притока большого количества служащих, сюда прибывало много военных.
Глава пятая
Незаметно минул 1932 год, начался 1933. Тогда ещё не вошли в моду новогодние балы и ёлки, поэтому встреча нового года у Алёшкиных проходила в кругу семьи, а из гостей присутствовал только Чёрный, не преминувший сообразить пульку, да заглянул капитан Кострубов.
В прошлой главе мы уже коснулись начала 1933 года, пойдём дальше. После возвращения Новикова в начале марта Борис Алёшкин стал собираться в Москву, заранее получив разрешение на поездку из Востокрыбы. Соответствующими отделами треста было подготовлено множество вопросов, которые ему следовало решить в Главрыбе, в различных центральных учреждениях и Наркомате. Он выезжал в середине марта. Главный бухгалтер треста с годовым отчётом за 1932 год находился в Москве ещё с февраля месяца, увязывая и согласовывая различные расхождения баланса в отделах Главрыбы. Алёшкин должен был прибыть в Москву к тому времени, когда отчёт будет рассматриваться и окончательно утверждаться на заседании балансовой комиссии Главрыбы (впрочем, эта комиссия в то время называлась как-то иначе, но сущность её деятельности была именно такой).
После долгих просьб Кате удалось уговорить своё Дальснабсбытовское начальство и получить на это время отпуск. Борис также получил разрешение на отпуск после сдачи годового отчёта. Всё это время семья Алёшкиных находилась в приятном, приподнятом настроении. Борис – потому что мечтал увидеть вновь всю дорогу, по которой ехал на Дальний Восток десять лет назад, мечтал увидеть снова Москву и, наконец, познакомиться поближе с её достопримечательностями. Рассчитывал он повидать и дядю, Дмитрия Болеславовича Пигуту, который как будто бы теперь жил в Москве, встретить кого-нибудь из своих друзей детства. Было известно, что кое-кто из них, возможно, тоже находился в Москве. Ну и, наконец, эта поездка давала ему возможность просто отдохнуть от той постоянной сутолоки и нервного напряжения, в котором его всегда держала нелёгкая работа. Катя радовалась предстоящей поездке, потому что до сих пор она с Дальнего Востока вообще никуда не выезжала, и такое длительное путешествие казалось привлекательным уже само по себе. Конечно, было очень интересно посмотреть столицу, побывать в театрах, музеях, походить по магазинам. По рассказам приезжих, в Москве открылось очень много магазинов, и продавали в них буквально всё. Уезжала Катя со спокойным сердцем: дома оставалась Акулина Григорьевна, и, следовательно, Элочка и квартира будут под должным присмотром и в должном порядке.
Когда Борис и Катя подсчитали полученные на командировку и за отпуск деньги и выделили необходимое остающимся во Владивостоке, они увидели, что в их руках имеется порядочная сумма, значительно превышающая их ожидания. Она составила что-то около шести тысяч рублей. Это позволяло им и в дороге, и в Москве не стесняться в расходах, и не только жить всё это время достаточно обеспеченно, но и приобрести много разных вещей. Ну вот, билеты куплены, Борис Яковлевич и Екатерина Петровна, распростившись со своими и взяв небольшой чемодан, одолженный у соседей, один на двоих, отправились на вокзал. Ехали они в мягком вагоне поезда, причём, если Борис, по своему служебному билету ездил в таких вагонах и раньше, то Катя очутилась здесь впервые. В четырёхместном купе они заняли две полки – верхнюю и нижнюю, но уже через сутки оба переселились наверх. Соседями их оказались два старичка – муж и жена, переезжавшие куда-то в центр на постоянное место жительства к находившимся там детям. Они ехали до самой Москвы, где им предстояла пересадка. Вполне понятно, что Алёшкины, уважая пожилой возраст соседей, уступили им оба нижних места.
Мы уже говорили, что почтовый поезд в то время из Владивостока в Москву шёл около 12 дней, ну а этот, на котором ехали Алёшкины, был курьерским поездом № 1, и он мчался с большей скоростью, в среднем, 60 километров в час, прибывая в столицу к концу девятых суток. Однако длинная дорога ни Борису, ни Кате не показалась скучной. За пять лет совместной жизни они, наконец-то, остались по-настоящему вдвоём, свободными от всяких дел и забот. До этого ни он, ни она в отпуске не были ни разу, а тут супруги могли часами смотреть в окно на удивительные красоты Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, или валяться на мягком пружинном диване вагона, читать одну из взятых с собою книг и, наконец, в дальнейшем (а это началось на второй день после выезда из Владивостока, когда соседи по купе познакомились друг с другом) целыми днями, а иногда и ночами, играть в преферанс.
Соседи-старички оказались заядлыми преферансистами, и хотя Борис и Катя по сравнению со своими партнёрами были слабыми игроками, они могли играть чуть ли не целыми сутками. Старичкам доставляло большое удовольствие учить тонкостям этой занимательной игры своих молодых попутчиков, что они и делали. Молодёжь с интересом открывала всё новые возможности преферанса, и их купе было, пожалуй, самым дружным и весёлым, если не во всём поезде, то уж во всяком случае, в мягком вагоне. Питались они в вагоне-ресторане, где пища оказалась вкусной и, по сравнению с владивостокскими ценами, недорогой. Иногда их обед сопровождался парой бутылок пива, покупавшимися кем-либо из проигравших. Как правило, чаще всего это приходилось делать Борису, как самому несдержанному и чаще других проигрывавшему. Одним словом, путешествие протекало замечательно.
За время путешествия попутчики уже довольно близко знали друг друга, и старики, очевидно, из каких-то «бывших», бежавшие в своё время от большевиков на Дальний Восток и теперь с некоторой тревогой возвращавшиеся в родные места, где оставались их дети – сын-врач и дочь, служащая какого-то советского учреждения с трудновыговариваемым названием, были немало удивлены, что их милые, а по выражению старушки, просто очаровательные попутчики, вот эти самые большевики и есть: он – настоящий, а она –комсомолка. После того как они это узнали, а это случилось уже где-то под Москвой, старички как-то сникли, перестали шутить и с некоторой тревогой посматривали на спины ничего не подозревавших Бориса и Кати, стоявших у окна и любовавшихся весенним видом подмосковных мест. Для Кати эта природа была вообще в диковинку, причём она находила, что здешние леса какие-то мелкие, причёсанные, не идущие ни в какое сравнение с той замечательной дальневосточной тайгой, в которой прошло её сознательное детство и юность.
Заметив некоторую скованность своих спутников, молодые люди вначале подумали, что чем-нибудь обидели старичков, затем приписали их состояние беспокойству о предстоящей пересадке и новой поездке и принялись их всячески развлекать и утешать. Те постепенно оттаяли и, решив, что, наверно, и среди большевиков бывают исключения, в конце концов стали обращаться с попутчиками по-старому и даже открыли им причину своего подавленного настроения: они спохватились, что так свободно и много обсуждали вслух недостатки, замеченные ими во Владивостоке и в пути. Алёшкины дружно рассмеялись и поспешили успокоить своих попутчиков.
В Москве, встретившей Бориса и Катю грохотом ломовых телег, звоном трамваев, гудками довольно многочисленных автомашин, криками продавцов мороженым и других товаров и шумом обычной привокзальной толпы, они несколько растерялись. Владивосток был большим городом, но ни по шуму, ни по сутолоке спешащих в разные стороны людей, он никак не мог сравниться с Москвой. Постояв несколько минут на Каланчёвской, теперь уже переименованной в Комсомольскую площадь, они втиснулись в трамвай и поехали по направлению к Садовой-Триумфальной (тогда ещё по Садовому ходили трамваи).
Алёшкины, конечно, могли остановиться в гостинице, но, во-первых, это было бы дорого, а во-вторых, трудно. Со слов приезжавших из Москвы они знали, что получить номер в гостинице почти невозможно. Ещё во Владивостоке один из сослуживцев Бориса, инженер-экономист Цикин, поступивший на работу в плановый отдел треста, дал адрес своей одинокой матери. Он передал для неё маленькую посылочку и письмо, в котором просил маму приютить на время наших путешественников. Жила Цикина где-то на Садовой-Триумфальной, вблизи площади, вскоре названной именем Маяковского. Подъехав на трамвае «Б» к указанному району, Борис и Катя вышли и в недоумении остановились. По рассказам Цикина, его мать жила в высоком кирпичном доме на четвёртом этаже, а тут стояли старенькие, деревянные, почерневшие от времени двухэтажные развалюшки. Хотя номер дома совпадал с тем, который был написан на конверте имевшегося у них письма, этот дом никак не походил на описанный сослуживцем. Увидев выходившую из ворот этого дома женщину, Борис подошёл к ней и спросил её о правильности адреса. Взяв конверт, прочитав адрес и видя растерянное лицо, очевидно, приезжего молодого человека, женщина улыбнулась и сказала:
– Не удивляйтесь, всё правильно. Дом, который вы ищете, действительно здесь, во дворе. По Садовому кольцу почти все дома так построены, и дальше так же строят. Новые большие кирпичные строят во дворах, а мы пока живём в старых деревянных, которые выходят на улицу. Ну а когда те дома достроят, наши снесут, и улица сразу станет широкой и красивой. Жаль только, если при этом и сады вокруг наших домов тоже вырубят. Ну, да это ещё дело будущего. Проходите во двор, там увидите ваш дом, в первый подъезд и заходите. Квартира ваша на четвёртом этаже. Идите, милые, идите, – закончила женщина и, повернувшись, направилась вниз по Садовому кольцу в сторону от площади.
Борис и Катя вошли во двор и шагах в тридцати от ворот увидели высокий новый кирпичный дом. Тогда же они заметили, что он не одинок: в ряд с ним возвышалось ещё несколько домов, некоторые из них в строительных лесах. Они удивились, что не заметили этих домов раньше. Но, как потом оказалось, с узенького тротуара возле деревянных домиков, стоявших за ними, их действительно не было видно.
Через полчаса Борис и Катя сидели в крошечной, плотно заставленной мебелью, видно, перевезённой из квартиры значительно большего размера, комнатке и рассказывали маленькой седенькой старушке Цикиной о жизни и работе её сына на Дальнем Востоке. Не представляя себе этот край, она полагала, что сын живёт чуть ли не в лесу, спит чуть ли не на сырой земле и вообще находится в ужасных условиях. Письмам его она не верила, поэтому со вниманием слушала рассказы живых людей, совсем недавно видевших её сына и подтвердивших ей не только словами, но и всем своим видом и поведением, что жизнь во Владивостоке такая же, как и в Москве, и что единственное, чего там, пожалуй, меньше, так это фруктов и овощей. Подтвердилось это тем, что на следующий же день Борис, пойдя в магазин, приволок целую кучу банок самых разнообразных овощных консервов, компотов и варенья, купленных на Тверской (тогда ещё не переименованной в улицу Горького). А его жена, сопровождая хозяйку на Тишинский рынок, буквально набросилась на всякие соленья и свежие яблоки, продававшиеся, как говорила Цикина, по бешеным ценам.
Несколько первых дней командировки для Бориса Алёшкина прошли как в чаду: заседания в Главрыбе на балансовой комиссии, подготовка всякого рода дополнительных объяснений по многочисленным вопросам, возникавшим в ходе рассмотрения отчёта треста и, наконец, как заключительный аккорд этой эпопеи, приём у наркома торговли А. И. Микояна. Хотя длился он всего10–15 минут, но на Бориса произвёл большое впечатление и запомнился на всю жизнь. Нарком принимал целую группу представителей рыбопромышленных организаций, прибывших с разных концов страны с годовыми отчётами. Председатель Главрыбы в несколько минут представил наркому прибывших работников трестов, изложил положение с добычей рыбы в прошлом году и основные контрольные цифры на 1933 год. Нарком задал ряд вопросов представителям, в частности он обратился и к Алёшкину:
– Дальневосточный Траловый трест в 1932 году работал плохо. Мы даём скидку на организационный период, но в этом году будем спрашивать со всей строгостью, – сказал Анастас Иванович своим гортанным голосом с очень заметным и таким непривычным для Бориса кавказским акцентом.
Затем, взглянув на Бориса и слегка улыбнувшись, видимо, тому, что перед ним в качестве представителя солидного союзного учреждения находился растерявшийся и покрасневший до ушей, совсем ещё молодой человек, чуть ли не юноша, добавил:
– Даже несмотря на вашу молодость!
Тут же Микоян подписал ряд документов – просьб в различные наркоматы об оказании определённой помощи рыбопромышленным организациям. Письма эти готовились в Главрыбе с участием представителей с мест; было несколько писем, имевших отношение и к Дальневосточному Траловому тресту: одно в Наркомат тяжёлой промышленности с просьбой о срочной отгрузке на Дальний Восток для нужд тралового флота стальных тросов различной толщины, другое в Главуголь с просьбой о первоочередном снабжении углём тралового флота, третье в ЦК ВЛКСМ, с просьбой помочь вербовщикам треста, работавшим в центральных губерниях и областях РСФСР, в части вербовки комсомольцев для службы на траловом флоте Дальнего Востока. Все эти письма Борис Яковлевич лично развёз по соответствующим адресам, добился приёма у нужных руководителей и получил от них заверения в том, что просьбы треста, поддержанные Микояном, будут выполнены.
Собственно, этими делами и заканчивалась командировочная миссия Алёшкина, они отняли около недели. Проводив во Владивосток главного бухгалтера треста и добившись авансовых ассигнований от Главрыбы на весеннюю путину 1933 года, Борис вступил, так сказать, в отпускной период. Первое, что он решил сделать – это отыскать дядю Митю, то есть Дмитрия Болеславовича Пигуту. Ещё в 1931 году Алёшкины получили письмо от младшей сестры Бориса, Нины. В нём она сообщала, что её бабушка А. П. Смирнова, у которой она воспитывалась в Костроме, умерла, сама Нина окончила среднюю школу и собиралась поступать в медицинский институт. По-видимому, она будет учиться в Москве, и если не удастся получить место в общежитии, то поживёт у дяди Мити, который, якобы, перебрался в столицу и теперь жил там. Борис ответил на это письмо, дал свой владивостокский адрес. В ответном письме он сожалел, что не может взять Нину к себе, так как во Владивостоке нет мединститута. Вскоре пришло письмо и от дяди Мити, он писал, что вопрос с Нининой учёбой решён. В 1932 году она будет сдавать экзамены в Первый Московский мединститут и, если поступит, будет там учиться. Первое время она поживёт у него, а затем, если не получится с общежитием, то снимет у кого-нибудь угол. В своём письме Дмитрий Болеславович, по старой привычке в переписке с родными, так, по крайней мере, подумал Борис, сообщал не домашний, а служебный адрес. Это была какая-то санитарно-эпидемическая лаборатория Водздравотдела, размещавшаяся где-то в Нижних Котлах.
Освободившись от своих дел, Борис вместе с Катей принялись за поиски дяди. Помимо желания увидеться с родными, им было необходимо переменить и место жительства. Хотя старушка Цикина была по-прежнему любезна и гостеприимна, но стало совершенно очевидно, что пребывание в крошечной комнатке двух посторонних людей её крайне стесняло. Поэтому в первый же свободный день Борис и Катя отправились в Нижние Котлы, чтобы разыскать место работы Дмитрия Болеславовича Пигуты. Проехав довольно долго на трамвае, а затем пройдя около двух километров пешком, они, наконец, нашли эту лабораторию. Она располагалась в каком-то полуразвалившемся деревянном бараке, окружённом целой кучей таких же непрезентабельных зданий. Улица была настолько грязна (а ведь дело было весной), что ступить на неё с проложенных вдоль заборов и домов узеньких деревянных мостков, долженствующих изображать из себя тротуары, было просто невозможно.
Нельзя сказать, чтобы нахождение дядиного учреждения в таком месте обрадовало Алёшкиных. Они подумали, что если дядя Митя работает в таком невзрачном месте, то живёт, наверно, ещё в худших условиях, и вряд ли у него можно будет остановиться. Тем не менее, они решили идти до конца. Отыскать лабораторию было нелегко, но оказалось, что и найдя её, Борис в поисках своего дяди не продвинулся ни на шаг. После длительных расспросов нескольких девушек из этой лаборатории, одна из них вспомнила, что действительно в прошлом году у них работал чудной старый доктор, ходивший на работу в болотных сапогах с собакой. Она же подтвердила, что его фамилия была Пигута. Девушка сообщила и то, что тот доктор поссорился с начальством и уволился, а где он сейчас работает и тем более живёт, никто не знает. Она предложила подождать заведующего лабораторией, который обещал к обеду вернуться (он выехал на какую-то пристань на Москве-реке). Это предложение ни Бориса, ни тем более Катю, сидевшую, как на иголках, под любопытными и насмешливыми взглядами окружавших их девушек, никак не устраивало. Дело в том, что помимо всего прочего, оба они были одеты совсем не по-московски. На Борисе был купленный в их распределителе хороший дублёный полушубок, но он был хорош там, на тральщиках, в бухте Диомид и даже во Владивостоке зимой, а сейчас в Москве, да ещё в конце марта, когда уже совсем тепло, человек в таком полушубке выглядел довольно смешно. Катино зимнее пальто тоже бросалось в глаза: оно было изрядно потрёпанным, старым, длинным-предлинным.
Сославшись на занятость, они поспешили ретироваться. Возвращались домой, то есть к Цикиной, они в скверном настроении. Вместо приятного путешествия по Москве 15 дней отпуска им предстояло потратить на поиски жилья – это во-первых, а во-вторых, самим искать все магазины, музеи и театры, что было уже и в то время сделать непросто. Когда они рассказали о своей неудаче Цикиной, та посоветовала прибегнуть к услугам Мосгорсправки, благо киоск «Справка» находился прямо против ворот их дома. Конечно, Алёшкины не замедлили воспользоваться этим советом, хотя Борис и очень мало верил в успех. Однако, служащая «Справки», расспросив обратившегося гражданина о примерном возрасте его дяди, имени, отчестве и фамилии, профессии и приблизительном времени приезда его в Москву, сказала:
– Погуляйте где-нибудь с часок, потом подойдите, я думаю, что мы найдём вашего дядю.
Напротив квартиры Цикиных был сад «Аквариум», в нём помещался «Мюзик-холл», а рядом, в небольшом здании, маленький кинотеатр, Борис и Катя двинулись туда. Шла какая-то заграничная драма со скачками на лошадях, стрельбой и бешеной ездой на автомобиле. Но оба они были так поглощены ожиданием ответа «Справки», что так и не поняли, и не запомнили, что это была за кинокартина. Выбравшись вместе с толпой зрителей на улицу, они быстро пересекли её, и Борис заглянул в окошечко киоска. Сидевшая там женщина узнала его и, улыбнувшись, сказала:
– Ну вот, а вы волновались! Получайте адрес вашего дяди, я тут написала, как к нему проехать. С вас 1 рубль 20 копеек.
Борис схватил протянутую ему бумажку, торопливо отдал деньги и побежал к Кате, которая уже стояла в очереди у находившегося невдалеке ларька, где только что начали продавать апельсины. Подбежав к Кате, Борис почти закричал:
– Вот адрес дяди Мити, едем скорей, брось ты эту очередь!
На что хладнокровная и всегда более сообразительная Катя ответила:
– Не кричи и не торопись, с пустыми руками ехать нельзя. Вот хоть апельсинов привезём. Сейчас моя очередь подойдёт.
Через час Борис Алёшкин и его жена, спрашивая встречных и поперечных, нашли-таки 3-ю Песчаную улицу и приблизились к дому № 21, где, по утверждению справочной службы, в квартире № 7 должен был жить Д. Б. Пигута. Можно было сразу заметить, что это район стройки: тут и там виднелись срубы и остовы неоконченных домов. Впрочем, некоторые, в том числе и дом № 21, уже казались совершенно готовыми, во всяком случае, они уже были под крышей, а заходящее мартовское солнце играло в стёклах новеньких окон. Из труб некоторых домов курился голубой дымок. Улица была красивой. То тут, то там росли огромные сосны, оставленные строителями для красоты, а в конце улицы виднелась даже целая сосновая роща. Правда, ни тротуаров, ни мостовой не было, да они, впрочем, были и не очень нужны. Улица недаром называлась Песчаной – почва состояла из сплошного песка, и там, где снег уже стаял, было сухо. Почти все здания были двухэтажные, они состояли из нескольких квартир.
Дом, к которому подошли Алёшкины, уже имел забор и ворота, а в глубине двора стоял длинный новенький сарай, разбитый на несколько отделений, предназначенных для каждой квартиры. Квартира № 7 находилась на втором этаже. Поднимаясь по новой, деревянной, поскрипывающей лестнице, которая одним длинным маршем проходила в специальной тесовой пристройке, служившей одновременно и сенями всем четырём квартирам дома, Борис вспомнил точно такую же лестницу в доме дяди Мити в Кинешме. Выйдя на площадку второго этажа и выглянув в большое стеклянное окно, он заметил, что и ближайшие окрестности похожи на тихую отдалённую 2-ую Напольную улицу города Кинешмы.
Из стены дома, рубленого из довольно толстых брёвен, ещё не обшитых тёсом, в сени выходили две одностворчатые добротные двери, сделанные из толстых досок, пока не окрашенные и ничем не обитые. На дверях были намалёваны чёрной краской, а может быть, просто углём, крупные цифры «7» и «8». В каждой из дверей имелся внутренний замок, и, кроме того, приделаны петли для висячего замка. На квартире № 8 замок висел, квартира № 7 была не заперта. Борис дёрнул за ручку двери, но она не поддалась. В ответ на осторожный стук изнутри раздался хриплый, как будто простуженный басовитый лай, а вслед за ним юношеский, ломающийся голос:
– Тубо, Рекс! Кто там?
Борис ответил:
– Откройте, пожалуйста, тут свои.
Дверь приоткрылась, и из образовавшейся щели выглянула мальчишечья голова. Хотя выглянувший парень был в возрасте 15–16 лет, Борис сразу его узнал, это был Костя. Однако тот узнал Бориса ещё быстрее. Он широко распахнул дверь, бросился к приезжему и обнял его за шею:
– Ой, кто приехал-то! Борис! Боря, здравствуй. Вот здорово-то!
Затем, заметив Катю, он отпрянул, и, видимо, смутившись своего порыва, быстро юркнул обратно в дом, однако продолжал кричать:
– Боря приехал! Боря приехал!
Его крики разносились по квартире так, как будто он кричал в каком-то большом зале. Борис и Катя стояли в нерешительности: первый потому, что он помнил, как нелестно отозвался об Анне Николаевне в своём письме, написанном десять лет тому назад из Шкотова, и теперь резонно опасаясь встречи с ней, а вторая просто потому, что подобное поведение хозяина, так необычно встречавшего гостей-родственников, ей было непонятно.
Прошло несколько секунд, пока они стояли около полуоткрытой двери, не решаясь переступить порог, как вдруг показалась низенькая, довольно некрасивая девушка, одетая в какое-то поношенное, с чужого плеча, старомодное платье. Борис и Катя сразу узнали сестру Нину Смирнову, она присылала им карточку, сделанную в 1931 году. В свою очередь и Нина, имевшая фотографию Бориса, снятого ещё в красноармейской форме, его тоже узнала. Ну, а о том, кто такая стоявшая рядом с ним молоденькая женщина, она, конечно, тут же догадалась. Нина знала, что её брат женат. Она схватила обоих гостей за руки и потянула их внутрь помещения.
– А ведь я думала, что это Костька меня разыгрывает! Заходите, раздевайтесь, здравствуйте!
Она чмокнула Бориса в щёку, и, стаскивая с Кати её длинное зимнее пальто, попутно обнимала её и говорила:
– Какая же ты красивая, Катя! И как только ты согласилась выйти замуж за такого длинноносого, как мой братец? Да тише ты, Рекс! Костя, уйми ты, наконец, этого пса!
Всё это она говорила быстро, торопясь и одновременно целуя Катю, говорила, явно волнуясь, и как бы на одном дыхании. Наконец, Алёшкины разделись, повесив свою одежду на гвозди, вбитые недалеко от двери. Костя тем временем уложил на место старого большого рыжего мохнатого сеттера, который, видя радость хозяев, тоже проявлял её, повизгивая и стуча своим хвостом по подстилке, где он, наконец-таки улёгся.
Борис и Катя осмотрелись. Помещение, где они очутились, представляло собой почти квадратную, очень большую комнату, в центре которой стояла печь с плитой. В некоторых местах к стенам комнаты были прислонены какие-то строительные детали, а в трёх углах её, видимо, жили хозяева квартиры. Один из углов, отгороженный ситцевой занавеской, за которой стояла колченогая железная кровать, очевидно, был женским – там жила Нина. В противоположном углу стояла солдатская кровать, около которой находился опрокинутый деревянный ящик. На нём в живописном беспорядке были разбросаны самые разнообразные предметы мальчишеского быта – книги, учебники, старый брезентовый портфель, коньки, какие-то железки и деревяшки. Было понятно, что этот угол принадлежит Косте. И, наконец, третий угол был занят хорошо знакомым Борису старым письменным столом, видимо, привезённым из Кинешмы. На нём громоздились книги, газеты, журналы и рукописи, закрывая чуть ли не половину большого окна, около которого он стоял. В стене рядом с этим столом находилось ещё два окна, а в той, которая сходилась с первым углом и выходила на улицу, была большая стеклянная дверь, ведущая на ещё не достроенную веранду. Окно на улицу имелось и около Костиного угла, в других стенах окон не было. В доме насчитывалось восемь квартир, двери каждой из них выходили на двор. Около печки стоял большой простой, так называемый кухонный стол, служивший, помимо обеденного, и столом для занятий обоих молодых людей. На стене висел простенький шкафчик, в котором стояло несколько выщербленных тарелок, эмалированных кружек, два стакана и знаменитая бабусина, как вспомнил Борис, кружка. Это была большая старинная, очень тонкого фарфора светло-коричневая кружка, с полустёршимся, видимо, когда-то очень красивым рисунком. Она досталась бабусе от её матери, и та её очень любила. Как вспомнил Борис, это была единственная вещь, кроме нескольких книг, писем и бумаг, которую взял себе после смерти матери Дмитрий Болеславович, оставив всё остальное сестре Елене.
Сиденьями в этом, напомнившем Борису лесное зимовье, жилище, служили несколько старых табуреток и опрокинутые ящики. Обстановка, по сравнению с мебелью, которой была заставлена комнатка Цикиной, выглядела прямо-таки по-спартански. Борис взглянул на Катю, но та уже, видимо, ничего не замечала: захваченная своей новой младшей родственницей, она была ошеломлена. Катя, вообще по натуре сдержанная, как и вся их семья, привыкшая к суровому, можно сказать, немного строгому обращению, занятая тяжёлой физической работой, как-то не была склонна к проявлениям особой нежности, а всякие поцелуи и объятия – всё это считала уделом маленьких, с которыми было можно. Для подростков и тем более взрослых такие нежности в её представлении выглядели даже как будто чем-то неприличным. А тут Нина, без конца прерывая свои расспросы и рассказы поцелуями, просто огорошила Катю.
Между тем Костя успел рассказать Борису, что Дмитрий Болеславович вступил в специальный кооператив, который строит эти дома. Постройка ещё не завершена, и поэтому они пока приехали вдвоём, а Анна Николаевна продолжает жить и работать в Кинешме. Она переедет сюда только тогда, когда всё будет закончено. Это случится, наверно, в будущем году. Затем Борис и Катя узнали, что дядя Митя работает в новой лаборатории на Сельхозвыставке, которая строится где-то на окраине Москвы. Домой он поэтому приезжает очень поздно, так как после работы ещё бегает по магазинам, покупая еду. Всё, что положено по карточкам, Костя и Нина приносят из лавки неподалёку. Нина учится в Первом Московском мединституте на первом курсе, заканчивает его, а Костя – в седьмом классе.
Тем временем девушки занялись хозяйством – разожгли примус, поставили на него чайник и стали готовить ужин, который хозяевам показался шикарным, так как к имевшейся у них картошке добавились продукты, принесённые Алёшкиными. На конечной остановке трамвая у Всехсвятского они купили в коммерческом ларьке колбасу, сыр и торт, кроме этого на ужин были и апельсины.







