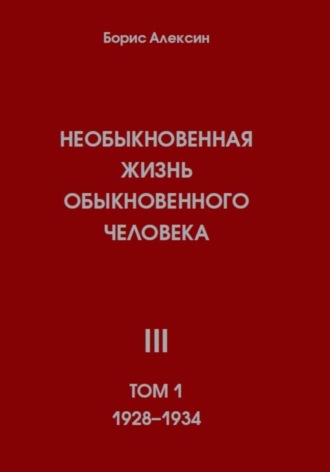
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
Вернувшийся в казарму Паршин, заметив, что около поста дежурного никого нет, и не зная о том, что дежурный сопровождает командарма, занял пост, и когда в казарму вошёл командир роты, в этот день в ней ещё не бывавший, обрадовался случаю и, подав соответствующую команду счастливым голосом, чётко отрапортовал Константинову о том, что в роте никаких происшествий не случилось. Константинов, зная, что в роте находится Блюхер, посмотрел на Паршина звериными глазами, сквозь зубы произнёс «вольно» и чуть ли не бегом бросился в классы. Навстречу ему мчался разъярённый старшина, а вслед звенел отчаянный голос Паршина, вопившего «вольно».
Когда командир роты вошёл в ленинскую комнату, где после этой команды Блюхер продолжил беседу с курсантами и командирами, и представился командарму, тот спросил:
– Какой начальник прибыл в расположение роты?
Краснея и запинаясь, Константинов ответил:
– Товарищ командарм, это был я…
Блюхер весело расхохотался, а перед уходом шутливо спросил:
– А ну-ка, покажите мне того молодца, который перед своим командиром роты командарма по стойке смирно поставил!
Понятно, что стоявший перед ним Паршин был готов провалиться сквозь землю. Но именно потому, что командарм отнёсся к этому происшествию шутливо, оно прошло для Паршина сравнительно безболезненно. Он отделался словесным внушением старшины и, конечно, довольно длительными насмешками курсантов.
Мы не упомянули ещё об одном занятии, которое в последнее время всё чаще и чаще донимало бойцов, это тревоги. Началось всё, конечно, со старшины. В один «прекрасный» вечер, когда только что прозвучал сигнал отбоя, и некоторые замешкавшиеся курсанты даже не успели полностью раздеться, к дежурному подошёл старшина, что-то шепнул ему, и, вдруг тот поднял истошный крик:
– В ружьё! Тревога! Становись в две шеренги в казарме!
Что тут началось!.. Подъём совершился быстро, так как большинство ещё не спало. Все взволновались и испугались. Эта первая тревога проводилась ещё до окончания конфликта на КВЖД. Многие подумали, что вот сейчас их пошлют в бой, но они уже успели понять, насколько они ещё не обучены, и потому о боевых действиях невольно думали со страхом.
Наконец, все оделись, взяли винтовки, противогазы и построились в середине казармы. Подошёл старшина, как всегда с большими карманными наградными часами в руках и начал:
– Эт-то що же такое? А? Эт-то хто же так-то по тревоге подыматься будет? Это же позор на усю дивизию! Восемь минут копались! Да вы, товарищи курсанты, хто? Красноармейцы, будущие командиры или барышни, хоторые у тиатр собираются? Нет, товарищи курсанты, эти антилигентские привычки придётся отставить! Будем тренироваться! Р-а-а-а-зойдись! Ложись спать!
Все, немного смущённые только что испытанным волнением и переживаниями, поставили на место винтовки и всё остальное, повесили шинели и понуро побрели к своим койкам. Но, оказывается, тревожная тренировка только начиналась. Едва все успели раздеться и лечь в постель, причём некоторых сразу начал охватывать сон, прозвучала новая команда старшины:
– Внимание! Одевайсь!
Все, конечно, бросились одеваться, а в это время раздалась новая команда:
– Всем одетым оставаться у своих коек, командирам отделений проверить правильность одевания, имеющих нарушения записать!
Как оказалось, эта команда была не напрасной: более десятка курсантов торопясь одеться, ведь посреди казармы стоял старшина с часами в руках, сунули ноги в сапоги без портянок, не застегнули брюки, гимнастёрки и т. п. Всем им в будущем пришлось нести дополнительные наряды. В числе таких был, конечно, Яшка Штоффер и ещё несколько человек, в том числе и Павлин Колбин – он спрятал портянки под подушку и сунул в сапоги босые ноги. Когда командиры отделений после проверки и исправления всех недочётов доложили старшине о готовности их отделений, вновь раздалась команда:
– Раздевайсь! Ложись спать!
В эту ночь старшина таким образом одевал и раздевал курсантов раза четыре, чем, кажется, довёл их до такого состояния, что они были готовы его растерзать. Лишь последний раз скорость и качество одевания его удовлетворили. Он уже более добродушно сказал:
– Ну, кажись, немного натренировались: за 45 секунд оделись, а нужно за 30, учтите!
После этого ещё не раз старшина устраивал репетиции с одеванием и раздеванием, а когда добился-таки скорости в 30 секунд, добавил к этому надевание шинели, взятие противогазов, лопаток, вещевых мешков и винтовок. Недели через две к этому добавился выход на улицу и построение на плацу.
Как ни кляли курсанты старшину в душе и вслух в своём «солдатском клубе», а эти многократные тренировки пошли на пользу. Они, конечно, были не прихотью старшины, как многие, не подумав, говорили, а запланированным обучением. Одна из последних таких тревог, проведённая часа в два ночи, закончилась тем, что на плацу, куда выбежали и торопливо построились курсанты, их ожидали командиры взводов, политрук и командир роты. Когда старшина после обычных команд «равняйсь», «смирно» подбежал к командиру роты и доложил ему о полной боевой готовности подразделения, тот взглянул на часы, улыбнулся и, выйдя на середину между вытянувшихся и замерших по команде курсантов, сказал:
– По тревоге вышли из казармы за полторы минуты! От лица службы объявляю роте благодарность.
Надо было присутствовать при этом, чтобы увидеть и понять, с какой неподдельной радостью и гордостью сотня молодых ребят, уже наученная отвечать на всякие приветствия, согласованно и дружно гаркнула:
– Служим трудовому народу!
После этого Константинов сам скомандовал «вольно» и громко сказал старшине:
– Хорошо постарались, товарищ Белобородько, отведите роту в казарму. Завтра подъём в восемь часов.
Долго ещё после этой тревоги курсанты перешёптывались, лёжа в постелях, и на все лады хвалили своего настырного старшину.
Тревога, о которой мы только что рассказали, происходила уже после возвращения части полка, находившейся в боях на границе. В марте 1930 года, когда снег кое-где начал подтаивать и образовывать большие лужи, за ночь покрывавшиеся довольно прочным ледком, произошла общая полковая тревога, причём на этот раз она проходила по всем боевым правилам. Заранее о ней не знали не только курсанты-красноармейцы, но даже все средние командиры до командира роты включительно.
Как и в предыдущие разы, подъём по тревоге происходил почти в полной темноте, горела только одна маленькая лампочка на столе у дежурного. Дежурные всех рот были связаны телефоном со штабом полка, сигнал тревоги передавался специальным звонком, и дежурный без какой-либо команды обязан был немедленно поднять всех людей по тревоге. Средние командиры жили в специальном городке, расположенном несколько в стороне от казарм, около штаба дивизии. К каждому командиру был прикреплён связной, который по тревоге должен был одеться быстрее всех, добежать до квартиры командира, разбудить его, вернуться и встать в строй. Естественно, что на роль связных старшина назначал тех, кто занимал первые места в соревнованиях по сбору по тревоге. Среди таких оказался и Алёшкин, он был назначен связным к командиру взвода Новикову.
В эту тревогу, одевшись, Борис чуть ли не первым выскочил из казармы и помчался к дому, где жил комвзвода. Рядом с ним, впереди и сзади бежали связные других рот и взводов. Достаточно было лёгкого стука в окно, чтобы разбудить Новикова. Увидев освещённое луной лицо Алёшкина, Новиков махнул ему рукой, и Борис помчался обратно. Он успел приблизиться к строящейся роте в тот момент, когда из казармы выбегал последний курсант. А почти следом за ним прибежал и командир взвода Новиков, он выглядел так, как будто бы и не ложился спать. Осмотрев бойцов своего взвода, он подошёл к появившемуся на плацу командиру роты и что-то тихо доложил ему. Почти сейчас же к Константинову вышли с докладом командиры второго и третьего взводов, после чего тот подбежал к командиру полка Родионову, стоявшему посреди плаца.
Потом оказалось, что рота одногодичников на этой первой полковой тревоге по скорости явки оказалась второй: первое место заняла полковая школа. Но это случилось только единственный раз, во всех последующих полковых и дивизионных тревогах, а они происходили довольно часто, первая рота 5-го Амурского полка всегда занимала первое место. В этот раз после сбора по тревоге командир полка заставил несколько раз промаршировать полк вокруг плаца.
В дальнейшем были и такие тревоги, когда полк и даже дивизия целиком совершали трёх-пяти, а затем и 10-километровые марши, осуществляли погрузку и выгрузку в вагоны, направлялись на стрельбище, где проводили стрельбу и т. п.
Глава третья
Надо сказать, что дивизия, её части и штаб возвращались в Благовещенск с границы не все сразу. Первым прибыл политотдел дивизии во главе с комиссаром Щёлоковым. Ознакомившись с находившимся в казармах пополнением и проведя дивизионное партийное собрание, он подробно рассказал на нём о событиях на КВЖД и о той роли, которую в этих событиях сыграла 2-я Приамурская дивизия, удостоенная второго ордена Красного Знамени.
Щёлоков занялся и самодеятельностью. Посмотрев номера, которые готовили в обоих полках, он остался ими недоволен и предложил создать одну эстрадную группу из обоих полков (пятого и шестого) с тем, чтобы она выступала с действительно интересными, злободневными постановками типа «Синей блузы». Руководителем он рекомендовал курсанта-одногодичника из шестого стрелкового полка, некоего Сафронова, который до армии служил артистом какого-то московского театра. Предложил Сафронову самому подобрать необходимый коллектив из числа курсантов-одногодичников обоих полков. Нечего и говорить, что в числе желающих были такие старые синеблузники, как Борис Алёшкин, Павлин Колбин и Николай Першин. Яков Штоффер стал штатным художником и декоратором, музыкантом назначили курсанта шестого полка, учившегося до призыва в консерватории и игравшего на рояле. Он мог моментально, по одному намёку мелодии подобрать не только весь мотив, но и аранжировать его, сопроводив аккомпанементом любой сложности. К сожалению, неизвестна его фамилия – в воспоминаниях Бориса, которыми мы пользуемся, она не сохранилась. Предположительно, его звали Рязанов, в дальнейшем мы так и условимся его называть.
В пятом Амурском полку Колбин, до призыва работавший в газете «Красное знамя», отличался удивительной бойкостью пера, он был в состоянии моментально по любому поводу сложить весьма складные и содержательные стихи. Кроме того, он умел отлично компоновать, вставляя в свои сочинения отрывки из произведений известных авторов. Наличие этих сил позволило вновь созданной труппе уже к 21 января, к шестой годовщине смерти В. И. Ленина, подготовить хорошую программу, состоявшую из большой оратории, красочно оформленной, включавшей в себя отрывки стихотворений всех известных авторов, писавших на смерть Ильича: Маяковского, Бедного, Жарова, Безымянского и других, и, наконец, самого автора композиции. Часть этих отрывков выполнялась в виде хоровых или сольных песен, часть – в виде декламаций, тоже коллективных или сольных. Всё действие сопровождалось музыкой – аккомпанементом на рояле. Для этой постановки Сафронов сумел взять напрокат из благовещенского театра необходимые костюмы. Кроме того, он получил разрешение от командования привлечь к постановке, организуемой «Красноармейской эстрадой», как вначале называлась эта самодеятельность, несколько девушек из медицинского техникума г. Благовещенска.
Девушки лет 16–18 были отобраны Сафроновым из числа лучших, отличались довольно незаурядными артистическими способностями, имели слух и недурные голоса, репетировали с большой охотой. Все они участвовали и в различных акробатических номерах, которыми Сафронов считал необходимым разнообразить каждую программу.
Основной состав этой труппы состоял из 20 человек, в том числе восьми девушек. В это число, конечно, не входил музыкант, художник, автор интермедий и композиций и сам Сафронов. В их репертуаре, кроме самостоятельных сочинений, были также различные сценки и скетчи, публиковавшиеся в только что начавшем выходить московском журнале «Красноармейская эстрада», получаемом политотделом дивизии.
Понятно, что комиссар Щёлоков внимательно следил за своим детищем – первым эстрадным красноармейским коллективом не только в дивизии, но и во всей ОКДВА. По его совету было придумано и название эстрадной группы: с февраля 1930 года она стала называться «Весёлый дальневосточник».
Первое представление, состоявшееся, как мы уже говорили, 21 января 1930 года, посвящённое целиком В. И. Ленину, своей необычностью и незаурядным исполнением номеров так понравилось, что после того, как его посмотрели все части дивизии, находившиеся в Благовещенске, было решено показать его гражданским зрителям в городском театре. Там показывали постановку за деньги, а вырученные суммы использовали на костюмы и реквизит. В гортеатре это выступление имело большой успех, и поэтому, когда была готова новая, посвящённая 12 годовщине Красной армии программа, все билеты на неё раскупили за два дня.
Сейчас многие из номеров выступления «Весёлого дальневосточника» покажутся примитивными, наивными и далеко не высокохудожественными, но в то время такие постановки были редкими, и они помогали в деле политвоспитания бойцов. Между прочим, именно такой отзыв дал об этом коллективе и его представлении приехавший на гастроли и посетивший части ОКДВА, расположенные в г. Благовещенске, знаменитый Александр Васильевич Александров, руководивший красноармейским хором ЦДКА (так тогда назывался ансамбль песни и пляски Советской Армии). В его коллективе было около сорока человек. Он приехал в гарнизон 23 февраля 1930 года. Когда Александров узнал, что в этот вечер в клубе будет выступать собственная самодеятельность со специальной программой, объединённой общим названием «Особая Краснознамённая», то заявил, что вместе со своими хористами с удовольствием денёк отдохнёт, посмотрит представление, а хор будет выступать 24 февраля (этот день был тоже праздничным).
Надо было видеть, с каким волнением и трепетом участники «Весёлого дальневосточника» представляли свои номера, зная, что на них смотрят столь известные артисты, не раз выступавшие перед самим Сталиным, Ворошиловым и Калининым. Несмотря на все волнения, программа прошла весело и оживлённо. Исполнители и руководитель заслужили одобрение Александрова, хотя вместе с тем он высказал немало и критических замечаний, которые помогли в последующих постановках.
Выступление хора Александрова, на котором, по разрешению комиссара дивизии, присутствовали все участники самодеятельности, произвело большое впечатление. Услышав впервые многие песни, такие как «По долинам и по взгорьям», «Особая Дальневосточная», «Хор из оперы», «Волшебный стрелок», да и многие другие, увидев огневые, разудалые русские пляски, хотя они и исполнялись всего десятком человек, участники самодеятельности, как, впрочем, и все присутствовавшие на концерте, были в восторге. Александров давал в каждом гарнизоне только один концерт, а клуб пятого Амурского стрелкового полка, бывший самым большим в гарнизоне и исполнявший роль дивизионного клуба, мог вместить только небольшую часть бойцов и командиров. Политотдел дивизии выделил каждому полку очень ограниченное число мест, этим и объяснялся приказ комиссара дивизии о пропуске на представление всех участников «Веселого дальневосточника».
* * *
Для Бориса Алёшкина за всеми этими занятиями, учёбой, службой в караулах время летело так быстро, что он не успевал и опомниться, как кончалась неделя, за ней другая, а там и месяц. Нельзя сказать, чтобы он не вспоминал о своей любимой Катеринке и о маленькой дочурке, но воспоминания эти, образы самых дорогих для него людей мелькали в его сознании какими-то неясными, хотя и очень приятными тенями, и сейчас же стирались очередным неотложным делом. Но зато в длинные бессонные ночи в карауле или на ротном полковом и дивизионном дежурстве (а с 1 января 1930 г. курсантов стали назначать в наряды в штаб полка и в штаб дивизии) мысли Бориса целиком были поглощены его маленькой семьёй. Именно в эти ночи, когда ему никто не мог помешать, он писал домой длинные письма, в которых осыпал свою жёнушку самыми ласковыми именами, жаловался на то, что скучает по ней и по дочурке, высчитывал дни оставшейся службы, рассказывал о своём житье, просил чаще писать.
Катя его письмами не баловала, и если у Бориса выходило одно письмо в 10–12 дней (по числу нарядов), то от неё он получал едва ли одно письмо в месяц. Как правило, Катины письма были довольно сухими, и, как всегда, нежностями не изобиловали. Она довольно скупо сообщала о своей жизни, однако, можно было понять, что ей удалось продвинуться по службе – она стала занимать более высокую должность всё в том же АКО. Иногда в конверт с письмом Катя вкладывала немного денег, обычно 5–6 рублей, и это было для Бориса большим подспорьем. Его красноармейское жалование равнялось 1 рублю 60 копейкам в месяц, расходы же волей-неволей набирались: то нужно было купить письменные принадлежности – тетрадки, карандаши, то гуталин, то туалетное мыло, то лезвия для безопасной бритвы (хоть и через 2–3 дня, а бриться Борису было нужно), да мало ли ещё чего? Но, пожалуй, самым главным расходом у него всё-таки были конфеты. Будучи сластёной, ему никогда не хватало выдаваемого по норме сахара.
Нелишне вспомнить, как получали этот сахарный паёк. Командиру отделения выдавался сахар по весу на 10 дней большими кусками. Специальным тесаком командир крошил сахар на более мелкие кусочки и раскладывал их на газете на равные кучки. Надо сказать, что у Евстафьева был удивительный глазомер, и даже самый придирчивый из курсантов не смог бы найти разницы в кучках, тем не менее распределение кучек сахара совершалось «гаданием». Один из курсантов садился спиной к столу, остальные окружали его. Командир отделения притрагивался к какой-либо из кучек сахара и громко вопрошал: «Кому?» Сидевший, не видя кучки, говорил «такому-то», названный курсант забирал свою порцию, и так продолжалось до конца. Никогда эта делёжка не вызывала никаких нареканий, и все были довольны.
Беда заключалась в том, что сахара некоторым, как, например, Алёшкину, хватало лишь на два-три чая, приходилось докупать его или дешёвые конфеты в полковой лавочке. Очень часто поэтому Борис занимал деньги у своих более богатых товарищей, а такими были, прежде всего, Павлин Колбин и Беляков, ежемесячно получавшие из дома по 20–25 рублей. Часто присланные Катей деньги уходили на оплату долгов, и он залезал в новые.
Между прочим, с начала января у курсантов, а, следовательно, и у Бориса появились новые расходы. По воскресеньям бойцов стали отпускать в увольнение в город, ходили обычно группами. В группе Алёшкина были его дружки – Колбин и Беляков. Самым любимым маршрутом их был такой: на главной улице города, служившей продолжением дороги из военного городка, находился кинотеатр, где можно было посмотреть свежую кинокартину (в полковом клубе крутились картины 3–4-годичной давности, в строго выдержанном идейном направлении); выйдя из кино, зайти в расположенное рядом кафе, съесть там пару порций варенца с сахаром и закусить это булочкой или пирожком. О том, чтобы зайти в магазин купить вина и выпить его с какой-либо знакомой, как умудрялись делать, правда, весьма немногие курсанты, наши друзья и не помышляли. Все они были комсомольцами, а двое и партийцами, и потому даже сама мысль о выпивке у них не возникала. Из всех троих женатым был один Борис, но у его друзей дома остались девушки, и заводить здесь новые знакомства они не хотели.
Самым трудным для этой троицы было не получение увольнительных – это удавалось как раз легко: все они отлично учились, считались примерными курсантами, и потому увольнительные и старшина роты, и командир взвода, а тем более политрук выдавали им по первой просьбе, и даже иногда в будние дни. Трудность заключалась в том, чтобы при следовании по городским улицам не прозевать какого-нибудь, даже самого маленького командира и своевременно его поприветствовать. Донос такого командира лишал увольнительных даже самых хороших курсантов иногда на целый месяц. Хуже всего приходилось, конечно, Яше Штофферу, который из-за своей рассеянности мог не заметить даже собственного командира роты, столкнувшись с ним нос к носу. Если бы не завклубом и не ходатайство Сафронова, то Штофферу пришлось бы сидеть вообще без увольнений.
Впрочем, и с нашими друзьями, кажется, в феврале 1930 года произошёл довольно забавный, но и опасный случай, из которого они вывернулись лишь благодаря смелости и нахальной находчивости Павлина Колбина. А дело было так.
Возвращаясь однажды из города после какой-то очень весёлой кинокартины и вкусного варенца, ребята находились в самом радужном настроении. Они дружно шагали в ногу по самой середине заснеженной, но хорошо укатанной мостовой и, поддаваясь веселью, не сговариваясь, затянули одну особенно полюбившуюся всей роте шуточную песню, переделанную из старой солдатской «Вдоль да по речке». Собственно, переделан был только припев, в котором, между прочим, были такие слова:
Шевели, курсант, усами,
Собирайтесь, девки, с нами,
Во зелёный сад гулять!
Первый куплет они пропели тихонько, а затем разошлись и следующие уже орали во всю свою молодую глотку. Они, конечно, знали, что курсант, находясь в городе, обязан вести себя дисциплинированно и пристойно, но, поддавшись настроению, на пустынной улице и в темноте как-то забыли об этом. Распевая во всю мочь, курсанты разом заметили стройную фигуру какого-то пожилого командира, медленно идущего им навстречу по тротуару. Одного взгляда было достаточно для того, чтобы узнать в этой фигуре их сурового и строгого командира полка Родионова. Они растерялись, и, видимо, от этого, приближаясь к нему, не только не прекратили пение, а, кажется, стали петь ещё громче.
Первым опомнился и принял, очевидно, единственно правильное решение Павлин Колбин. Он вдруг вытянулся и громко скомандовал:
– Отставить песню. Смирно! Равнение налево!
Сам же твёрдым строевым шагом направился к невольно остановившемуся командиру полка, и, приложив руку к козырьку будёновки, чётко отрапортовал:
– Товарищ комполка! Курсанты первой роты одногодичников возвращаются из увольнения в город строем с песнями. Докладывает старший группы курсант Колбин!
Родионову ничего не оставалось делать, как только, ответив на приветствие, сказать:
– Вольно. Следуйте в казарму, только без песен.
Об этом случае он как-то вспомнил на занятиях, которые проводил с одногодичниками по тактике. Похвалил Колбина за находчивость, но одновременно и упрекнул за слишком вольное поведение в городе.
В конце февраля 1930 года с Борисом Алёшкиным случилось и ещё одно происшествие. Зайдя после кино в кафе и увлёкшись очередной порцией варенца, Борис, любивший-таки покушать, не замечал никого вокруг. Вдруг он ощутил удар по плечу и услышал знакомый бас:
– Чёрт побери, да это, кажется, Борька Алёшкин! Здорово! И давно ты здесь? – спросил высокий парень с вьющимися чёрными волосами и карими глазами навыкате. Толстые губы его большого рта сложились в весёлую улыбку. Не спрашивая разрешения и не обращая внимания на изумлённые взгляды Бориных друзей, парень сел на свободный стул, стоявший у их стола, и небрежно кинул проходившей официантке:
– Клавочка, принеси-ка мне два варенца.
– И булочку? – спросила та.
– Нет, две! Я голоден, как чёрт. Да ты что, на самом деле онемел что ли, не узнаёшь меня? – повернулся он снова к Борису.
И тут Алёшкин его вспомнил! Ну, конечно же, это был Колька Завьялов, председатель Благовещенского бюро компартии, с которым он в 1927 году осенью встречался на пленуме Дальбюро, и даже подружился, если это возможно за такой короткий срок. Колька был очень компанейским, весёлым и общительным парнем. Опомнившийся Борис пожал его руку и сказал:
– Ребята, это мой друг, я его знаю около трёх лет, он тоже пионерский работник.
– Нет, нет! – перебил его Колька. – Прощай, брат, молодость, уже давно – больше года как распростился с пионерами, теперь на меня ношу потяжелее навалили, я теперь секретарь обкома ВЛКСМ! Не то что ты – вон, надел красноармейскую шинель, и все заботы побоку. А я, сколько ни просился в армию, так и не пустили. Но ты не сказал мне, давно ли ты тут?
– Да вот, после кино зашли…
– Не увиливай! Давно ли в Благовещенске, я спрашиваю?
Борис переглянулся с товарищами, он не знал, как ответить: политрук неоднократно предупреждал их, чтобы в городе никому, ни при каких обстоятельствах не рассказывали о том, сколько времени они находятся в Благовещенске и когда туда прибыли. Потому он нерешительно сказал:
– Да уж порядочно…
– Ох, прости, брат! Я и не сообразил, что это военная тайна, хотя мне и можно сказать. Ну да ладно, правильно. Всё-таки, значит, не первый день, а, как я понимаю, не меньше четырёх месяцев, иначе тебя бы в город не пустили. И тебе не стыдно? Ты до сих пор не выбрал время зайти в обком комсомола, ну и друг! Ну теперь мы от тебя не отстанем, я помню, как ты на пленуме выступал… Нам такие нужны!
– Что ты, что ты, Коля! У нас такая учёба – дыхнуть некогда, да ещё и самодеятельность, партийные нагрузки, а тут и ты собираешься чем-то нагрузить, – взмолился Борис.
– Ничего, ничего, выдюжишь, – засмеялся Завьялов, уплетая принесённый варенец.
В это время Беляков вынул из кармана большие серебряные часы, доставшиеся, как он любил говорить, ему по наследству от отца, щёлкнул крышкой, посмотрел на них и укоризненно покачал головой. Николай заметил этот взгляд:
– Извините, ребята, я задержал вас. Ну, идите, идите, ведь у вас строго, а ты, Борис, всё-таки заходи, рады будем, – он попрощался со вставшими ребятами и снова уселся за свой варенец.
Эта встреча очень скоро напомнила о себе. Но прежде чем рассказать о том, как она отразилась на судьбе Бориса Алёшкина, вспомним немного о событиях, происходивших в это время в нашей стране. Как известно, ещё на XV съезде ВКП(б) был провозглашён лозунг сплошной коллективизации. Естественно, что во всех земледельческих областях и районах руководители разного масштаба стремились как можно скорее претворить его в жизнь. И, несмотря на ряд постановлений ЦК BKП(б), как например, «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930 года, «О коллективизации и борьбе с кулачеством в национальных и экономически отсталых районах» и других, иногда в этих вопросах допускались серьёзные ошибки и искривления партийных установок, принося делу существенный вред.
Первого февраля был опубликован примерный устав сельхозартели, а второго марта в «Правде» появилась статья И. В. Сталина: «Головокружение от успехов», вскрывшая недостатки в колхозном движении и призывавшая всех сельских коммунистов принять меры по их исправлению. Эта статья, а также и постановление ЦК «О борьбе с искривлениями в колхозном движении» от 15 марта 1930 года, заставили партийные организации на местах принимать срочные меры.
Благовещенский обком ВКП(б), обсудив на заседании бюро эти документы, а также и поступавшие с мест материалы о ходе коллективизации в Амурской области, констатировал, что имеется много недостатков, и для исправления их необходимо срочно командировать во все районы, во все самые отдалённые сёла, хутора и станицы коммунистов, хотя бы немного знакомых с сельским хозяйством и достаточно политически грамотных, способных помочь местным ячейкам найти правильное решение по исправлению создавшегося у них положения. Кроме работников областных организаций, решили привлечь и коммунистов гарнизона.
На бюро присутствовал секретарь бюро обкома ВЛКСМ и комиссар дивизии Щёлоков. Велико же было удивление последнего, когда Завьялов, услышав список политработников, рекомендованных командованием дивизии для отправки в сёла, посоветовал включить в него двух бывших комсомольских работников, до армии работавших в аппаратах сельских райкомов ВЛКСМ. Это были Борис Алёшкин и Николай Басанец – брат Гришки Басанца, который, как оказалось, служил в роте одногодичников 6-го стрелкового полка.
Для Щёлокова такое предложение явилось неожиданностью, но ему не пришло в голову сослаться на занятость курсантов, и он машинально включил их в ранее составленный список. На следующий день комдив вызвал обоих курсантов к себе, чтобы познакомиться с ними. Предварительно он переговорил с командирами рот и узнал, что оба эти курсанта вполне успевают в учёбе и безусловно нагонят пройденную программу, если будут оторваны от занятий на две-три недели. Командирам рот он приказал пока о предстоящих командировках никому не рассказывать.
На следующий день в первой роте 5-го Амурского полка дежурный получил из штаба дивизии телефонограмму с приказом направить курсанта Алёшкина к комиссару дивизии в 16:00. Такие вызовы являлись чрезвычайным событием. Дежурный доложил старшине роты, тот – командиру взвода, последний – политруку, а уже политрук, тоже взволнованный этим вызовом (неужели Алёшкин что-нибудь натворил?), передал телефонограмму командиру роты.
К удивлению Савельева, Константинов к этому вызову отнёсся спокойно. Он вызвал к себе старшину роты и приказал ему проверить состояние обмундирования курсанта Алёшкина, а также умение обращаться к старшим начальникам, и направить его к указанному времени в штаб дивизии.
Около часа дня в конце одного из занятий, Борис был вызван старшиной. Все удивились, и прежде всего, сам Борис. Вызовы с уроков случались крайне редко и происходили до сих пор только в двух случаях, когда в Благовещенске проездом находились родители курсантов. Борис вначале подумал о том же: «Уж не приехала ли Катеринка?», но сейчас же отбросил эту мысль. «Зачем она может появиться в Благовещенске? Да и денег у неё на такую поездку нет… Может быть, отец приехал в командировку?» – думал он, торопливо шагая за дневальным.
Явившись к старшине по всем правилам строевого устава, Алёшкин в тревожном состоянии ждал разрешения мучавших его вопросов. Старшина не объяснил ничего. Придирчиво осмотрел Борисовы сапоги, штаны и гимнастёрку. Последняя ему, очевидно, не понравилась, потому что он достал из шкафчика почти новенькую, аккуратно сложенную гимнастёрку и протянул её Борису.
– Переоденьтесь, – коротко приказал Белобородько.
Борис удивлённо посмотрел на него, однако, молча снял свою и надел новую гимнастёрку, и через несколько секунд, уже вновь вытянувшись, стоял перед старшиной. К этому времени он был достаточно вышколен и понимал, что задавать какие-либо вопросы нельзя. Ещё более его удивило дальнейшее. Старшина снова придирчиво оглядел его и, заявив, что после обеда следует почистить сапоги, добавил:







