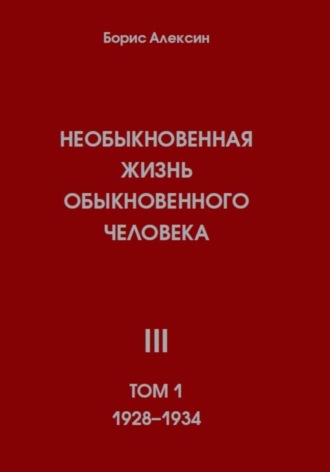
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
Обсуждение доклада проходило очень горячо, выступавшие высказали много критических замечаний в адрес производственного и коммерческого отделов, досталось и правлению треста. Коммунистов в ДГРТ в то время было всего 18 человек, но большинство из них – люди с подпольным дореволюционным стажем, другая часть – бывшие бойцы и командиры Красной армии и партизаны. Молодёжи – всего четыре человека, но и они так же, как и более опытные большевики, выступая, не стеснялись и смело критиковали неповоротливость и громоздкость аппарата треста. Многие отмечали, что, по их наблюдениям, он засорён чуждыми людьми, а начальники основных отделов, не вылезая из своих кабинетов, не знают истинного положения дел на местах. Досталось и Александру Александровичу Глебову, как секретарю партячейки и, главное, как руководителю отдела кадров, за то, что очень мало велось работы по подготовке кадров – рыбаков из своего народа, что ДГРТ вынужден на тральщиках держать тралмейстеров-англичан и платить им валютой, на дрифтерах – дрифтейместеров-немцев, тоже получавших валюту. А на краболовы, как мы уже отмечали, за валюту нанимали даже простых рабочих-японцев.
В резолюции собрания было требование провести срочную работу по проверке аппарата треста, как и предлагалось ЦК ВКП(б). Собрание затянулось: шёл уже одиннадцатый час ночи, начали разбирать второй вопрос – по жалобе одного из коммунистов на Гринера. Прения были в самом разгаре, как вдруг раздался телефонный звонок (собрание проходило в большом кабинете председателя правления треста), Яков Михайлович взял трубку. Выслушав сообщение, он страшно побледнел, медленно опустил трубку на рычаги и, откинувшись на спинку кресла, как-то вяло произнёс:
– Горят наши склады…
Все замерли в каком-то оцепенении. Чтобы понять ужас этого известия, надо представить себе следующее. Все рыбные промыслы, расположенные по Приморскому побережью от Посьета до Николаевска-на-Амуре и Александрова-на-Сахалине, а их было более 80, все двенадцать действующих береговых заводов, все рыболовецкие суда, абсолютно все товары – от муки, крупы, сахара и других продуктов до женского белья, от обыкновенного гвоздя до сложных закаточных станков, от импортной манильской пряжи до сложных кошельковых неводов и тралов – всё это железнодорожным транспортом доставлялось к складам ДГРТ, расположенным в одном месте, и хранилось в огромных железных пакгаузах, построенных американскими интервентами. Склады занимали четыре пакгауза шириной 50 метров и длиной 120 м. Они стояли друг к другу вплотную и для удобства работы соединялись между собою внутренними дверями. К началу путины все эти помещения были до самого верха забиты разнообразными, большей частью, импортными товарами на сумму в несколько миллионов золотых рублей.
Оцепенение, охватившее присутствующих при сообщении о таком огромном несчастье, свалившемся на трест, прошло, пожалуй, быстрее, чем мы успели описать величину и значимость складов. Первым пришёл в себя председатель правления треста Беркович. Он быстро встал:
– Товарищи коммунисты, собрание надо прервать. Все коммунисты считаются мобилизованными, сейчас поедем на пожар и посмотрим, что нужно делать. Я полагаю, что здесь не обошлось без врагов нашего государства. Сейчас я сообщу об этом в ГПУ, – с этими словами он взял трубку и начал вызывать начальника областного отдела ГПУ.
В это время в кабинет вбежал бледный и встревоженный член правления Мерперт:
– Вы знаете? – ещё с порога крикнул он дрожащим голосом.
– Знаем, – ответил Яков Михайлович, а второй член правления, коммунист Завалишин только махнул рукой.
– Вы понимаете, – продолжал Мерперт, – ведь это всё сделано, чтобы сорвать выход наших краболовов!
– Возможно, – ответил Беркович, кладя трубку телефонного аппарата. – В ГПУ уже знают, они выслали своих людей. К пакгаузам направлены все пожарные команды города, поедем и мы. Да, товарищ Алёшкин, как бы ни случилось чего-нибудь с вашим складом! Немедленно отправляйтесь к себе, выясните обстановку и, если там всё благополучно, и ваше присутствие не будет необходимым, возвращайтесь к месту пожара и найдите меня. Ну а мы – быстро садимся в машины, в мою и Иосифа Антоновича, надеюсь, как-нибудь уместимся.
Когда коммунисты вышли на улицу, то увидели толпы народа, бегущие в направлении торгового порта, где были расположены склады и виднелось из-за высоких домов Алеутской улицы, отгораживавших её от порта, огромное багровое колеблющееся зарево.
Алёшкин и Комоза, прицепившись на крыльях больших легковых «Фордов», принадлежавших правлению треста, набитых битком членами партячейки и кое-кем из служащих, ежеминутно рискуя свалиться под колёса автомобилей, в течение нескольких минут домчались до территории расположения складов. Горели два крайних пакгауза. Огонь поднимался высоким столбом, и хотя из разговоров, которые слышались вокруг, выходило, что пожар начался не более получаса тому назад, оба пакгауза были охвачены огнём целиком. Встретивший машины работник ОГПУ коротко бросил Берковичу:
– Поджог! Надо удалить толпу, я вызываю дежурную часть гарнизона. Пожарным и милиции не справиться! Где заведующий складом?
Конечно, председатель правления треста этого знать не мог. К счастью, этот вопрос слышал Глебов, случайно оказавшийся рядом:
– Оксёнов? Я знаю его адрес.
– Ну, вот и хорошо, – сказал чекист, – сейчас с двумя моими людьми поедете и привезёте его сюда. Горят его склады, а он и ухом не ведёт, это странно…
Дальнейшего разговора Алёшкин и Комоза не слышали, они бросились к лесному складу. Пожалуй, только теперь Борис понял, что его склад, а, следовательно, и его семья, могут сейчас находиться в таком же море огня, как и здесь. Эта мысль удвоила его силы, и он мчался, перепрыгивая железнодорожные пути и различные препятствия, попадавшиеся на дороге, так быстро, что Комоза едва за ним поспевал. Но, добежав до Комсомольской пристани и увидев, что впереди всё погружено в темноту и освещается только слабыми огоньками редких электрических фонарей, оба они успокоились, перевели дух и сменили бег на быстрый шаг.
Через несколько минут, разбудив Катю и убедившись, что на складе и дома всё спокойно, Борис Яковлевич, оставив Комозу дежурить в конторе у телефона и поручив ему и сторожу склада никого из посторонних до утра на склад не пускать, и даже не подпускать к воротам, надел кожаную тужурку и поспешил обратно, к месту пожара. Ко времени его прихода туда прибыла воинская часть, и красноармейцы, выстроившись цепью, стали оттеснять толпу любопытных с территории порта и причалов в сторону Светланки. Прибывшие пожарные команды, а к этому времени успели приехать пожарные всех частей города, приступили к более или менее планомерному тушению. За это же время краболов, стоявший у стенки причала метрах в тридцати от горевших складов, предназначенный к погрузке на следующий день, уступил своё место портовому пожарному катеру, снабжённому мощными моторами, подававшими забортную воду толстыми струями, которые, однако, доставали только до одного из центральных пакгаузов. Этот и соседний снаружи ещё не горели, что же делалось у них внутри, пока определить было невозможно. Боковые пакгаузы были объяты пламенем, их стенки и крыши раскалились докрасна, как стенки железной печки, а из щелей вырывались длинные языки пламени. Жар от огня был настолько силён, что пожарные не могли подойти к ним ближе, чем на 20–25 метров.
Борис довольно быстро нашёл Берковича, стоявшего в стороне и что-то горячо обсуждавшего с приунывшим Черняховским и горячившимися Мерпертом, Завалишиным и Гусевым. Около них, слушая разговор, похожий на перебранку, стоял работник ОГПУ, видимо, высокого ранга: в петлицах его гимнастёрки был ромб. Он, наконец, не вытерпел и сказал:
– Вашего Оксёнова всё нет. Надо взламывать двери центральных пакгаузов и постараться вынести оттуда всё, что можно. Да и с огнём будет легче бороться, если пожарные смогут проникнуть внутрь, а то, смотрите, вода из их шлангов, падая на горящие пакгаузы, испаряется, как на сковородке, если будете тянуть, то не спасёте ничего! Давайте людей!
Только тут Борис заметил, что никаких людей-то и нет – всех коммунистов Яков Михайлович уже куда-то разослал и сейчас стоял в группе перечисленных товарищей и, видимо, соображал, что делать.
Взгляд его упал на Бориса:
– А, Алёшкин, ну как у вас? Всё хорошо? Тогда садитесь на катер, направляйтесь на судоверфь и бондарный завод, будите всех рабочих, грузите их на все, какие только найдутся, плавсредства и везите сюда. Даю вам на всё полчаса. Пусть все подводы и обе грузовые машины тоже немедленно едут через Гнилой Угол сюда.
– Есть, – ответил Борис и, гордясь поручением, помчался к причалу. По дороге он был несколько раз облит струями воды, попадал в огромные лужи, стекающие в море, и в таком виде – мокрый и грязный, заскочив на катер, передал капитану распоряжение Берковича.
На Чуркине никого будить не пришлось. Жившие поблизости от своих объектов Антонов и Крамаренко, узнав, что горят склады ДГРТ, справедливо опасались за судьбу и своих предприятий. Они уже давно разбудили всех рабочих, расставили сторожей на всех направлениях, а сами вместе с большой толпой остальных рабочих стояли на берегу и всматривались в огромный костёр, полыхавший на противоположной стороне бухты. Собравшиеся на все лады обсуждали бедствие, а также и то, каким образом они могли бы оказать помощь. Увидев приближавшийся трестовский катер, люди бросились к нему. Едва он успел приткнуться к стенке причала, как на палубе появились Антонов, Крамаренко, а вместе с ними, несмотря на протесты капитана, человек двадцать рабочих.
Алёшкин передал распоряжение Берковича и, решив, что для защиты и наблюдения за порядком на судоверфи и заводе хватит одного Антонова, согласился с тем, что Крамаренко может быть полезным на пожаре. Решили так, что катер, на котором приехал Алёшкин, возьмёт пять человек, больше брать капитан ни за что не соглашался, и сейчас же повернёт обратно, а Крамаренко, отправив подводы и автомашины, погрузит на стоявшие у причала шаланды ещё человек 60 и вместе с ними отправится на пожар.
С Антоновым оставалось человек пятнадцать, кроме ранее выставленных сторожей. Они выкатили пожарную машину и приготовились к тому, чтобы встретить огонь, если он начнёт где-либо появляться, во всеоружии. Вероятно, эта бдительность и спасла судоверфь и завод. Как впоследствии выяснилось, на этих объектах тоже предполагались диверсии.
Менее чем через полчаса Борис во главе своего маленького отряда, вооружённого топорами и ломами, стоял перед Берковичем. Тот поблагодарил Алёшкина за оперативность, а узнав, что вскоре прибудет ещё Крамаренко с полусотней людей, и за инициативу. Он сказал, что пожарным удалось немного сбить пламя, взломав замки дверей средних пакгаузов, чему, между прочим, противился Черняховский. Пожарные пробрались внутрь и сейчас вели борьбу с огнём из внутренних дверей, сообщавшихся с горящими отделами склада.
– Необходимо как можно скорее всё, что находится в средних пакгаузах, вынести на причал и сложить в определённом порядке. Оксёнова дома не оказалось, его разыскивают, а два кладовщика – его помощники уже здесь. Они будут указывать, что и в каком порядке выносить. Руководить действиями рабочих будете вы, а когда приедет Крамаренко, то и он. К счастью, вчера один из кладовщиков, руководивший погрузкой краболовов, в порядке подготовки весь груз, предназначенный для этого судна (он кивнул головой на пароход, отошедший от причала), отобрал и сосредоточил в одном из средних пакгаузов у самых дверей. Груз не пострадал, его надо спасти в первую очередь. Через полчаса приедут матросы с этого краболова, они тоже вам помогут. Я прикажу, чтобы все рабочие подчинялись вам: требуется единоначалие! Ну, идите, начинайте, утром, в 8. 00 я жду от вас доклад.
Борис объяснил задачу рабочим, вместе с кладовщиком они выбрали наиболее удобное для складирования место на стенке причала, и через несколько минут его 25 человек изо всех сил, бегом начали выносить сети, продукты, буйки и прочие товары, предназначенные для краболова. Не отставал от своих подчинённых и сам Алёшкин. Скоро он весь был перепачкан в копоти, муке и ещё невесть в чём. Однако работая, как простой рабочий, он ни на минуту не забывал о своей руководящей роли, вовремя подсказывая новые места для склада и показывая то, что следует выносить в первую очередь.
Когда через час прибыл Крамаренко со своими людьми и человек 20 матросов с краболова, то и ему, и Алёшкину самим работать не пришлось: всё их внимание поглощало руководство деятельностью сотни людей, а это становилось всё трудней. По мере углубления в пакгаузы, возрастала опасность для работавших там: помещения наполнялись удушливым едким дымом, сквозь который почти ничего не было видно. Свет фонарей «летучая мышь» не пробивал эту сизую, тяжёлую мглу. Само собой разумеется, что электрическое освещение вышло из строя с началом пожара. Опасались, что кто-нибудь из рабочих, потеряв сознание, упадёт и задохнётся, и руководителям всё чаще и чаще приходилось подхватывать выходящих из пакгаузов шатавшихся и кашлявших людей, вести их к морю, обливать водой и давать им передышку. Одновременно нужно было тщательно следить и за тем, все ли вошедшие на склад вышли.
Пожар достиг своего апогея. С грохотом свалилась внутрь крыша одного из боковых пакгаузов, в другом начали с ужасающим хлопаньем рваться бочки с кунжутным маслом, используемым при изготовлении консервов. При этом они взлетали на несколько десятков метров вверх, пробивали раскалённую крышу, с треском лопались в воздухе и обдавали всё вокруг брызгами кипящего масла. Уже несколько пожарных получили серьёзные ожоги, и две автомашины скорой помощи (совсем недавно появившиеся во Владивостоке) увезли их в больницу. Пострадали и некоторые из рабочих, но ни тушение огня, ни вынос уцелевших товаров не прекращались.
Скоро на причалах появились хаотично сложенные разнообразные грузы. Как ни старался кладовщик, ему удалось сделать только одно: отделить узким проходом от всего остального то, что предназначалось для последнего краболова, всё прочее складывалось кое-как, и это можно было понять.
Погасить горевшие пакгаузы пока не удавалось, более того, стенки ещё не загоревшихся, хотя и поливались мощными струями воды беспрерывно, всё-таки настолько раскалились, что некоторые тюки товаров, лежавшие вблизи от них, начали тлеть. Грузчики торопились вынести как можно больше и бросали вытащенное где и как попало, уже не заботясь ни о каком порядке. Последние спасённые товары в основном были уже попорчены, если не огнём, то морской водой, которой производилось тушение.
Благодаря самоотверженной работе, часам к семи утра удалось почти полностью очистить от товаров оба центральных пакгауза. К тому времени бушевавший огонь частично уничтожил всё наиболее легко воспламеняющееся и местами, поддавшись усилиям пожарных, начал ослабевать. Люди, работавшие всю ночь с предельным напряжением, к тому же постоянно отравлявшиеся угарным газом и дымом, были совершенно измождены. Приехавший на пожарище Беркович, выслушав доклад Алёшкина, приказал всем участвовавшим в спасении грузов немедленно отдыхать. Для продолжения выноса остатков полуобгоревшего имущества наняли артель портовых грузчиков-китайцев.
К стенке причала подошёл краболов, и другая группа грузчиков, явившаяся на работу, приступила к его погрузке, по существу, в запланированное время. Так как предназначенные для него грузы теперь лежали у самой стенки причала, расстояние по переноске их значительно сократилось, и погрузка парохода проводилась быстрее, чем обычно. Заменять грузы, предназначенные для краболова, почти не пришлось: они были извлечены первыми и практически не пострадали. Вследствие этого погрузка последнего краболова была закончена в срок, и он в надлежащее время отправился на промысел.
Впервые за всю историю краболовного промысла на Дальнем Востоке в этом 1929 году краболовы Советского Союза захватили лучшие крабовые поля в районе Камчатки, оставив японских рыбопромышленников с носом. Не помогла последним и диверсия – поджог склада.
В том, что это был акт диверсии, собственно, не сомневался уже никто. Во-первых, исчез завскладом Оксёнов. Как говорили кладовщики, он ещё с утра прошлого дня ушёл со склада, ссылаясь на плохое самочувствие, и не знал, что в его отсутствие грузы, предназначенные для последнего краболова, по распоряжению одного из кладовщиков, были перенесены к дверям среднего пакгауза, хотя до этого лежали в крайних. Как показали опрошенные работниками ГПУ свидетели, Оксёнов зачем-то появлялся у складов в день пожара после окончания работы, около девяти часов вечера. Пожар заметили в 10 часов 30 минут. Как было установлено расследованием, он начался одновременно в пяти-шести местах, причём именно там, где ранее находились грузы краболова.
И, наконец, в одном из этих мест удалось найти покорёженные огнём бидоны из-под керосина, попавшие на склад неизвестно каким образом. Оба кладовщика категорически отрицали хранение горючего, в том числе и керосина, на складе и объяснить появление этих бидонов не смогли.
Да и сам Оксёнов, задержанный при попытке перейти границу около станции Гродеково, признался, что поджог совершили три человека, присланные ему японским резидентом, который за участие в этом деле заплатил ему 20 тысяч рублей. Часть этих денег у Оксёнова при аресте обнаружили и изъяли. Своих сообщников, а также фамилию резидента на первом допросе он не назвал, а на следующий не явился: по недосмотру надзирателей он покончил жизнь самоубийством в тюрьме.
Вслед за Оксёновым арестовали заведующего коммерческим отделом Черняховского и одного из кладовщиков. Правда, за отсутствием каких-либо основательных улик о причастности их к преступлению они из-под ареста были освобождены, но, конечно, из треста уволены.
Всё это произошло потом, спустя две-три недели после пожара. Пока же, после кратковременного трёхчасового отдыха Алёшкин был снова вызван к председателю правления Берковичу, и получил приказ произвести разборку оставшегося на пожарище имущества и помочь временному заведующему складом. Последний, с помощью большого числа рабочих начал приводить в порядок уцелевшие пакгаузы, устанавливать стеллажи и раскладывать на них неповреждённые пожаром товары. Всё же пострадавшее от огня, пришедшее в относительную негодность и требовавшее или переработки, или значительного ремонта, Беркович приказал Алёшкину вывезти на свой склад. Впоследствии всё это было рассортировано и распродано мелким торговцам, чтобы в какой-то степени покрыть огромные убытки, понесённые трестом.
Для выполнения этой работы Борис получил в своё распоряжение десять подвод, одну автомашину и человек сорок рабочих. Одновременно ему был вручён соответствующий мандат, дававший право вывозить с места пожарища всё, что он найдёт нужным. Место, где находились склады, было оцеплено воинскими частями.
Борис прибыл на пожарище часов в 12 дня. К этому времени от двух крайних пакгаузов осталась груда обгоревших покорёженных листов железа, над которой курился вонючий дымок. Как уже говорилось, вся площадь пожарища и груды спасённых товаров были оцеплены красноармейцами, около пакгаузов дежурили две пожарные машины с командой. На причале шла интенсивная погрузка последнего краболова, из уцелевших пакгаузов доносился стук топоров.
Предъявив своё удостоверение начальнику охраны, Алёшкин прошёл в один из пакгаузов, где застал кладовщика, теперь уже – временно исполняющего обязанности заведующего складом. Рассказав ему о полученном поручении и дождавшись назначенных ему в помощь людей, Борис приступил к работе. Вооружившись пожарными баграми, ломами и лопатами, рабочие начали растаскивать огромные, ещё горячие листы гофрированного железа и разгребать местами тлевшие, а местами плавающие в воде, оставшиеся вещи. Мы уже говорили, что на этих складах хранилось всё, что могло понадобиться для жизни и работы на промыслах и заводах побережья, и поэтому раскопки имели смысл.
Обутым в резиновые сапоги рабочим приходилось ходить по огромным лужам, образовавшимся из растопленного сахара и конфет, но иногда под грудой обгорелых головёшек попадался целый десяток ящиков карамели, упакованных в жестяные банки, и если не считать специфического запаха гари, то почти не пострадавших от огня. То же самое случалось с различными консервами, сырами, копчёностями и другими продуктами. Под грудой развалин и головёшек, например, в одном из углов склада удалось обнаружить целый штабель мешков с мукой и крупой, из которых испорченными оказались только наружные ряды, а всё, что лежало в середине, было пригодно к употреблению. Так же произошло и с различного рода спецодеждой, мануфактурой и прочими предметами. Однако в некоторых местах жар пламени был так силён, что, например, прутья металла, гвозди, шурупы сплавились в один слиток, который можно было использовать как металлолом, зато в других местах эти же предметы оказались только залиты водой и запачканы сажей.
Всё мало-мальски годное, извлечённое из-под остатков сгоревших складов, люди Алёшкина грузили на подводы и в сопровождении одного-двух человек направляли на лесной склад. Там под руководством Комозы привезённое рассортировывалось по видам товаров и степени повреждения и раскладывалось в возможном порядке на наскоро сооружённые стеллажи в большом сарае.
Работы по расчистке пожарища заняли более недели. В эти дни Борис буквально не показывался дома: дневал и ночевал на месте работ, стараясь вытащить и спасти от дальнейшей порчи возможно больше товаров. Конечно, вообще-то, удалось подобрать так мало, что это не покрывало и десятой доли убытков. Самым большим счастьем оказалось то, что из двух средних складов спасли почти всё, что предназначалось для краболова.
После сортировки и приведения в относительный порядок, спасённое по специальным нарядам Алёшкин отправлял на промыслы. Это, до получения вновь закупленных товаров, помогло как-то выйти из положения. Для определения качества подпорченного имущества была создана комиссия под председательством Мерперта, она и определила судьбу спасённого. В результате около 50 % груза, вывезенного Алёшкиным с пожарища, подлежало очистке, мойке, мелкому ремонту и возвращению на склады для дальнейшего использования; около 30 % подлежало реализации по сниженным ценам местному населению: предполагалось устроить своего рода аукцион, чтобы продать эти товары как можно выгоднее; наконец, около 20 % подлежало реализации на любых условиях: предметы этой группы фактически считались негодными. Весь металлолом, вывезенный после расчистки пожарища, в том числе железные стены и крышу передали на переплавку Дальзаводу. Несколько китайских торговцев купили право собрать расплавленный, перемешанный с землёй и золой сахар, рассыпанную крупу, муку и т. п.
Правление ДГРТ торопилось расчистить площадь, чтобы начать строительство новых складов. Неожиданно в дело вмешались органы ГПУ и предложили новые склады строить в другом месте, и даже не в городе, а за его пределами. Своё предложение начальник ГПУ мотивировал тем, что в случае новой диверсии склады не будут так сосредоточены в центре, а с другой стороны, вынесение их за черту города даст возможность организовать для них лучшую охрану. Для этого требовались дополнительные средства, больше складских работников, но польза перевешивала, и поэтому вопрос был решён.
Мерперт, докладывая о работе комиссии по ликвидации последствий пожара, заметил, что энергичная спасательная работа, толковое проведение расчистки пожарища, а также умелая ликвидация попорченных огнём товаров, организованные Алёшкиным, показали, что у этого парня золотая голова, крепкая хватка в работе и умение руководить людьми. Основываясь на этом, он выдвинул предложение перевести Бориса Яковлевича на работу в коммерческий отдел, на должность заместителя начальника отдела, утверждая, что этот молодой человек с работой справится. Правление треста с ним согласилось.
Как мы уже знаем, заведующего коммерческим отделом Черняховского арестовали по подозрению в причастности к диверсии. На его место назначили бывшего старшего коммерческого корреспондента – Николая Ивановича Игнатова, а заместителем к нему – Алёшкина.
Игнатов – толстенький, светловолосый, добродушный человек, ещё до войны окончивший какое-то специальное училище в Москве, приехал на Дальний Восток до революции и работал в одном из акционерных обществ Приморья. При организации ДГРТ его приняли в коммерческий отдел. Он знал своё дело, но был робким человеком и очень быстро поддавался влиянию лиц с более сильным характером. Служа вместе с Черняховским, он подчинялся ему беспрекословно и не мог сказать против ни одного слова. Когда его поставили во главе отдела, то ему пришлось очень трудно. Он умел хорошо работать сам, но заставить работать других, как это делал Черняховский, не мог. В то время в аппарате отдела числилось 12 человек исполнителей, и для того, чтобы отдел справлялся со своими задачами, каждый должен был работать во всю меру своих сил и способностей. По мнению Мерперта, Игнатов не смог бы заставить сотрудников отдела работать с должным напряжением, для этого и был нужен Алёшкин, который, хотя и не разбирался в коммерческих делах, но сумел бы поддерживать дисциплину в отделе и стать, таким образом, организующим подспорьем заведующему.
Председатель правления треста Беркович в этом вопросе соглашался с Мерпертом, единственное, что его смущало, это молодость Алёшкина, ведь ему шёл только 22-й год. Когда Яков Михайлович вызвал Бориса к себе и сообщил ему о решении правления треста, то Борис даже испугался: менее чем полгода назад он был скромным десятником, затем заведующим обыкновенным лесным складом, а тут вдруг сразу такой скачок – заместитель заведующего отдела треста, было чего испугаться! Он, конечно, начал отказываться, ссылаясь на свою неосведомлённость в сложной работе коммерческого отдела и, наконец, на молодость. Вот это его последнее возражение, кажется, и решило дело.
Яков Михайлович и Иосиф Антонович переглянулись, и Беркович сказал:
– Вот о молодости-то мы тоже думали, но раз ты сам понимаешь этот свой «недостаток», то всё будет хорошо! Делу научишься со временем. Не зарывайся, прислушивайся к голосу старших, более опытных товарищей, но и не теряй своей принципиальности и задиристости, свойственной молодости. А потом, ты же ведь большевик – ищи помощи в партячейке. Конечно, от комсомольской работы тебя придётся освободить. Как вы на это смотрите? – обратился Яков Михайлович к секретарю партячейки Глебову, присутствовавшему при этом разговоре.
Тот молча кивнул головой. Ему тоже впервые пришлось стать свидетелем такого быстрого продвижения по службе.
Через 10–15 дней, закончив распродажу имущества, спасённого при пожаре, и передав лесной склад на Корабельной набережной Комозе, а чуркинский – Ярыгину, дружески распростившись со всеми работниками и, в особенности, с Александром Васильевичем Соболевым, Алёшкин приступил к исполнению новых обязанностей.
Надо прямо сказать, что работниками отдела встречен он был весьма недружелюбно. Во-первых, потому что на эту должность многие метили сами, а во-вторых, как сказал один из работников отдела (еврей, бывший торговец, ведавший вопросами снабжения треста метизами, некто Роземблюм):
– Мы до сих пор были чистенькими, а теперь и нам большевика воткнули!
Пожалуй, Борису пришлось бы плохо, тем более что дела-то он вовсе не знал, и до всего надо было доходить своим умом. Но в первый же день член правления треста Мерперт провёл совещание с работниками коммерческого отдела, на котором расхвалил Алёшкина и заявил, что он, Мерперт, будет во всём этого молодого человека поддерживать, поэтому лучше палок в колёса новичку не вставлять, а делясь с ним своими знаниями, в то же время беспрекословно исполнять его распоряжения.
Мерперта в тресте уважали и боялись, его предупреждение подействовало, кроме того, Алёшкин обладал какой-то специфической особенностью быстро находить контакт с людьми. Через месяц-полтора все работники отдела и сам Игнатов относились к Борису с большим дружелюбием, а Роземблюм, который с первого дня смотрел на молодого большевика косо, скоро с ним по-настоящему подружился. Для него слова «так сказал Борис Яковлевич» вскоре стали законом в работе.
Это происходило в разгар лета 1929 года. В ДГРТ уже начали помаленьку забывать катастрофу со складами, тем более что, несмотря на неё, промысел крабов шёл успешно. Большой добычей сельди и иваси ознаменовалась весенняя путина. Открывающиеся консервные заводы приступили к пробному выпуску консервов. Борис Алёшкин начал осваиваться на новом месте работы и, хотя плавал ещё в очень многих специфических вопросах отдела, но с каждым днём узнавал и от своих подчинённых, и от начальства всё новые и новые вещи, которые, благодаря отличной памяти, накрепко откладывались в его голове. При случае он уже мог ими пользоваться, и со своими обязанностями справляться. А обязанностей было много, как и у всего коммерческого отдела.
Дело в том, что организаторы ДГРТ в начале его создания совсем не представляли той многообразной деятельности, которая сразу же выпала на его долю, поэтому по типичной схеме созданные отделы очень скоро столкнулись с таким обширным кругом разных дел, что все, даже самые опытные специалисты, оказывались в крайне затруднительном положении. Правда, через два-три года существования ДГРТ Наркомат торговли и руководители в Главрыбе поняли, что в рыбном деле нужна более узкая и конкретная специализация, но в 1929 году до этого было ещё далеко.
Коммерческий отдел ДГРТ обязан был организовать снабжение промыслов, заводов и флота всеми разнообразными видами товаров, необходимых рабочим и их семьям, причём многие из этих товаров приходилось покупать за границей в ряде стран. Этот же отдел приобретал и обеспечивал поставку на места лесоматериалов и всех строительных материалов, необходимых для строительства жилых, производственных и складских помещений на промыслах побережья, а также и для строительства разнообразных плавучих средств. Коммерческий отдел приобретал и распределял все орудия лова, а их ассортимент с развитием деятельности треста расширялся не по дням, а по часам. На отдел была возложена обязанность изготовления и обеспечения промыслов необходимой тарой: бочками, ящиками, консервными банками. Последние, как правило, пока завозились из-за границы, покупка их всегда шла с большими трудностями. Наконец, этот же отдел занимался и сбытом готовой продукции.







