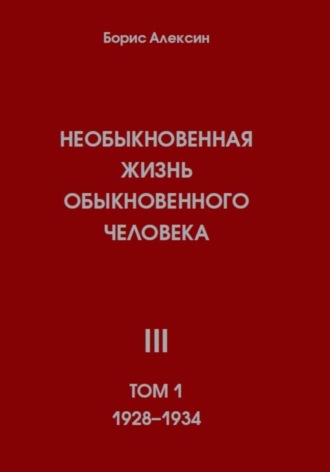
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
Таня была младше Кати на два года, дружила с нею, а, правильнее сказать, Катя исполняла обязанности няньки. Благодаря дружбе Акулины Пашкевич с матерью Тани, женщиной из благородных, в семье Петра Яковлевича и появлялись капот и кое-какие другие вещи, привычки и даже кушанья, свойственные не простым крестьянам, а более интеллигентному кругу людей. Общение с семьёй Хлудневых, наблюдение за установленными в ней порядками известным образом отразилось на поведении, манерах и даже одежде детей Акулины Григорьевны. Больше всего влияние этой семьи испытала на себе Катя, бывавшая у них чаще других детей.
Дети подрастали, всё больше становилось от них не только шума и веселья, но и помощи в различных домашних делах. Старший сын отлично учился и многое обещал в будущем. Хорошо училась в высшем начальном училище и старшая дочь Людмила. Между прочим, на продолжении её образования, как, впрочем, впоследствии и всех остальных девочек, настоял Андрей. В то время образованию женщин, особенно крестьянок, придавали небольшое значение: читать-писать умеет, и слава Богу, а то и этого ещё много! Детей рожать, да в поле работать – вот её жизненный путь, для этого особой грамоты не требуется. Так рассуждали многие крестьяне в Шкотове, так говорили и думали и ближайшие родственники Пашкевичей, и лишь незначительная часть молодёжи была с этим мнением не согласна, но обычно с нею считались мало.
Однако в семье Петра Яковлевича мнение Андрея, и особенно Василия, имело большое значение. Когда Василий настаивал на необходимости образования для сестёр, Андрей поддерживал:
– Пусть уж я один останусь необразованным, но буду работать так, чтобы все мои сёстры стали людьми грамотными. Василий выучится – поможет, может быть, потом и мне удастся поучиться. Да и сама Акулина Григорьевна не хотела, чтобы её дочери выросли такими же неграмотными, как она. Своим практическим умом мать хорошо понимала, что времена меняются, и грамотная девушка сумеет найти в жизни лучшую дорогу.
Глава третья
Началась война с Германией, превратившаяся вскоре в Первую мировую войну. Однако семьи Петра Яковлевича Пашкевича она не коснулась: сыновья его были ещё молоды, а сам он, хотя и имел возраст, подлежавший мобилизации, в своё время действительную службу не проходил и содержал большую семью, поэтому мобилизован не был. Из всех братьев Пашкевичей был призван только младший, Леонтий, да и тот, благодаря имевшимся у него связям, на фронт не попал, а остался служить где-то во Владивостоке. С первых дней войны в армию был призван старший сын Михаила Яковлевича, Гавриил, или, как его звали в семье, Гаврик. К 1914 году он закончил владивостокскую гимназию и поэтому с началом войны был зачислен в школу прапорщиков. В 1915 году он её окончил и уехал на театр военных действий куда-то в Румынию.
Василий Пашкевич, хотя и не был особенно дружен со своим двоюродным братом, однако, находясь под воздействием того ура-патриотического настроения, которое господствовало в Коммерческом училище, в его кругах, остро завидовал Гаврику, уехавшему на фронт, и именно из-за этого, а может быть, под воздействием патриотической пропаганды одного из своих дядей, Ивана, вместе с одноклассником решил бежать в действующую армию. Они бросили учение и, имея немного скопленных денег, уехали в центральную Россию, чтобы служить в армии. Со свойственной молодым людям романтичностью, свой побег они обставили таинственными деталями. В частности, свою форменную одежду (ученики Коммерческого училища носили специальную форму) они оставили возле колодца того дома, где Вася жил на квартире, надеясь создать видимость трагической гибели. Но о приготовлениях к побегу знали многие товарищи беглецов, и поэтому их тайна быстро раскрылась.
Надо сказать, что в то время среди гимназистов, реалистов, некоторой части студентов других училищ таких 14–18-летних патриотов, стремившихся «спасти Россию от германских тевтонов», было немало. Большинство из них – выходцы из помещичьих, дворянских семей интеллигентов, но встречались и дети крестьян. Как правило, всех этих беглецов полиция задерживала на ближайшей железнодорожной станции, или, во всяком случае, в пределах губернского города. Васе и его приятелю «повезло»: они сумели-таки добраться до действующей армии, и, так как им уже исполнилось по 18 лет, а внешне, благодаря хорошему росту и крепкому сложению, можно было дать и больше, их зачислили добровольцами, и около года они провели в окопах где-то в Галиции, служа рядовыми солдатами. В 1916 году, когда товарища Васи ранили, а он отличился в одном из боёв, командование части, установив, что он заканчивал Коммерческое училище, направило его в одну из школ прапорщиков.
Ранее мы уже упоминали, когда рассказывали про Якова Матвеевича Алёшкина, что в 1916 году нехватка младших офицерских кадров в действующей армии была так велика, что царское правительство готово было делать офицерами не только грамотных рабочих, но даже и крестьян. Поэтому направление в школу, а в дальнейшем и выпуск крестьянского сына Василия Петровича Пашкевича прапорщиком, было вполне объяснимым. Однако сам Василий, послужив год в действующей армии и испытав на собственном опыте тяготы солдатской жизни, быстро смывшие с него весь ложный патриотический угар, толкнувший его на фронт, был уже сыт войной. Направление в школу прапорщиков было воспринято им с удовольствием, во-первых, потому, что он получал передышку от окопов, а во-вторых, потому, что он понимал: выйдя прапорщиком, он будет избавлен от многих трудных, если не сказать непосильных, обязанностей рядового солдата. Учился он в школе прилежно и при своих хороших способностях окончил её с отличием. В начале 1917 года Василий Пашкевич получил назначение в часть. По прибытии в полк в одном из первых же боёв, в котором он участвовал, немцы применили газы. Василий вместе с тысячью других получил отравление и был направлен на излечение в госпиталь, размещённый в имении какой-то польской помещицы. Здесь его и застали сперва Февральская, а затем и Октябрьская революции.
Вскоре начался окончательный распад царской армии, а затем и официальная демобилизация. Учитывая ранения и тяжёлое газовое отравление, прапорщика Пашкевича не взяли добровольцем в организуемую Красную армию. Весной 1918 года он получил возможность вернуться домой. Молодой польке, хозяйке того имения, где был развёрнут госпиталь, пришёлся по душе юный, красивый и статный российский офицер, и, вероятно, было немало пролито слёз при расставании. Её уговоры остаться с ней на Пашкевича не подействовали: стремление вернуться к семье и увидеть свои родные приморские сопки, победило. Нагруженный в дорогу различными, главным образом, продуктовыми подарками, летом 1918 года Василий приехал в родное Шкотово.
Бегство на фронт Василия нанесло тяжёлый удар семье Пашкевичей. Горестно переживала поступок старшего сына Акулина Григорьевна. Она не понимала сущности и необходимости этой войны. Какой-то неизвестный ей «германец» был так далеко от её Шкотова, что она даже представить его себе не могла. Не понимала она и того, как мог её Вася – такой разумный и толковый мальчик вдруг очертя голову отправиться за тридевять земель, чтобы там неизвестно за что и для чего, может быть, сложить свою молодую голову. Обижало её и то, что Васе было отдано всеми членами семьи и, прежде всего, ею самой всё, чтобы он получил образование и стал человеком. Пашкевичи считали, что, выучившись, Василий станет поддержкой, опорой многочисленной семье, а он вдруг одним ударом всё разрушил. Конечно, как всякая мать, она старалась найти Васе какое-нибудь оправдание, и оно нашлось: братья её мужа – Михаил, Леонтий и в особенности Иван – не скрывали своей радости и гордости, когда пришло первое письмо от Василия, извещавшее, что он уже на фронте и участвует в боях. Иван, к великому огорчению и неудовольствию Акулины Григорьевны, прямо возликовал, когда узнал, что племянник сражается «за Веру, Царя и Отечество. Когда же пришло известие о том, что Василий окончил школу прапорщиков и стал офицером, тут уже не только его дядья, но и вся родня поздравляла и Петра Яковлевича, и Акулину Григорьевну с большим и радостным событием. Если Пётр относился к этим поздравлениям благодушно и даже не преминул по этому случаю устроить очередной запой, то его жена, хотя и гордилась успехами своего сына, в душе никакой радости от этого не испытывала. Настоящая радость в глазах матери вспыхнула лишь тогда, когда в июне 1918 года в дверях её скромного дома неожиданно появился старший и, что греха таить, любимый сын. Он возмужал, как будто ещё вырос, но после тяжёлой болезни, вызванной отравлением, а затем трудной длинной дороги, выглядел очень плохо. Радость от его возвращения была так велика, что с губ матери не сорвалось ни одного слова упрёка своему блудному сыну, принесшему своим бегством на фронт всей семье, а ей в особенности, такое большое огорчение. Радость омрачалась только тем, что сын выглядел очень плохо, и это вызывало по ночам её никем не виденные слёзы.
Однако теперь он был дома, и она надеялась своей заботой и домашними средствами быстро поправить его здоровье. Все его сестрёнки, ещё многого не понимавшие, боготворили своего старшего, самого умного, самого учёного и самого красивого брата и гордились им. Ведь он вернулся с войны в форме офицера и даже с Георгиевской медалью на груди. А на Дальнем Востоке за эти годы, как известно, произошёл ряд немаловажных событий. В ноябре 1917 года во Владивостоке, на Сучане и окружавших их сёлах, в том числе и в Шкотове, образовалась советская власть. Были организованы Советы депутатов рабочих, солдат и крестьян, а через две недели, 12 декабря 1917 года, советская власть организовалась и в Хабаровске.
Отразились эти изменения и на семье Петра Яковлевича Пашкевича. Почти сразу же после утверждения советской власти, младший его сын Андрей был призван на флот, назначен матросом на сторожевой корабль, базировавшийся в гавани Русского острова и курсировавший по заливу Петра Великого. На сторожевик № 7, на котором служил Андрей, была возложена почётная миссия: он должен был доставить в различные пункты Приморского побережья, Охотского моря и Камчатки представителей новой власти. Для охраны этих людей на корабль погрузили небольшой отряд красногвардейцев. Путешествие корабля заняло много времени. Осенне-зимне-весенний период для плавания по Татарскому проливу и Охотскому морю очень неблагоприятен, но стремление как можно быстрее утвердить советскую власть по всему побережью Дальнего Востока было понятно, поэтому, несмотря на тяжесть плавания, рейс корабля № 7 не прекращался. После многих остановок в пути – на острове Путятин, в бухте Находка, в бухте Ольга, в так называемой Императорской гавани, сразу же переименованной в Советскую гавань, в бухте Датта и многих других корабль, наконец, достиг Петропавловска-на-Камчатке и установил советскую власть и там. Это было 11 февраля 1918 года.
Произведя необходимый текущий ремонт, пополнение водой, топливом, продовольственными запасами, высадив перед этим в Петропавловске уполномоченных комиссаров советской Чукотки, куда они должны были добираться по суше, сторожевик отправился в обратный путь. В это время его настиг тяжёлый шторм, и лишь 18 марта 1918 года он достиг Александровска-на-Сахалине, где в этот же день была провозглашена советская власть. Надо сказать, что организация новой советской власти почти во всех местах, где побывал сторожевик № 7, произошла бескровно, и красногвардейскому отряду применять оружие не пришлось.
В маленьких населённых пунктах к перемене власти отнеслись безразлично, там пока ещё не представляли себе, какие коренные изменения в их жизнь может это принести. В более крупных городах рабочие, составлявшие большинство населения, уже были подготовлены к приходу советской власти, а кое-кто из её противников заблаговременно удрал, поэтому и там перевороты происходили, как правило, бескровно. Задержавшись в г. Александровске до очистки Татарского пролива ото льда, то есть до июля 1918 года, корабль с красногвардейским отрядом отправился в обратный путь к Владивостоку. Зайдя в Совгавань, где в то время была советская власть, команда судна и красногвардейский отряд узнали, что во Владивостоке высадились японские, американские, английские и французские войска якобы для защиты чехословацкого корпуса, поднявшие вооружённое восстание против советской власти в России и захватившие всю Транссибирскую железную дорогу. Все крупные железнодорожные станции на этой магистрали, города и сёла, захваченные восставшими, были отданы в руки многочисленным контрреволюционным белогвардейским правительствам, а представители советской власти ликвидированы. Организовалось такое правительство и во Владивостоке во главе с генералом Розановым и другими. Оставшиеся представители советской власти и партии большевиков вынуждены были уйти в подполье и в партизаны.
Команде сторожевика № 7 так же, как и красногвардейскому отряду, от белогвардейского правительства ничего хорошего ждать не приходилось, поэтому большинство матросов и рабочих машинной команды решило во Владивосток не возвращаться, а остаться в распоряжении местного совета. Вместе со всеми остался и Андрей Пашкевич. Этот корабль до середины 1920 года совершал рейсы по северному побережью Приморья, служа связью действовавшим там партизанским отрядам, и только после повторного выступления японцев в апреле 1920 года и отправки ими в район Татарского пролива специального миноносца, сторожевик № 7, последний раз пришвартовавшись к пирсу в Совгавани, был покинут своей командой. Между тем высадившиеся во Владивостоке войска Америки, Японии и других стран успели проникнуть в близлежавшие от города населённые пункты, в том числе и в село Шкотово. Там обосновались японские и американские гарнизоны, а под их защитой, вернувшей старые царские порядки, начали свои бандитские действия и представители белогвардейских генералов, обосновавшихся во Владивостоке. Правда, действия этих белобандитских вояк были малоэффективны: они не знали местности, боялись отрываться от линии железной дороги, и потому партизанские отряды, организовавшиеся из рабочих Сучана и Кангауза, а также и крестьян местных сёл, держали под своим контролем большую часть Шкотовской волости. Мы забыли сказать, что с начала 1900-х годов Шкотово уже стало волостным селом.
Только одна группа белобандитов, возглавляемая сыном Михаила Пашкевича, Гавриком, который отлично знал все окрестные леса и сопки, принесла партизанам немало вреда и бед. Сам Гавриил Пашкевич отличался большой жестокостью, и от рук его бандитов погибли десятки партизан и членов их семей, было сожжено немало изб и продовольствия. Немудрено поэтому, что фамилия офицера Пашкевича была на особой заметке у партизан. Попытки нападения на бандитствующего головореза совершались не раз. Всё это, в конце концов, заставило Михаила Пашкевича настоять на том, чтобы его сын убрался во Владивосток и пока в районе Шкотова не показывался. Гаврик и сам, боясь ответственности за совершённые им злодеяния, был не прочь удрать из Шкотова.
Семья же Петра Пашкевича, вновь пополнившаяся молодым работником, продолжала заниматься земледелием и рыболовством. В домашних условиях Василий быстро окреп и поправился. Он ещё на фронте успел познакомиться с солдатами, настроенными революционно, даже большевиками, и ни в какую Белую армию, несмотря на многочисленные приказы и призывы беспрестанно сменявшихся правителей Дальнего Востока, не шёл, прикрываясь документами о ранении и отравлении газами. Но не пошёл он и к партизанам.
Так пролетел год. В течение этого года сведений о втором сыне Пашкевичей, Андрее, не поступало. Доходили слухи, что корабль, на котором он служил, находился где-то в районе северного побережья, но что он там делал и долго ли ещё собирался стоять, никто толком не знал, ведь это были только слухи. Однако, за этот год в советской России, в Сибири и на Дальнем Востоке произошёл ряд существенных изменений. Несмотря на поддержку чехословацкого корпуса интервентами, он был разбит, и его незадачливые генералы с остатками своего войска устремились во Владивосток, чтобы на судах интервентов покинуть Россию. Вместе с ними ушли из Владивостока так и не покидавшие пределов города французы, англичане и итальянцы. На Дальнем Востоке остались лишь войска американцев и японцев, державших свои гарнизоны в населённых пунктах Приморья. Как мы уже упоминали, находились такие гарнизоны и в Шкотове. Может быть, одновременное пребывание на Дальнем Востоке войск двух таких империалистических акул, какими были США и Япония, принесло известную пользу краю.
Дело в том, что обе эти капиталистические страны чрезвычайно опасались, как бы войска конкурента не сумели приобрести большего влияния на оккупированной территории, чем их собственные. Поэтому, стоило только японцами проявить большую активность в помощи различным атаманам и правителям, как представители Америки начинали им мешать, и наоборот. Так вот и «дрались» интервенты из-за Дальнего Востока, как собаки из-за лакомой кости. Глядели на неё, ворчали, а схватить ни одна не решалась, боясь нападения на себя в этот момент другой. Тем не менее и они, и представители Антанты организовали поход против советской России. На этот раз его возглавил «верховный правитель», наделённый диктаторскими правами, адмирал Колчак. Собрав остатки чехословацкого корпуса, захватив значительную часть русского золота, хранившегося в банках Сибири, произведя поголовную мобилизацию населения Сибири и части Дальнего Востока, получив за золото от интервентов огромное количество вооружения, боеприпасов и снаряжения, Колчак сумел дойти до Урала и местами выйти к Волге. Его успехи позволили окрепнуть белогвардейцам Дальнего Востока, всякого рода мелким правителям и атаманам: Семёнову, Калмыкову, Пепеляеву, Розанову и другим. Все они, чиня зверские расправы над большевиками-подпольщиками, попавшими в их руки партизанами и просто местным населением, пытались выжечь калёным железом «красную заразу», но это им удавалось плохо. Наряду с победами Колчака количество партизан, влияние их на население и, главным образом, на крестьян, всё увеличивалось.
На Дальнем Востоке к этому времени партизанами контролировалось почти всё северное побережье, а в районе села Шкотова белобандиты могли находиться только там, где стояли гарнизоны США и Японии. Тогда, по мудрому указанию ЦК РКП(б) и советского правительства, всем партизанским отрядам было категорически запрещено вступать в боевые действия с вражескими войсками, чтобы лишить последних повода расширения интервенции. Партизаны нападали и безнаказанно уничтожали только русских белогвардейцев, осмеливавшихся отправляться с карательной целью в какое-нибудь село, более или менее удалённое от Владивостока, Шкотова или Сучана. Да и в этом случае они стремились уничтожить в белобандитском отряде, прежде всего, командиров-офицеров, зная, что насильно мобилизованные в Белую армию солдаты после потери офицеров или обратятся в бегство, или сдадутся в плен, а в некоторых случаях и присоединятся к партизанам.
Больше года Василий Пашкевич мирно трудился в своём крестьянском хозяйстве и не чаял, какая беда скоро разразится над его головой. Семье с появлением в доме молодого мужчины жить стало легче. Акулина Григорьевна, глядя на своего крепнувшего с каждым днём Васю, жалела только о том, что тот не собирался жениться, хотя невест в Шкотове было полно. Может быть, крепко запала ему в душу черноокая полячка, провожавшая его в Галиции, а, может быть, он предчувствовал свою близкую трагическую кончину, но так или иначе он жениться категорически отказывался. До сих пор от всяких мобилизаций Василию Пашкевичу удавалось уклоняться, но в начале октября 1919 года в дом Пашкевичей неожиданно явился белый офицер в сопровождении солдата, и не застав дома Василия, который был в это время где-то в лесу, остался его дожидаться. Поздней ночью, когда Василий вернулся из леса с дровами, этот офицер зачитал ему приказ о мобилизации. Не принимая во внимание никакие медицинские документы и справки, пришедший увёл Пашкевича в казарму, где размещался этот белобандитский отряд.
На следующий день Вася, уже в офицерской форме, зашёл домой и сообщил, что вскоре он должен будет выехать с белыми солдатами в район села Новороссия, чтобы отобрать оружие, имевшееся у крестьян, а в случае сопротивления сразиться с партизанами. Прощаясь с матерью, он шепнул ей, что воевать против своих он не будет и постарается при первом же удобном случае перейти к партизанам. Сказал он также, что его внезапная мобилизация произошла не случайно, а по доносу кого-то из шкотовских жителей, причём он намекнул, что, по всей вероятности, тут дело не обошлось без родного дядюшки Михаила. А последний ходил по селу туча тучей. Зверства его сына были известны жителям Шкотова и вызывали справедливое негодование и презрение у многих. Эти чувства невольно переносились и на ближайших родственников Гавриила и, прежде всего, на его отца. В свою очередь, Михаил Пашкевич, встречая укоризненные, а иногда и просто ненавидящие взгляды, бросаемые односельчанами, многие из которых в своё время работали на него, отвечал им враждебностью. Злило его также и то, что сын Гаврик вынужден был сидеть где-то во Владивостоке, боясь высунуть нос из города, в то время как племянник – сын его брата – такой же офицер, живёт дома около родителей и спокойно занимается своим хозяйством. Так что, вполне вероятно, что мобилизация Василия Пашкевича произошла не без участия Михаила.
Ещё более странным явилось быстрое распространение слухов, которые немедленно пошли по Шкотову и, вероятно, в этот же день достигли ближайших партизанских отрядов. Суть их была в том, что в самые ближайшие дни из Шкотова в Новороссию должен отправиться белогвардейский карательный отряд во главе с офицером Пашкевичем. Партизаны знали одного Пашкевича – белобандита Гавриила, сына Михаила. Помня его зверства, они решили устроить засаду и уничтожить ненавистного бандита.
Когда на следующий день два десятка солдат-кавалеристов под командованием Василия Пашкевича и ещё одного прапорщика спокойно ехали по дороге в Новороссию, на одном заросшем густыми кустами повороте дороги их поджидала партизанская группа. Первыми же выстрелами, раздавшимися из кустов, были убиты Василий Пашкевич и второй офицер. Солдаты, подхватив тела своих командиров, даже не пытаясь отстреливаться, во всю прыть поскакали обратно в Шкотово.
Трудно описать горе семьи и особенно матери, так неожиданно и безвременно потерявшей своего старшего сына, надежду и опору. Но, как ни странно, ни у неё, да, пожалуй, ни у кого-либо другого из домашних, несмотря на такую тяжёлую потерю, не возникло чувства ненависти и злобы к убившим Васю партизанам. Акулина Григорьевна верила, что эта нелепая смерть её сына – результат роковой ошибки, и виноваты в этой ошибке, прежде всего, те белобандиты, которые взяли его из дома, оторвали от мирного крестьянского труда и заставили надеть эту проклятую офицерскую форму. Между прочим, вскоре это и подтвердилось.
Ещё с осени 1919 года войска Колчака начали терпеть поражение. Красная армия наступала, освобождая на Урале, а затем и в Сибири, город за городом. Одновременно ширилось и росло партизанское движение. На Дальнем Востоке уже действовала целая партизанская армия, общая численность дальневосточных партизан превысила 150 тысяч человек. Увеличились и окрепли партизанские отряды Сучанского и Шкотовского районов. Белобандиты теперь уже не отваживались оставаться в Шкотове и увели свои подразделения во Владивосток. В Шкотово вступили партизаны. Торжественно и радостно встретило их население села. Японские и американские войска, многократно заявлявшие о своём нейтралитете (хотя на самом деле они беззастенчиво всячески помогали белогвардейцам), не решались нападать на отряды партизан, поэтому в казармах шкотовского гарнизона создалось странное соседство: одну из казарм занимали американские солдаты, другую японские, а третью большой партизанский отряд. Власть в Шкотове за всё это время не менялась ни разу. Правильнее сказать, безвластие, воцарившееся после ноября 1917 года, так и продолжало существовать.
Шкотово было волостным селом со своим правлением и старшиной. Установившаяся в ноябре 1917 года во Владивостоке советская власть была кратковременной, поменять волостное начальство не успела, так оно и продолжало держаться, впрочем, почти не проявляя себя. Такое странное положение создалось не только в Шкотове, но и в других сёлах, и даже в самом Владивостоке. Наряду со штабами оккупационных войск США и Японии, а также и белогвардейцев, на той же самой Светланской улице помещался и штаб партизанских войск Приморья.
Прибытие партизан в Шкотово совпало с сороковым днём после смерти Василия Пашкевича. По обычаям православной Церкви, в этот день принято заказывать панихиду и собирать поминальный стол для ближайших родственников и знакомых. На поминки явились несколько партизан и их командиров. Они, выразив свои соболезнования семье Петра Пашкевича по поводу гибели его сына, рассказали, что им было заранее сообщено о выходе отряда белых во главе с офицером Пашкевичем. Партизаны предполагали, что этот офицер – Гавриил Михайлович Пашкевич, и поэтому устроили засаду. На Василия Пашкевича они нападать бы не стали, а вступив с ним в переговоры, может быть, привлекли бы его на свою сторону.
Между тем время шло. В феврале 1920 года стало известно, что войска Колчака окончательно разбиты Красной армией, а сам он расстрелян в Иркутске. Это упрочило положение партизан, тем более что после ликвидации Колчака американское правительство под давлением своего народа вынуждено было вывести отсюда войска. Таким образом, к весне 1920 года на Дальнем Востоке России из интервентов остались одни японцы. Под их прикрытием и при их поддержке продолжали формироваться различные правительства во главе с генералами и атаманами. Эти правительства иногда существовали всего несколько дней, а затем сменялись новыми.
Ещё в конце 1919 года ЦК РКП(б), по предложению В. И. Ленина, приняло решение создать на Дальнем Востоке буферное государство, которое, постепенно освободившись от интервентов и белогвардейцев, помогло бы сделать Дальний Восток советским. Сама советская Россия, ведя в это время войну с панской Польшей и белогвардейцами Врангеля, ввязываться в войну с Японией не могла, поэтому 6 апреля 1920 года была провозглашена Дальневосточная республика. В её состав вошли области: Забайкальская, Амурская, Приморская, Сахалинская и Камчатская. Центром ДВР временно был избран сперва Верхнеудинск, а после изгнания банд атамана Семёнова город Чита. Поскольку в состав правительства ДВР, избранного на Учредительном собрании в апреле 1920 года в Верхнеудинске, вошли представители не только большевиков, но и других партий, было объявлено, что ДВР является республикой буржуазно-демократической, а созданная из партизанских отрядов армия – народно-революционной, у иностранных государств, в том числе и у Японии, не стало оснований для поддержки белогвардейских генералов, утверждавших свои правительства. Однако японские империалисты сделали ещё одну попытку разгромить вновь созданную ДВР и её вооруженные силы.
В ночь с 5 на 6 апреля 1920 года во всех населённых пунктах, где находились совместно японские войска и партизаны, японцы вероломно напали на партизан и, пользуясь внезапностью, сумели причинить немалый урон. Кроме того, они захватили владивостокский партизанский штаб, возглавляемый видными революционерами-большевиками: Лазо С. Г., Луцким А. И., Сибирцевым В. М и Цапко А. Т. Такое выступление произошло и в селе Шкотово. Вечером 5 апреля, по случаю праздника Пасхи партизаны устроили вечер, на который пригласили, кроме жителей села, и японских солдат. Глубокой ночью, когда все уже спали беспечным сном, японцы ворвались в казармы партизан и начали дикую резню. Те, не понимая со сна, что случилось, выскакивали на улицу в одном белье и падали, сражённые пулями интервентов. В этой бойне погибло более половины партизан, стоявших в Шкотове, спастись удалось немногим: некоторые убежали в сопки, другие спрятались в домах местных жителей.
Большинство сельчан ещё ночью, услышав стрельбу, крики раненых и дикие вопли на японском языке, поняли, что происходит и, не дожидаясь, пока явятся японцы в поисках бежавших от расправы партизан и «бурсуиков», запрягли телеги, оседлали лошадей и, похватав ребятишек, а также кое-что наиболее ценное из имущества, до рассвета умчались в ближайшие сопки.
Утром, с восходом солнца, японские солдаты и сопровождавшие их полицейские – предатели, большей частью из корейцев, бросились вылавливать и выискивать беглецов. Но большинству из бежавших от побоища в казарме удалось скрыться. С теми же, кого японцам всё-таки удалось поймать, они расправились самым зверским способом, надругавшись даже над трупами убитых. В числе погибших оказался двоюродный брат Акулины Григорьевны, Семён Калягин. Он был горбат, японцы ему разрубили горб и вырубили из туловища голову. Многие трупы были изуродованы штыками до неузнаваемости. У всех убитых и даже ещё живых тяжелораненых партизан японские солдаты отрезали уши. Вероятно, они учинили бы и более жестокую расправу над оставшимися и сильнее надругались бы над трупами погибших, но убежавшие партизаны и жители села донесли вести о вероломном нападении японцев в Шкотове до партизанских отрядов, находившихся поблизости. Эти отряды, размещённые в мелких селениях, где японских гарнизонов не было, соединились и быстро двинулись в Шкотово. Японцы натиска партизан не выдержали и, погрузившись на поезд, удрали во Владивосток, больше они в Шкотово не возвращались.
В течение последующих 3–4 дней партизаны и вернувшиеся жители села подбирали трупы погибших по склонам и кустам гарнизонной сопки и хоронили их в братской могиле, выкопанной в центре сельского кладбища. Удалось найти и спасти несколько человек раненых. Разгром отряда в Шкотове нанёс ощутимые потери партизанам Сучанского и Шкотовского районов, но в то же время пополнил их ряды многими добровольцами-крестьянами, возмущёнными вероломством и зверством японцев.
Всю весну и начало лета 1920 года японские войска безуспешно пытались сломить сопротивление партизан в ДВР, не помогли им и такие приспешники, как атаман Семёнов и другие. В июле 1920 года Япония вынуждена была заключить с ДВР перемирие, по которому японцам пришлось вывести свои войска из Забайкалья, а части Народно-революционной армии, опираясь на поддержку РСФСР, немедленно ликвидировали семёновское белобандитское гнездо. Правительство ДВР переехало в г. Читу. В Амурской, Хабаровской и Приморской областях ДВР японцы ещё продолжали держать свои войска, хотя и сосредоточили их в крупных городах: Благовещенске, Хабаровске, Спасске, Никольск-Уссурийске и, конечно, во Владивостоке.







