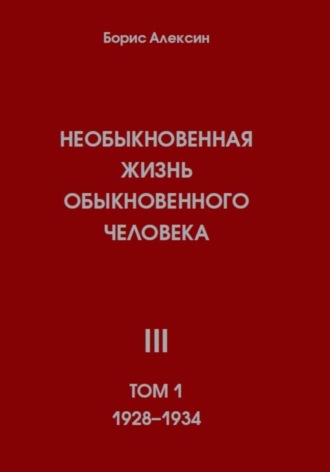
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
Все эти вещи проделывались в присутствии остальных курсантов, многие из которых, хотя и не имели права смеяться громко, так как в этом случае могли сами попасть в подобное положение, однако, улыбались, шёпотом высказывали друг другу свои, конечно, ехидные замечания, а уж после очередного «урока» в своём «солдатском клубе» давали полную волю остроумию. Их шутки могли вывести из себя кого угодно, и даже такой, в общем-то, добродушный человек, как Яша Штоффер, и тот взрывался. Однако он скоро нашёл себе защитника, им оказался Беляков. Петька, отличаясь большой физической силой, был очень добр, и однажды, не выдержав того глумления, которое ротные остряки устроили вокруг только что перенёсшего очередную экзекуцию Штоффера, медленно подошёл к их кучке, поднял за шиворот одного из наиболее рьяных и так его тряхнул, что пуговицы с гимнастёрки посыпались на пол, как горох, а когда отпустил его, тот со страха не мог устоять на ногах, а сел прямо на влажный асфальт. Петька взял онемевшего от удивления Штоффера под руку и сказал:
– Пойдём, Яша, в казарму. А вы запомните: если хоть раз кто-либо над ним будет насмехаться, то тряхну ещё и не так! А ты, – обернулся он ко всё ещё сидевшему курсанту, – собери поскорее пуговицы и пришей их на место, а то вдобавок от старшины наряд заработаешь!
С тех пор насмешки над Штоффером, если и не прекратились совсем, то, во всяком случае, значительно ослабли. Однако Яшка Штоффер с не меньшим рвением продолжал использовать клуб и самодеятельность для ухода от ненавистных ему, как он говорил, отделенных и старшины.
Буквально с первых же дней существования роты, в ней, по инициативе политрука Савельева, появился боевой листок. Назывался он по примеру всех, издававшихся ранее в роте, «Одногодичник». Судьба послала ему хорошего редактора, им оказался Костя Ротов. Он был не только талантливым художником-карикатуристом (известно, что потом он длительное время сотрудничал с «Крокодилом»), но и прекрасным организатором-редактором. «Одногодичник» отличался красочностью, блистал разнообразием, количеством и злободневностью заметок весь 1929–1930 год. Он всегда занимал первое место не только среди стенгазет полка, но и во всей дивизии.
Дня через два после принятия присяги в роте произошло новое большое событие. Под командованием старшины рота проследовала на оружейный склад, и каждый курсант получил новенькую, всю в густой смазке трёхлинейную винтовку образца 1895 года. Командиры взводов говорили, что эта винтовка модернизируется и, очевидно, со следующего года начнётся перевооружение армии, но пока и эта «старушка» действует хорошо и безотказно. Вернувшись в казарму, каждый получил по брезентовому ремню для ношения винтовки. Оружие вручал старшина Белобородько. На столе, стоявшем у входа в склад, лежал список роты. Старшина брал винтовку из рук кладовщика, достававшего её из длинного ящика, куском пакли обтирал казённую часть ствола, и тогда становился отчётливо виден царский герб, а под ним –шестизначный номер. Белобородько вписывал этот номер против фамилии стоявшего перед ним курсанта, вручал винтовку, показывал, где нужно расписаться и говорил:
– Товарищ Алёшкин, номер вашей винтовки 385423, запомните его на всю жизнь. Берегите это оружие! Следующий.
Курсант, получивший винтовку, осторожно опускал её прикладом вниз и, стараясь не испачкать смазкой свою новенькую шинель, повернувшись кругом, отходил от стола и занимал своё место в строю.
Вечером этого дня все прочие дела и занятия были забыты: нужно было привести личное оружие в боевое состояние, как выразился старшина. Получив от командиров отделения специальный прибор для чистки винтовки, уложенный в маленькую брезентовую сумочку и состоявший из маслёнки с двумя отделениями, отвёртки, наконечника для шомпола, клочка пакли и небольшой бязевой тряпки из старого белья, каждый курсант занялся делом. До этого все уже неоднократно разбирали имевшуюся в каждом взводе учебную винтовку, и потому успели достаточно хорошо запомнить названия всех её частей, определить их взаимодействие и назначение. Для грамотных людей это оказалось несложным, и курсанты за полтора месяца изучили «Наставление о личном стрелковом оружии», тогда как обычно красноармейцы тратили на это до пяти месяцев.
Разборка и протирка своих винтовок особого труда для них не составляла, но, однако, это была не учебная, а настоящая боевая винтовка – с ней, может быть, придётся идти в бой, из неё нужно будет стрелять по врагу, и первая очистка своего оружия для каждого курсанта вылилась в какое-то священнодействие. Все отнеслись к этому делу с большим вниманием и серьёзностью. Видимо, так же серьёзно отнеслись к первому знакомству курсантов с боевым оружием и командиры: на этой первой чистке присутствовали не только младшие командиры, но и все комвзводов. Они самым внимательным и придирчивым образом осматривали каждую вычищенную деталь и давали указания, как следует смазывать винтовку.
Многим, в том числе и Борису, пришлось не один раз повторять чистку канала в стволе, пока проверявший его командир взвода Новиков лично разрешил-таки, наконец, смазать чистый ствол тонким слоем оружейного масла.
Как потом стало известно, ночью этого дня в роту приходил командир роты Константинов и лично осматривал каждую винтовку, при этом присутствовал старшина Белобородько, не умевший скрыть своего волнения и беспокойства из-за проверки. Потом дневальные (уже около месяца назначавшиеся из курсантов) говорили, что они в первый раз видели, как их грозный начальник (старшина) дрожал, как осиновый лист, потел, как в парной, когда стоял около командира роты и наблюдал за его действиями. Однако Константинов, видимо, остался доволен результатом, так как, осмотрев последнюю винтовку, повернулся к старшине и негромко произнёс:
– Хорошо! Молодец, Белобородько!
– Как будто бы старшина все винтовки чистил, – обиженно замечали рассказывавшие об этом случае дневальные.
Но и они, и все курсанты прекрасно понимали, что, если старшина и не чистил сам винтовки, то его заслуга в том, что они были вычищены хорошо, была немалая.
Все надеялись, что теперь, после получения оружия, начнутся занятия по стрельбе, а там уж недалеко и до боя, на деле оказалось не так. Полученные винтовки пока не только не принесли радости в жизнь курсантов, а, наоборот, прибавили много новых трудностей и хлопот. Полученные старшиной боевые патроны мирно лежали под замком в специальном ящике, их пока ещё никто и не видел.
Стрелковые занятия, проводимые почти каждый день, заключались по-прежнему в наводке учебных винтовок со станка по бумажной мишени со специальными указками. Для тех, кто не знает этот способ изучения стрельбы, можем вкратце сообщить, в чём он заключается. Винтовка, укреплённая на специальном станке кем-либо из командиров, регулируется так, что при правильном положении головы и правильной линии прицеливания от глаза через прорезь прицела на мушку, противоположный конец её должен упираться в центр мишени. В занятиях участвовали двое: один подходил к винтовке и, приложив голову к ложу, глядя через прицел на мушку, командовал второму, державшему в руках палочку с маленьким кружком на конце, двигать эту «указку» в разных направлениях до тех пор, пока, по его мнению, центр этого кружка не окажется в центре мишени. Когда такое положение было достигнуто, он командовал: «Точку!» – и его помощник остро отточенным карандашом, через отверстие, имевшееся в кружке, ставил точку на мишени. Так повторялось пять-десять раз, затем «стрелявший» подходил к мишени и смотрел, насколько его точки отступали от поставленной командиром цели. Первое время у многих такие расхождения составляли несколько сантиметров, изредка совпадали.
В первом отделении первого взвода, а потом, как оказалось, и во всей роте, наиболее успешно это упражнение выполняли Беляков, Алёшкин, Хоменко и Шадрин, хуже всех обстояло дело у Штоффера. Это, как будто бы простое упражнение, проводилось чуть ли не ежедневно и порядочно всем надоело. Между прочим, среди неудачников оказался и Колбин, который очень возмущался.
Вскоре после получения оружия перед Беляковым и Алёшкиным, вследствие хороших показателей по наводке из учебной винтовки, а также и потому, что оба они до призыва уже имели дело с огнестрельным оружием, была поставлена новая задача, которая, отняв у них много времени, избавила их и от ряда неприятных обязанностей и, прежде всего, от нарядов, связанных с уборкой помещений. Дело в том, что полученные ротой, как, впрочем, и всеми воинскими частями ОДВА, винтовки поступали на дивизионные и полковые склады из арсенала, находившегося на Русском острове около Владивостока. Ещё в самом начале XX столетия, когда царское правительство России приступило к военизации Дальнего Востока (строительство казарм, береговых батарей, завоз воинских частей и оружия), Русский остров, расположенный перед входом в бухту Золотой Рог, самим своим положением как бы являлся некоторой естественной крепостью, первой линией обороны Владивостока с моря. Естественно поэтому, что военные специалисты царской армии первым делом воздвигли на нём солидные укрепления, а в скалах, окружавших глубокую внутреннюю бухту острова, построили огромные, глубокие склады для хранения оружия и боеприпасов.
Во время империалистической войны I914–1918 годов русская промышленность не могла обеспечить нужды своей огромной армии в оружии и боеприпасах. Уже с 1915 года царское правительство начало закупку во Франции и других странах боеприпасов и винтовок. Однако требовалось, чтобы на винтовках штамповался герб Российской империи. Безопаснее всего доставлять в Россию это оружие было через порт Владивосток. Из-за неповоротливости бюрократической царской администрации полученные во Владивостоке винтовки и патроны так Германского фронта и не увидели, и в значительном большинстве были законсервированы на складах Русского острова. Впоследствии на эти склады добавилось оружие, поставленное интервентами Колчаку и прочим белогвардейцам, которые израсходовать его не успели. Не успели вывезти или уничтожить его и поспешно отступившие из Приморья под ударами Красной армии и Народной армии Дальневосточной республики и интервенты. Таким образом, в первые годы существования советской власти на Дальнем Востоке это оружие пригодилось для вооружения частей ОДВА.
Изготовление винтовок за границей, как видно, происходило в большой спешке, и потому ни одна из них на заводе не была пристрелена. Каждая воинская часть должна была, получив новые винтовки, произвести их пристрелку самостоятельно. Обычно эту работу выполняли оружейные мастера и наиболее меткие стрелки из числа младших командиров, выделяемые для этой цели командованием полка. В этом же году полк фактически был разделён на две части: старослужащие на границе вели бои с белокитайцами, там же находились почти все оружейники, а прибывшее пополнение готовилось ускоренным порядком, благодаря чему все младшие командиры были загружены по уши, поэтому подразделения не могли выделить для пристрелки оружия ни одного из младших командиров.
Командир полка, ознакомившись с материалами подготовки к стрелковому делу курсантов различных рот из нового пополнения, решил поручить пристрелку винтовок им. В тире, находившемся в расположении казарм, провели пробу: отобрали десять человек, давших наилучшие результаты по наводке, в одно из воскресений выдали им по пять патронов и на всех одну, ранее отлично пристрелянную винтовку из мастерской. В тире на расстоянии ста метров установили мишени, и отобранные по очереди произвели стрельбу лёжа с упора. Беляков выбил 48 из 50 возможных очков, Алёшкин – 45, Хоменко и Шадрин – по 43, остальные – 40 и 39.
Командир роты Константинов, которому поручили руководство этой работой, выбрал первых четверых, им он поручил каждый день не менее двух часов заниматься пристрелкой винтовок – сперва для своей роты, а затем и для полковой школы. Таким образом предстояло пристрелять более трёхсот винтовок. Константинов разбил стрелков на пары с таким расчётом, чтобы каждая пара стреляла через день, в помощь им выделялся один ружейный мастер. Борис попал в пару с Беляковым.
Отобранные очень гордились этим доверием, хотя пока ещё и не представляли себе трудности этого дела. Как оказалось, двухчасовая пристрелка требовала большого физического напряженная, и если Беляков и Хоменко, привыкшие к тяжёлой физической работе, эти два часа выдерживали хорошо, то Борис и Шадрин к концу пристрелки уставали чрезвычайно, а правое плечо от многократных отдач потом ныло всю ночь. Естественно, что если в начале стрельбы они все давали приличные результаты, то к концу уже начинали мазать. Это привело к тому, что некоторые винтовки приходилось пристреливать повторно. На пристрелку одной винтовки давалось 5–6 патронов. После каждой пары выстрелов стрелявшие вместе с ружейным мастером шли к мишеням и определяли отклонения выстрела от центра. В соответствии с этим мастер подвигал, подпиливал мушку или подтягивал опорный винт. Затем стрельбу повторяли, снова проверялось и снова исправлялось прицельное приспособление.
Были винтовки, не требовавшие почти никакой регулировки – они давали сразу отличные показатели, но были и такие, что, промучившись с ними полчаса, их начисто браковали. Конечно, работу пристрелочников, как их стали звать в роте, проверяли. Проверку проводил командир взвода Новиков, имевший отличные показатели по стрельбе, и старшина Белобородько, тоже метко стрелявший. Оба они были, как тогда говорили, ворошиловскими стрелками.
По окончании пристрелки винтовки составлялись в специальную пирамиду, и вечером с 17 до 18 часов Новиков или Белобородько делали из каждой из них по одному-два выстрела. Если результаты их удовлетворяли, оружие считалось пристрелянным. На каждую винтовку составлялась стрелковая карточка, в которой после окончательной пристрелки были указаны точками места попадания в мишень. Каждый красноармеец должен был изучить эту карточку своей винтовки, чтобы знать тонкости прицеливания.
Ежедневно, сразу же после получения винтовок, вне зависимости, подвергалась она стрельбе или нет, винтовку приходилось чистить и смазывать. В строевой подготовке винтовки участвовали непременно. Тщательно отрабатывались команды «на ремень», «к ноге». В те годы на плече (как было принято в царской армии, а затем – в торжественных случаях и в советской) винтовку не носили, обычное походное положение её было «на ремне». Ремень набрасывался на правое плечо, а винтовка висела за этим плечом прикладом вниз. В особо торжественных случаях винтовку несли, держа её перед собой штыком вперёд по команде «на руку». При небольшом передвижении и стоянии на месте винтовка находилась у правой ноги прикладом на земле. Такое положение принималось по команде «к ноге». Евстафьев почему-то командовал «к ноги!»
Кроме этих строевых положений оружия, отрабатывалось и много боевых: многочисленные приёмы штыкового боя, производившиеся с чучелами, удары прикладом, толчком вперёд и сверху, как дубиной. Эти приёмы требовали большой ловкости в исполнении и достигались длительной тренировкой. Отрабатывались все положения винтовки для стрельбы: лёжа, с колена, стоя и даже сидя.
Кроме того, старшина очень часто по утрам после прогулки устраивал физкультуру с винтовками, как он говорил, для выработки крепости руки. Белобородько приказывал соответствующими командами приложить винтовку к плечу, как для выстрела, а затем «отнять левую руку» – по этой команде приходилось держать тяжёлую винтовку у плеча только одной рукой, причём в таком положении нужно было находится несколько минут. Такое упражнение для всех было трудным: правая рука уже через минуту начинала невыносимо болеть, затем дрожать и, наконец, когда она, кажется, совсем была готова отвалиться, слышалась спасительная команда «к ноге». После минутного отдыха – новое упражнение: «отнять правую руку», и всё повторялось сначала. Спустя пару недель таких занятий, однако, все могли уже довольно свободно держать одной рукой винтовку у плеча не менее 30 минут.
Вскоре старшина ввёл новое упражнение, велев снять штык и взять винтовку за конец дула, поднять её перед собой вытянутой рукой и держать таким образом тоже не менее 2–3 минут. Надо сказать, что это упражнение с первого раза, кроме Петьки Белякова, не осилил никто, а уже через месяц его выполняли почти все.
Когда ко дню Красной армии рота разучивала специальные гимнастические упражнения с винтовками, натренированные старшиной курсанты выполнили их блестяще. Винтовка летала в их руках, как перышко, и их согласованные повороты, перехватывание оружия, подбрасывание его и чередование различных приёмов штыкового боя представляли приятное зрелище.
Вернувшиеся к этому времени в гарнизон командир дивизии Ануфриев и командир полка Родионов высказали своё одобрение. Рота получила благодарность перед строем полка, но всё это пришло потом. А пока же каждый курсант, обливаясь потом, выполнял ненавистные команды старшины и думал, что злее зверя, чем этот Белобородько, на свете нет.
В ноябре 1929 года белокитайцы попытались вновь нарушить советскую границу. Собрав значительные силы около станции Манчжурия, они начали наступление, но к этому времени части ОДВА были уже подготовлены к боям, пополнены вооружением и новыми войсковыми соединениями и поэтому сумели ответить таким мощным контрударом, что разбили наступающие китайские части в пух и прах. Уничтожили много вражеских солдат и примкнувших к ним белых из банд Семёнова. Захватили в плен более десятка тысяч солдат и офицеров, в том числе пленили чуть ли не всех генералов, руководивших наступлением. Это поражение окончательно сорвало всю китайскую авантюру, и правительство Гоминдана запросило перемирия. В результате на переговорах Китай признал неправильность своего поведения и восстановил статус-кво на КВЖД.
Соглашение по ликвидации конфликта на КВЖД было подписано в Хабаровске 20 декабря 1929 года. Немного раньше в гарнизон начали возвращаться с границы части, участвовавшие в боях, вернулась и соответствующая часть 5-го Амурского стрелкового полка. Правда, вернулись далеко не все: из состава первой роты, курсанты которой воевали в качестве командиров взводов, погибло 14 человек. Их список на большом куске красной материи вывесили в ленинском уголке, там же на специальном щите поместили и их фотографии. Сразу же по возвращении началась демобилизация красноармейцев, отслуживших положенный срок – два года (фактически им пришлось служить более двух с половиной лет), и тех средних командиров, получившихся из одногодичников, которые не захотели остаться в кадрах Красной армии.
К концу декабря 1929 года 5-й Амурский полк принял свой нормальный вид, все подразделения и командиры находились уже в Благовещенске. Учение и выполнение всех обязанностей стало проходить обычным порядком. То же произошло со всеми остальными частями, расквартированными в Благовещенске. В гарнизоне стало шумно и людно. Части ещё не были сокращены до штатов мирного времени, каждый полк состоял, по крайней мере, из полутора тысяч человек. Такое многолюдье сразу облегчило положение нового пополнения, в особенности курсантов-одногодичников и полковой школы, ведь до прибытия частей с границы всю гарнизонную службу приходилось нести им, поэтому чуть ли не каждую неделю какой-нибудь из взводов первой роты попадал в гарнизонный караул и отправлялся на сутки или к артиллерийским, или к химическим складам, или ещё куда-нибудь. Много времени отнимали полковые наряды у продовольственных и вещевых складов. Если наши герои, попав в пристрелочники, тяжесть нарядов почти не чувствовали, то всем остальным досталось порядочно. Теперь в наряды рота одногодичников стала попадать гораздо реже, и курсанты смогли больше времени уделять учёбе.
Учиться, между тем, становилось всё сложнее. Если в первые месяцы службы всех изматывала строевая подготовка и зубрёжка уставов, то позднее об этом времени вспоминали, как о счастливом и незагруженном. Теперь преподаватели ежедневно читали лекции по самым разнообразным предметам, давая только основные, совершенно необходимые знания, подробности нужно было разыскивать и выучивать самим по многочисленным наставлениям, уставам и учебникам. Достаточно только перечислить названия предметов, чтобы понять, как загружено было время курсантов.
Прежде всего, изучалась тактика пехоты по боевому уставу в двух частях, по тактическому уставу – тоже в двух частях и по специальному учебнику; затем топография, сапёрное дело, химическая защита и нападение, артиллерия, взаимодействие пехоты с танками и авиацией, изучение пулемёта «Максим» – теоретическое и практическое, пулемёта Дегтярёва (только что появившегося на вооружении, сборку и взаимодействие частей которого командиры взводов сами плохо знали), изучение гранат – русской и Мильса, револьвера наган и только что появившегося пистолета ТТ. Кроме этого, курсанты изучали иностранное оружие: японское, американское, немецкое. Усложнились и политзанятия. Довольно часто ротам одногодичников обоих стрелковых полков одновременно читал лекции комиссар дивизии. Помимо всего этого не уменьшалась нагрузка и по строевой подготовке, и по физкультуре. В последнюю, в связи с наступлением зимнего времени, были введены некоторые изменения: например, на утреннюю прогулку и бег теперь старшина выводил роту в шинелях, и после четырёх кругов пробежки по плацу от курсантов валил пар, как от загнанных лошадей. Однако со временем такой бег стал привычным, и рота уже могла пробежать без отстающих пять и даже шесть кругов.
Конечно, все курсанты сетовали на бесчеловечность старшины, но, во-первых, жаловаться на требовательность начальства было нельзя, в чём один из курсантов, некто Николай Паршин, убедился на собственном опыте, а во-вторых, вскоре все поняли, что старшина мучает их не зря, а в предвидении больших трудов, которые им предстояли. Нам хочется рассказать про некоторые случаи, происшедшие во время физкультуры.
Паршин, в прошлом ученик Московского театрального училища, участник полковой самодеятельности, обладал отличным умением читать всевозможные, главным образом, героические, прочувствованные стихи, чем очень нравился старшине Белобородько, который, при всей своей суровости, видимо, в душе был довольно сентиментален. Пользуясь благоволением старшины, не раз хвалившего его чтение, Паршин попробовал манкировать утренними прогулками. Физически развитый не очень хорошо, он выдыхался в беге уже на 2–3 круге. Однажды, пробежав всего половину установленной дистанции, он самовольно перешёл на шаг и не только отстал от роты, но даже вышел с протоптанной дорожки и медленно брёл по её краю. По окончании прогулки старшина вызвал его из строя и спросил, чем вызвано такое нарушение дисциплины. Паршин ответил, что он устал.
– Вы что, нездоровы? – спросил старшина.
– Да, что-то горло и голова болит, – ответил Паршин, поняв, что дело может окончиться плохо. Белобородько, хотя и не показал вида, но, наверное, встревожился. Он поручил одному из помкомвзводов отвести роту в казарму, а сам вместе с Паршиным направился в «околоток» – так почему-то называли полковой медпункт. После осмотра Паршина врачом, кстати сказать, тоже из одногодичников этой же роты, старшина отправил «больного» в казарму. О чём говорил старшина с врачом, было неизвестно, но вечером на поверке он вызвал Паршина из строя и объявил ему, что за обман командира и невыполнение приказа на утренней прогулке на него накладывается взыскание – три наряда вне очереди (это был максимум того, что мог дать старшина). Такого строгого наказания в роте ещё никто не получал. Паршин возмутился и на следующий день отправился с жалобой на старшину к командиру роты Константинову. Тот его внимательно выслушал, затем, встав из-за стола, отчётливо произнёс:
– Курсант Паршин, за незнание дисциплинарного устава, за то, что вы осмелились обратиться с жалобой на старшину, минуя определённые уставные инстанции, за то, что вы жалуетесь на строгость командира, считаю нужным наказание, наложенное старшиной Белобородько отменить. Вместо него вы будете подвергнуты аресту на гауптвахте на пять суток.
Затем он повернулся к находившемуся в кабинете командиру взвода, в котором служил Паршин, и сказал:
– Товарищ Васильев, объявляю вам замечание за недостаточную подготовку курсантов и слабое знание ими дисциплинарного устава. Немедленно отправьте курсанта Паршина на гарнизонную гауптвахту.
Это было первое серьёзное наказание в роте, и потому оно произвело на всех бойцов ошеломляющее впечатление. Кроме того, все знали, что Паршин вообще-то, дисциплинированный комсомолец, хорошо успевающий курсант, и были удивлены строгостью командира роты.
Павлин Колбин поднял этот вопрос на комсомольском собрании, и политруку Савельеву немало пришлось потратить времени, чтобы суметь разъяснить, что действия командиров в Красной армии на комсомольских и партийных собраниях обсуждению не подлежат. Они проверяются, если необходимо – отменяются, только высшими служебными и партийными инстанциями.
Очевидно, такая суровость наказания с первого же раза была необходима, чтобы впредь всякие сетования на несправедливость или строгость того или иного командира ограничивались пределами «солдатского клуба». Во-вторых, как мы говорили уже, вскоре все поняли необходимость такой утренней тренировки.
С середины декабря 1929 года рота, иногда одна, а иногда в составе первого батальона, а затем и всего полка, по крайней мере, раз в неделю совершала поход. Первое время эти походы имели длительность 4–5 километров, но с каждым разом расстояние удлинялось и к весне достигало уже 15 километров. Поход проводился с полной выкладкой – бралось оружие, всё снаряжение: противогаз, лопата, фляга, подсумки и вещевой мешок, в который помимо котелка, кружки, ложки, полотенца и пары белья, командиры отделений вкладывали по одному, а затем и по два кирпича. Мало того, что со всем этим нужно было пройти довольно большое расстояние, следовало ещё уложиться в строго определённое время. Оно, кстати сказать, от похода к походу сокращалось, и, чтобы не опоздать, часть пути приходилось бежать.
Кроме того, между взводами и ротами велось соревнование. Всем хотелось быть первыми, и командиры взводов и рот прикладывали много усилий для того, чтобы перегнать друг друга. Вот, во время этих походов курсанты и вспомнили с благодарностью требовательность своего старшины, так безжалостно гонявшего их на утренних прогулках.
Занятия по физкультуре проходили теперь в специальном классе, где были установлены разнообразные гимнастические снаряды. Борису удалось достичь самых высоких показателей по прыжкам через козла и кобылу – видимо, помогли упражнения, проводившиеся в школе в Кинешме. Все же остальные снаряды вызывали у него если не настоящее отвращение, то довольно сильную неприязнь, и на них он справлялся с заданными упражнениями с трудом.
Самым лучшим гимнастом в роте был курсант третьего взвода Николай Бочинский, но и он был не в состоянии показать своё истинное искусство. Дело в том, что в то время все красноармейцы, в том числе и курсанты, занимались на снарядах в обмундировании и в тяжёлых сапогах, разрешалось снять только поясной ремень. Следует заметить, что у Алёшкина физкультура являлась единственным предметом, по которому он вытягивал только на «хорошо», по всем остальным, а их было пятнадцать, оценки были отличные, поэтому к годовщине Красной армии (23 февраля 1930 г.) он был в числе немногих курсантов, получивших благодарность в приказе по дивизии.
Сразу же по окончании конфликта на КВЖД Дальневосточная армия была награждена орденом Красного Знамени и стала называться ОКДВА – Особая Краснознамённая Дальневосточная армия.
Время шло, а вместе с ним быстрыми шагами двигалось вперёд и обучение курсантов, ведь в течение года им надлежало пройти ту же программу (кроме общеобразовательных предметов), которую проходили выпускники военно-пехотных школ за три года, значит, занятия ожидались более напряжённые.
Наряду с теорией, необходимо было познавать и практику, и, к немалой радости командиров отделений и помкомвзводов, на командные должности младших командиров в караулах (разводящих, начальников смен и даже начальников караулов) стали назначать наиболее успевающих курсантов. Курсанты теперь выполняли и обязанности дежурных по роте. С одним из них, опять-таки с Колькой Паршиным, произошёл любопытный случай, послуживший основанием для довольно едких и длительных насмешек.
Как известно, дежурный по роте, а при его отсутствии дневальный, видя какого-либо начальника, входящего в казарму, был обязан подать громкую команду «смирно» и доложить вошедшему командиру о том, что происходит в казарме. За день сюда заходило порядочно командиров, и поэтому команда «смирно» звучала не так уж редко (она не подавалась только во время сна). Обычно первым, кто её заслуживал, был дежурный командир взвода, являвшийся утром раньше всех. Другим командирам взводов эта команда уже не подавалась. Следующим, для кого она звучала, был политрук, и последним её выслушивал командир роты Константинов. Конечно, эта команда подавалась и для командира полка, командира дивизии, комиссара, когда они заходили в помещение роты. В этот день дело обстояло так.
Командарм ОКДВА Блюхер в конце декабря 1929 г. и начале января 1930 г. объезжал все гарнизоны, чтобы ознакомиться с зимним размещением частей и одновременно вручить отличившимся в боях с белокитайцами правительственные награды. Обходя Благовещенский гарнизон, он зашёл в первую (лучшую) роту 5-го Амурского стрелкового полка. В этот день в ротном наряде дневальным был Паршин. Когда в помещение роты вошёл Блюхер, то Паршин отсутствовал, второй дневальный отдыхал, и рапорт командарму отдавал дежурный. Это было время самоподготовки, все занимались в классах. Алёшкин и его ближайшие друзья находились в ленинской комнате.
Внезапно появившийся командарм (командир с четырьмя ромбами), хотя и привёл в смущение дежурного, но он сумел отрапортовать достаточно толково. Блюхер похвалил его, пожал ему руку и в сопровождении целой свиты командиров, прибывших с ним как из Хабаровска, так и из штаба дивизии и полка, медленно двинулся по казарме, классам. Он разговаривал с курсантами, интересовался их бытом, питанием, успехами. Дежурный по роте его сопровождал. Когда командарм зашёл в ленинскую комнату, то вдруг внезапно раздалась снова громкая команда «смирно», произнесённая взволнованным голосом Паршина. Все приняли соответствующие положение, в том числе и Блюхер. Каждый подумал (может, так подумал и он), если командарм в казарме, и звучит новая команда «смирно», значит, сюда пожаловал, по крайней мере, член Военного совета РКК, а может быть, и сам нарком Ворошилов. Усомнился в этом только один старшина роты и, бочком выскочив из комнаты, бросился к посту дежурного, но навстречу ему уже звучала новая команда, «вольно», поданная тем же Паршиным, но уже каким-то иным, отчаянным, чуть ли не плачущим голосом.







