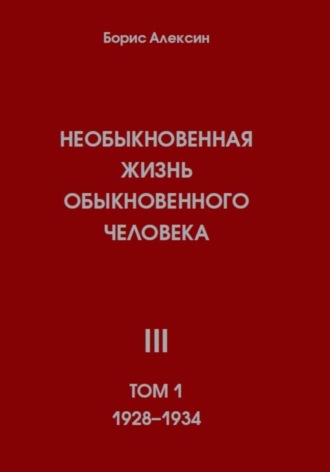
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
– Я его убил, я его убил…
Через десять минут в караульном помещении были уже врачи, дежурный по лагерю и другие командиры. Панфилов прожил около получаса. Придя в себя на несколько минут, он успел сказать:
– Я сам виноват…
Вскоре он скончался. Врачи заявили, что спасти его было невозможно: одна пуля пробила шею, а другая попала в грудь и вызвала обильное внутреннее кровотечение. Конечно, Григорьев был немедленно арестован и направлен на гауптвахту. Через три дня Панфилова похоронили со всеми почестями. Провожал его весь 5-й Амурский полк и по роте от других полков.
Несмотря на принятые меры, по городу распространился слух, что Панфилов был убит одним из красноармейцев. Как всегда, досужие кумушки, передавая друг другу эти пересуды, добавляли к ним самые нелепые вымыслы, вплоть до того, что якобы убийство произошло на почве ревности. Месяца через два после этого происшествия состоялся суд военного трибунала. Собственно, все те подробности, которые мы только что описали, и стали известны в процессе разбора в суде.
На заседание, проходившее полузакрыто в зимнем клубе 5-го Амурского стрелкового полка, каждое подразделение частей дивизии делегировало по нескольку человек. Рота одногодичников 5-го Амурского полка присутствовала вся: преступление, и притом тяжкое, совершил один из её курсантов. Все чувствовали себя немного виноватыми, этот случай как бы наложил пятно на всю роту. Дело рассматривалось очень тщательно и глубоко. К удивлению Бориса Алёшкина, да и многих других, обвинение в убийстве командира, которое вначале было предъявлено Григорьеву прокурором, трибунал отверг. В ходе судебного разбирательства удалось со всей очевидностью доказать, что часовой, увидевший в случайной вспышке молнии несущегося на него человека от реки, то есть от границы, обязан был поднять тревогу и стрелять в приближавшегося, если тот не остановится. Разглядеть в такой темноте, кем был этот бегущий человек, было невозможно. Тут действия Фёдора признали правильными. Обвинили его в том, что он не дал предупредительный выстрел вверх, и в том, что он оставил пост и оружие, бросившись спасать раненого.
Григорьев отвечал, что якобы свой первый выстрел он сделал не целясь, с единственным желанием напугать и остановить приближавшегося. Прицельным он считал только второй выстрел, но так как Панфилов имел два ранения, и одно из них смертельное, то доказать, какое из них было первым, а какое вторым, оказалось невозможно. По второму обвинению Григорьев сказал только то, что когда он разглядел упавшего и узнал в нём командира Панфилова, то так растерялся, что ничего уже не соображал и считал своей обязанностью как можно скорее оказать раненому какую-нибудь помощь.
Как бы там ни было, но поскольку отпало главное обвинение – убийство, то Григорьеву вместо ожидаемого расстрела был вынесен сравнительно мягкий приговор – два года исправительно-трудовых лагерей с последующей службой второго года рядовым красноармейцем. Все в роте радовались такому приговору, хотя, конечно, и жалели Григорьева, на его месте ведь мог оказаться любой, и неизвестно ещё, как бы он повёл себя.
После этого случая, получившего известность во всей ОКДВА, при назначении в караул, связанный с охраной границы, инструктаж наряду делал лично командир роты.
Мы говорили о начинавшихся в июле и августе ливневых дождях и грозах. Они всё учащались и учащались и, наконец, 15 августа привели к тому, что уже многими благовещенскими старожилами предсказывалось и что уже здесь случалось – в городе разразилось наводнение. Городские власти готовились к нему, но, как всегда, подготовка была недостаточно тщательной, а ожидавшееся наводнение оказалось значительно более сильным, чем предполагалось, и началось неожиданно.
Как известно, г. Благовещенск стоит на довольно узкой и длинной косе, образовавшейся в месте слияния двух крупных рек – Амура и впадающей в него Зеи. Если Амур в своих верховьях в какой-то мере и связан с горными реками, то у Благовещенска он больше напоминает равнинную реку. Проходящие в окрестностях города ливневые дальневосточные дожди, хотя и вызывают подъём воды, он обычно незначительный и сравнительно медленный. Зея – наоборот, своим обликом напоминает быструю горную реку, на всём протяжении вбирает в себя воду бурлящих горных речек, и, хотя у места своего впадения в Амур имеет ширину 200–250 метров, течёт бурно, быстрее Амура, а, самое главное, после нескольких дождливых дней вода в ней сразу же прибывает настолько быстро, что, когда она вталкивает эту массу в Амур, то там образуется как бы водяная запруда, которая ускоряет подъём воды и в нём. Так было и в этом году.
В середине ночи на 15 августа бойцы 2-й Приамурской дивизии были подняты по тревоге. Алёшкин и его друзья были уже достаточно натренированы и по сигналу «в ружьё» вскакивали моментально. В этот раз, спрыгнув с нар, все они очутились в холодной воде – выше, чем по щиколотку. Однако, привыкнув на такие мелочи, как вода, внимания не обращать, хотя все чертыхались и ругались, разыскивая в темноте плавающие портянки и сапоги, курсанты как-то особенно не удивились.
Удивление пришло позже. Когда все до этого занятые одной мыслью, как бы не опоздать в строй, наконец-таки построились около парадной линейки, то заметили, что они стоят чуть ли не по колено в воде, что вокруг палаток и лагерных домиков с журчанием струится вода, и что это не лужи после очередного ливня, а сплошной поток, река – очевидно, Амур. Пожалуй, скорее всех об этом догадался Алёшкин, который уже испытал подобное на себе в Шкотово. Для большинства других всё происходящее было пока непонятным. Борис шепнул соседям:
– Да ведь это же наводнение!
А через минуту это подтвердил и прибывший командир роты. Он сказал:
– Товарищи курсанты, на город Благовещенск обрушилось бедствие, началось сильное наводнение. Могут пострадать люди и погибнуть большие материальные ценности. Командир дивизии приказал прийти на помощь жителям. Да и самому лагерю угрожает опасность затопления. Если вода прибудет ещё хоть на полметра, то наши палатки, домики будут снесены. Нашему полку приказано спасать элеватор, там хранятся большие запасы хлеба. Его может подмочить и даже просто смыть. Мы вместе с остальными подразделениями полка сейчас выступаем туда, а здесь останется старшина, хозотделение и одно отделение третьего взвода. Они займутся спасением ротного, полкового имущества, боеприпасов, оружия и ваших личных вещей. Нам придётся крепко физически поработать, товарищи, поэтому с собой мы ничего не возьмём. Сейчас можно разойтись, снять боевое снаряжение (разумеется, по тревоге все курсанты надели всё, что положено, и взяли личное оружие) и оставить его на складе у старшины. На всё это даю вам две минуты. Разойдись!
Вскоре рота построилась вновь, а затем во главе полковой колонны, шлёпая по воде, беглым шагом направилась к городу. Местность по направлению к Благовещенску немного повышалась, и версты через две полк вышел из воды на мокрую и грязную от дождя дорогу. Вся она была покрыта лужами различной величины. Впереди колонны шёл духовой оркестр, а перед ним командир и комиссар дивизии. Было ещё совсем темно, поэтому рассмотреть всю колонну не удалось бы, но чувствовалось, что она велика.
У центральной площади города дивизионная колонна разделилась, каждый полк отправился выполнять порученное ему задание. Несмотря на глубокую ночь, город не спал: то там, то здесь слышались громкие крики, разговоры, плач женщин и детей. Бойцы 5-го Амурского двигались по направлению к самой низкой части косы, где были пристани и элеватор. По дороге то и дело встречались группы людей с узлами и маленькими детьми на руках, спешившие выбраться на более высокое место. Некоторые везли свой скарб на лошадях или тачках, почти все они были испуганы.
На одной из улиц, спускавшихся к элеватору, бойцы увидели такую картину. Вся улица была сплошь затоплена водой, по ней то и дело плыли лодки, вывозившие жителей из нижестоящих домов: вода затопила подвалы и часть первых этажей. Кругом мелькали самые разнообразные фонари: уличные, в руках спасателей электрические, «Летучая мышь» и карбидные, а многие жители несли в руках самые обыкновенные свечные. У кромки воды стояло несколько подвод, и толпились кучками вывезенные из затопленных домов люди, ожидая других членов своих семей. Полк двигался вниз. Курсанты и красноармейцы храбро вступили в воду и также размеренно продолжали своё движение. Когда они подошли к концу улицы, то вода доходила большинству бойцов до колен, а выйдя к элеватору, очутились почти по пояс в воде. Нижний этаж элеватора и мелькомбината были затоплены, нужно было спасать хлеб из его верхних отделов. Вода могла размыть фундамент старого строения, возведённого ещё до войны, и тогда пропал бы весь хлеб, зерно и мука.
К приходу красноармейцев железнодорожники собрали весь стоявший на станции Благовещенск порожняк и подали его к элеватору. В то же время к пристаням пришвартовались все имевшиеся в речном порту баржи. Часть из них удалось протолкнуть даже туда, где прежде был берег.
Полку предстояла нелёгкая работа: разгрузить от хлеба оба склада и сделать это как можно скорее. Командир полка Родионов, все командиры и политработники батальонов, рот и взводов первыми принялись за дело. Красноармейцы разбились по своим подразделениям и включились в работу. Рота одногодичников грузила хлеб в вагоны, для этого нужно было с пятипудовым мешком зерна по специальным сходням спуститься из окна элеватора, пройти шагов 50 по колено в воде, по другим сходням войти в вагон, где специальные люди принимали мешок и ссыпали зерно в подготовленные в вагоне закрома. Работа была непривычной, физически очень тяжёлой, но было понятно, что дивизия, полк и каждый из бойцов и командиров держат боевой экзамен, поэтому все работали с энтузиазмом и полной отдачей сил.
Незаметно наступило утро, также незаметно оно перешло в день. Дождь, наконец, перестал, однако вода, хотя и медленно, продолжала прибывать. Многие, в том числе и Борис, чувствовали, что силы на исходе, но никто даже и не заикался о том, чтобы прекратить работу, больше того – не устраивали и перекуров. Курили на ходу, используя на двоих и даже троих одну папиросу. Никто не думал о еде, у всех была только одна цель – спасти хлеб. Тем не менее силы людские ограничены, и вот уже кто-то, неся мешок, начал спотыкаться. Вдруг, откуда-то сверху, со второго этажа элеватора раздалась бравурная музыка духового оркестра, он играл бодрый марш Егерского полка. Музыка подействовала на всех ошеломляюще, никто её не ждал, но, как бывало и в походах, оркестр сразу всех приободрил, как бы влил новые силы. Работа возобновилась с повышенной энергией.
Как ни старались все занятые на разгрузке, количество хлеба и муки на складах уменьшалось медленно. Около двух часов дня, когда от усталости почти все валились с ног, послышалась команда:
– Прекратить работу, отойти к пристаням!
Люди направились к пристаням – их было три, на них лежали специальные длинные трапы, большей частью покрытых водой, но это никого не смущало: все были мокрыми и грязными с ног до головы. Нижняя часть тела постоянно погружалась в воду при переходе от элеватора к вагонам, а верхняя поливалась дождём. Все были основательно выпачканы, а те, кому досталась выгрузка муки, вообще имели странный вид: обсыпавшая их мука образовала липкое тесто, которое залепило им и гимнастёрки, и головы, и даже лица. Они соскребали эту массу чем придётся, однако без особого успеха.
На пристани всех ждал приятный сюрприз – обед. Правда, кроме ложек, как обычно засунутых за голенища сапог, другой посуды не имелось, и горячий, очень вкусный и густой суп пришлось хлебать сообща, прямо из больших бачков, которые повара догадались всё-таки захватить. Впрочем, нашлось несколько человек в каждой роте, у которых не было и ложек, им пришлось есть во вторую очередь, используя ложки своих товарищей.
Перерыв на обед длился около часа, затем началась та же, как сказал Павлин Колбин, адова работа. Она продолжалась до полной темноты и лишь тогда, когда на смену 5-му Амурскому пришёл 6-й Хабаровский, амурцы были отпущены. Полковая колонна устало зашагала к лагерю. Борис чувствовал себя измученным и уставшим: так невыносимо болели плечи, спина и ноги, что он был бы рад никуда не идти, а сесть здесь же, в воду, прислониться к дому и заснуть. Как потом выяснилось, в таком желании он был не одинок, очень многие испытывали то же самое. Но, тем не менее, подчиняясь приказаниям командиров, все продолжали идти вперёд к лагерю, а в некоторых ротах даже пели песни.
Трое суток боролись части 2-й Приамурской дивизии за хлеб и спасение имущества пострадавших от стихийного бедствия жителей и различных учреждений города, а затем занялись ликвидацией последствий наводнения и у себя в лагере. Благодаря самоотверженности бойцов и командиров удалось спасти десятки тысяч пудов хлеба, тысячи пудов других ценных грузов, было предотвращено затопление городской электростанции и тысячи пострадавших семей вывезены в безопасные места. Последним занимался артиллерийский полк, используя своих боевых коней.
Обком партии и облисполком Амурской области вынесли благодарность личному составу дивизии, а командарм ОКДВА Блюхер наградил 2-ю Приамурскую ордена Красного Знамени дивизию орденом Трудового Красного Знамени, и с октября, когда состоялось награждение, дивизия стала называться 2-я Приамурская ордена Красного Знамени и ордена Трудового Красного Знамени стрелковая дивизия.
Но всё проходит на этом свете. Кончилось наводнение, понемногу ликвидировались его последствия и стали забываться вызванные им несчастья. Особенно быстро забыли об этом те, кому пришлось в это время много потрудиться, но у кого постоянно появлялись новые, и, казалось, всё более трудные задачи. Мы подразумеваем курсантов-одногодичников 5-го Амурского стрелкового полка, в шутку получившего прозвище «непромокаемый».
Почти сразу же после наводнения последовал приказ об откомандировании всех курсантов на стажировку. Каждый получил назначение в то или иное подразделение полка в соответствии с тем званием, которое ему было присвоено весной. Те, кого назначили командирами отделения, и даже многие помкомвзвода чувствовали себя вольготно: рядом с ними находились настоящие командиры этих подразделений, они всегда выручали в трудную минуту и советом, и практической помощью. Гораздо хуже пришлось тем немногим, кто получил звание старшины. Дело в том, что все старшины были сверхсрочники, и когда в роту на месяц приходил старшина-стажёр, командир роты торопился своего штатного старшину выпроводить в отпуск, чтобы потом быть спокойным.
Так случилось и в пятой роте второго батальона, в которую попал стажёром Алёшкин. Настоящий старшина пробыл с ним около двух суток, а затем распростился и отбыл в неизвестном направлении. А на Бориса сразу же свалились сложные обязанности и многочисленные заботы, связанные с должностью старшины. Вероятно, многое он бы просто не осилил сделать, не сумел и не догадался бы, если бы не помощь его старшины, грозного Белобородько, который, как оказалось, был не только толковым воспитателем и требовательным командиром, но и отличным товарищем, охотно помогавшим своим подопечным во всех их трудностях. Только благодаря его советам, наставлениям и поддержке Алёшкин и другие стажёры-старшины сумели с честью справиться со своими многотрудными обязанностями за месяц стажировки, а некоторые из них получить и благодарность от командования батальонов. К чести Бориса Алёшкина надо сказать, что год службы в Красной армии не прошёл для него бесследно: он уже понимал силу и значимость приказа, необходимость дисциплины и личного примера для бойцов. Его сознательное, серьёзное отношение к воинской службе во многом помогло ему во время стажировки.
Но вот кончилась и она. 25 сентября дивизия возвратилась на зимние квартиры – в казармы. До 15 октября курсанты-одногодичники должны были сдать экзамены по всем пройденным дисциплинам, а их набиралось 18. После этого они получали звание командиров взвода («К-3»), право прицепить на свои петлицы один кубик и, таким образом, могли влиться в огромную семью среднего командного состава Красной армии.
Эти экзамены не могли идти ни в какое сравнение с весенними. Тогда по каждому предмету экзаменовал тот командир, который его преподавал, а здесь из работников штаба дивизии выделялась специальная комиссия, проводившая приём экзаменов. Всем курсантам предоставили 10 дней на подготовку. Пройденный материал повторяли с преподавателями в определённые часы, всё остальное время учили сами. Казарма курсантов-одногодичников в эти дни напоминала собой разбуженный пчелиный улей: все сновали взад и вперёд, держа в руках уставы, учебники или тетрадки, и шёпотом, вполголоса, а иногда и во весь голос, бубнили те места, которые, по их мнению, знали хуже. Не отставали от других и Алёшкин с друзьями.
Наступили экзамены. Они длились 10 дней, и эти дни оказались такими напряжёнными и сумбурными, что после того, как был сдан последний экзамен, и оставалось только узнать окончательное решение своей судьбы, курсанты чувствовали себя настолько уставшими и как бы отупевшими, что о результатах уже думали с полнейшим безразличием.
Комиссия же могла вынести разные решения. Во-первых, курсант, отлично учившийся в году и отлично сдавший экзамены, мог получить сразу звание «К-4» и носить в каждой петлице по два кубика, в обиходе это звание трактовалось как помкомроты. Успешно окончившие курс получали звание «К-3», право носить по «кубарю» и становились, таким образом, на самую первую, самую низшую ступеньку командного состава армии. Сдавшие экзамен слабо – получившие по одной трети дисциплин неудовлетворительную оценку, звание среднего командного состава не получали, а увольнялись в запас со званием старшин или помкомвзвода, дававшие им право носить в петлицах четыре или три треугольника. Впрочем, этим лицам разрешалось задержаться в армии ещё на три месяца и пересдать предметы, по которым они получили неуд, после чего могли получить звание «К-3». Наконец, четвёртую группу составляли те, кто получил более половины неудовлетворительных оценок, они должны были служить рядовыми красноармейцами второй год.
В роте одногодичников 5-го Амурского стрелкового полка курсантов четвёртой группы не оказалось. Отличников было пятеро, среди них Пётр Беляков, Павлин Колбин, Шадрин, Хоменко и Алёшкин. Курсантов, которым пришлось дополнительно пересдавать некоторые дисциплины, оказалось четверо, один из них – Яков Штоффер. Он отлично сдал все теоретические дисциплины, но получил самые худшие оценки по предметам, связанным со строем, физкультурой и стрельбой. Основная масса закончила курс успешно.
Через несколько дней после окончания экзаменов и объявления их результатов, курсанты немного пришли в себя и с нетерпением стали ждать приказа командарма ОКДВА товарища Блюхера о присвоении им соответствующих званий, а многие одновременно с этим и приказа о демобилизации. Однако и тот, и другой приказ пока задерживался.
Долгое ожидание разболтало роту: делать было нечего, занятия не проводились, слоняться целыми днями по казарме и плацу надоело, читать не хотелось. Участвовать в готовившихся к 7 Ноября выступлениях художественной самодеятельности тоже никто не рвался. Командование полка, чтобы как-то занять бездельников, назначало их в гарнизонные и полковые караулы, но и при этом многие оставались без дела. Среди них был и Борис. Правда, две небольшие группы курсантов человек по шесть в этот период всё же были заняты. Одна готовилась к поступлению в вузы (в ней находился друг Бориса, Беляков), а другая собиралась остаться в кадрах РККА (в их числе находился Шадрин).
Алёшкин чувствовал себя особенно неуютно. Дело в том, что в течение года службы на все его письма, наполненные самыми нежными словами, жена обычно отвечала довольно короткими посланиями. В них она скупо описывала свою жизнь и почти не употребляла ласковых слов. В его сердце начала закрадываться ревность и страх потерять свою Катеринку. Он пока не знал, вернее, не понимал, что за скупостью слов у его Кати скрывается большое, сильное и глубокое чувство, ведь до службы в армии ему никогда не приходилось получать от неё писем. Особенно его встревожило последнее письмо, полученное им уже в самом конце экзаменов. В нём она, между прочим, писала: «Послушай, Борька, когда же ты, наконец, вернёшься? Смотри, торопись, а то я не дождусь тебя и выйду замуж за другого».
Борис не знал, насколько серьёзны или шутливы эти слова. Не понял он и того, что этой капризной фразой Катя хотела показать, как она о нём тоскует. Он воспринял её слова как реальную угрозу ухода жены, а эта потеря казалась ему такой же страшной, как и потеря жизни. Поэтому от всех предложений готовиться к поступлению в вуз и, следовательно, после демобилизации сразу ехать сдавать экзамены в Москву или Хабаровск и снова откладывать встречу с Катей, или закрепиться в кадрах РККА, где свидание с женой также пришлось бы отложить до очередного отпуска, Борис категорически отказался, хотя и вызвал этим неудовольствие своих командиров и политических воспитателей. Из всех пяти отличников только он один отказался от подобных предложений.
Однако время шло. 30 октября 1930 года пришли сразу оба приказа: одним объявлялось присвоение званий, другим – демобилизация в запас. Через день, нацепив на петлицы новенькие кубики, почистившись и принарядившись в парадное обмундирование, с чемоданом, заполненным разным нехитрым имуществом, распростившись с командирами и казармой, Борис Алёшкин и кое-кто из его друзей уже сидели в купе вагона почтового поезда и мчались во Владивосток. О своей демобилизации никакого известия жене Борис не послал, решил нагрянуть врасплох.







