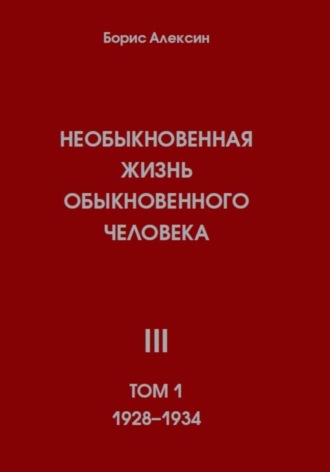
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
– Ведь Шмулевич – это бывший фабрикант, хоть и маленький свечной заводишко у него был, а всё же он капиталист, и за ним глаз да глаз нужен, свой человек около него необходим.
На это Алёшкин возразил, что если за Шмулевичем и нужен глаз, то только такой, который бы в его делах мог разобраться досконально, а он, Борис, пока ещё и в своей-то группе плавает. Если бы не Роземблюм, то он, наверно, и заявку бы не составил.
Яков Михайлович вынужден был согласиться с доводами Бориса, но всё же заметил ему:
– Ты, знаешь что, товарищ Алёшкин, на лёгкую жизнь не рассчитывай, всё равно на этой группе мы сидеть тебе долго не дадим. Работы кругом непочатый край, сообразительные люди нужны всюду.
К немалому удивлению Алёшкина, Беркович подписал заявку без каких-либо поправок, а ведь поправлять было что. Ну, может быть, в наименовании товаров Борис и Роземблюм совместно сумели создать необходимый порядок и точность, но зато в количествах… Первое время Алёшкин вообще не представлял себе, откуда и как определять нужное количество материалов. В плановом отделе ничего даже предположительно сказать не могли (планирование тогда было далеко не на высоте). Сам Борис не имел в этом деле опыта, и решили они с Роземблюмом сделать так: подсчитать количество материалов, выданных за девять месяцев нынешнего года, добавить к ним ещё четверть, а затем всё это увеличить вдвое, а кое-что и втрое, и полученную цифру поставить в заявку.
– Ведь в будущем году мы, наверно, не меньше, чем в два раза вырастем, – сказал Роземблюм, успокаивая Бориса, у которого от некоторых чисел глаза на лоб полезли. – А потом, успокойся, никто нам полностью заявку не удовлетворит, так что ещё набегаемся!
В проведении этого дела основательно помогла и устроенная по настоянию Роземблюма учётная картотека. В ней на специальных карточках, заведённых на каждое наименование, отмечались все поступления и расход. Один из торговых агентов группы целиком занимался только этой картотекой. Хотя Шмулевич и ворчал, что ведётся параллельный с бухгалтерией учёт, но Роземблюм, а за ним и Алёшкин не сдавались, и вскоре все убедились в необходимости и полезности такого оперативного учёта. Благодаря ему, руководители группы метизов постоянно знали, что у них в наличии на складе, и могли своевременно принимать меры для пополнения запасов. Те же группы, которые такого учёта не вели, а полагались на бухгалтерские данные, часто попадали впросак.
Дело в том, что в то время бухгалтерия в ДГРТ так же, как и в других хозяйственных организациях, отставала от жизни чуть ли не на полгода, и её данные для оперативной работы совершенно не годились. Этим только и можно было объяснить то, что, например, в группе продовольственных товаров некоторых видов постоянно не хватало, зато другие лежали без движения на складе и даже портились.
Как бы там ни было, но к новому 1931 году Борис мог уже смело сказать, что он фактически является настоящим главой группы, и большинство вопросов снабжения метизами может решать самостоятельно, так как уже хорошо разбирается, что именно надо тому или иному представителю, прибывшему с промысла, завода или судна, и действительно ли указанное количество требуемого следует ему выдать в настоящий момент. Последнее было крайне необходимо: у периферии отношение к составляемым требованиям сложилось примерно такое же, как у Алёшкина и Роземблюма к представляемым в центр заявкам с той лишь разницей, что заявки подавались на следующий год, и, как правило, в высших инстанциях рассматривались как весьма ориентировочный документ, а требование с промысла или другого предприятия было конкретным и подлежало немедленному удовлетворению. Тут какой-то, пусть даже самый несовершенный, контроль, был совершенно необходим.
К сожалению, большинство руководителей групп этого не понимали, и даже с необходимой для обработки рыбы солью в этом году получилось так, что на одних промыслах ею забили все склады, а на других было нечем солить выловленную рыбу, что заставило производственников бить тревогу. Руководству треста пришлось посылать специальных людей и суда, чтобы перевезти имевшуюся в излишке соль с одного места в другое, а это вело к потере времени, лишним расходам, иногда к порче выловленной продукции. Так обстояли дела почти со всеми предметами снабжения, и только группа метизов, благодаря Роземблюму, правильно наладившему работу по учёту, а также и тому, что Алёшкин толково продолжал начатое, выгодно отличалось по всему управлению снабжения. Это заметили и потребители, и правление треста. К середине 1931 года эта группа на всех совещаниях упоминалась как пример правильно организованной работы. Так как группа метизов успешно справилась с обеспечением весенней путины, то она получила благодарность в приказе по тресту.
Мы много времени уделили описанию производственной деятельности Алёшкина в этот период, но это совсем не значит, что кроме работы его ничего не волновало. При всей своей занятости он не мог отказываться от целого ряда поручений, или, как тогда говорили, нагрузок, которые сразу же свалились на него, как на молодого коммуниста-комсомольца. Во-первых, на одном из ближайших партийных собраний его избрали в состав бюро ячейки и, по старой памяти, возложили обязанности технического секретаря. Затем коллектив ДГРТ его избрал депутатом городского совета г. Владивостока, где ему поручили секцию, контролировавшую деятельность рыбной промышленности. Кроме того, узнав, что в армии он был активным участником красноармейской эстрады, местком профсоюза поручил ему организацию и руководство коллективом «Синей блузы». Хотя передвижная агитация уже и отживала свой век, но пока ещё пользовалась успехом. И, наконец, по собственному желанию Борис принимал активное участие в выпуске трестовской стенгазеты.
Большая половина одноэтажного кирпичного здания, занимаемого трестом, была отведена под клуб, где, помимо выступлений «Синей блузы», струнного оркестра и проводимых собраний, часто крутилось кино. Местком треста приобрёл кинопередвижку – такую же, как в полковом клубе, поэтому Борис иногда выступал и в роли киномеханика. Заведующим в клубе был маленький, рыжеватый, юркий человечек лет 45, работавший экономистом в плановом отделе, некто Пестиков. Зарплату в клубе он не получал: это считалось как профсоюзная нагрузка, которая, кстати сказать, отнимала у него всё свободное время. Впрочем, тогда все подобные обязанности выполнялись бесплатно и в нерабочее время.
Конечно, у Бориса общественная нагрузка отнимала так много времени, что порой ему казалось, неплохо бы иметь в сутках не 24, а 25 часов. Жизнь эта поглощала его целиком. Так же загружена была и его молодая супруга, где уж там было думать о своей единственной дочке! Поэтому поездка за ней со дня на день откладывалась, но…
Как много этих «но» в жизни каждого человека! Так вот, судьба распорядилась иначе. В самом конце 1930 года, поздно вечером, когда усталые Алёшкины, делясь впечатлениями о событиях дня, укладывались спать, в ворота склада раздался стук. Старичок-сторож, уже дремавший в будке около калитки, с кем-то негромко переговорил, и через несколько минут по коридору (сам дом никогда не запирался, в дверях и замка-то не было) раздались чьи-то быстрые шаги. Разбуженный шумом Комоза выглянул в коридор и удивлённо что-то проговорил, а вслед за тем в комнату Алёшкиных вошла, почти вбежала, младшая сестра Кати, Вера, прижимая к себе безмятежно спавшую Элочку. На согнутом локте у Веры, в то время 13-летней девочки, болтался маленький узелок с Элиными пожитками. Лицо Веры выражало какую-то растерянность и испуг, на нём оставались следы ещё не совсем просохших слёз.
Встревоженные таким необычным появлением Элы и Веры, а главное, видом сестры, полураздетые Катя и Борис набросились на последнюю с расспросами. А та, стуча зубами не то от страха, не то от холода, глотая ещё тёплый чай, налитый Катей из стоявшего на столе чайника, сбивчиво рассказала следующее:
– Вчера вечером к нам в дом пришли какие-то люди из сельсовета и райисполкома. Все новые, приезжие, незнакомые, из местных был только один Кирилл Приходов, он сейчас в райкоме комсомола, – говорила Вера. – Они сказали маме, чтобы она собирала вещи и готовилась к немедленному выезду из Шкотова – её выселяют, как кулачку. Мама пробовала возражать, но Приходов грубо сказал, что это, мол, решение райисполкома, и спорить бесполезно. Потом эти люди объяснили, что мама не имеет права брать что-либо из хозяйства, а только может увезти свои личные вещи. Сказали также, что если с ней кто-нибудь живёт из детей, то они тоже должны уехать. Хотя мы с Элой были в другой комнате, мама сказала, что все её дети работают в советских учреждениях, с мужем она разошлась и сейчас живёт одна. Как только эти люди ушли, мама собрала Элины вещи, помогла мне одеться и увела нас к аптекарше с просьбой на следующий же день отправить к вам.
Где сейчас находилась мама, Вера не знала. И Борис, и Катя уже слышали о том, что на Дальнем Востоке всё ещё случаются перегибы в вопросах коллективизации, извращаются указания партии, проводится необоснованное раскулачивание. Они поняли, что Акулина Григорьевна Калягина стала одной из жертв подобных действий. Не понимали они только одного – зачем и кому понадобилось так позорить и обижать бедную старую женщину, которая трудилась всю свою жизнь, пожалуй, больше, чем любая батрачка. Семья почти всегда жила на границе бедности и только при Советской власти, когда стали давать землю и на женскую душу, ей удалось немного встать на ноги. Кроме того, ведь Акулина Калягина с самого первого дня организации в Шкотове колхоза вступила в него и работала не за страх, а за совесть, то есть так, как она привыкла работать всегда. Но сейчас не было времени рассуждать обо всём этом, строить догадки о виновнике происшествия – нужно было срочно чем-то помочь.
Аптекарша рассказала Вере, что эшелон с выселяемыми направится куда-то в среднюю часть Сибири, в Амурскую область или Забайкалье. Он, конечно, не зайдёт во Владивосток, а повернёт со станции Угольная на Транссибирскую магистраль. Необходимо, чтобы Акулину Григорьевну снял кто-нибудь в пути. Сделать это мог только человек с определённым весом и положением. Таким человеком – единственным в числе ближайших родственников Калягиной – был её зять, муж старшей дочери Дмитрий Яковлевич Сердеев. Во-первых, он старый член партии, во-вторых, бывший партизан, участвовавший в освобождении от интервентов Дальнего Востока, и, в-третьих, он занимал в то время немаленький пост. Дмитрий работал на ответственной работе в Дальневосточном крайисполкоме, значит, нужно было как можно скорее известить его. Можно было бы послать телеграмму, но в ней всего не расскажешь, письмо пойдёт слишком долго. Решили послать нарочного, эта роль досталась 13-летней Вере. На следующий же день курьерским поездом она выехала в Хабаровск.
Забегая вперёд, скажем, что миссию свою она выполнила хорошо. Встреченная в Хабаровске Сердеевыми, девочка рассказала им о несчастье с мамой. Дмитрий, пользуясь своим положением, сумел доказать, что его тёща никакого отношения к кулакам не имела, и получить необходимые документы для снятия её с эшелона.
Когда поезд подошёл к станции Хабаровск, заплаканную Акулину Григорьевну Калягину ждала неожиданная радость. На перроне она увидела своих дочерей и зятя. Последний предъявил начальнику эшелона соответствующее распоряжение, и Акулина Григорьевна со своим небольшим узелком, составлявшим всё её имущество, выгрузилась на перрон. После объятий и, конечно, слёз, дети увезли мать к себе.
Рассказывая о своих мытарствах, Акулина Григорьевна горько всплакнула об оставленном хозяйстве, которому она отдала всю свою жизнь. Но не в её натуре было долго предаваться унынию. Попав в новые условия, в новую обстановку, она со свойственной ей сметливостью и сноровкой не растерялась и вскоре стала в доме Сердеевых, где уже подрастало двое сыновей, незаменимым человеком. Веру решили пока отправить на жительство к её старшему брату Андрею, работавшему в леспромхозе на станции Ин. Так распалась, а вернее, была разрушена эта старая и по-своему очень крепкая семья одних из первых переселенцев-дальневосточников.
Глава вторая
Но вернёмся во Владивосток. То, что дочка появилась в семье Алёшкиных внезапно и сразу же потребовала от них заботы и выполнения новых домашних дел, а, следовательно, и времени, причинило им огромное неудобство. С одной стороны, обоим родителям было приятно иметь около себя маленького человечка, находившегося в постоянном движении (ведь Эла уже хорошо бегала). Ещё почти не говорившая, но всё понимавшая дочка доставляла им много радости и весёлых минут. С другой стороны, то маме, то папе приходилось пропускать какое-либо занятие, репетицию, заседание, а то и собрание, а на такое в то время смотрели очень косо. И если бы не добрая жена Комозы, которая всё чаще и чаще подменяла собою родителей девочки и оставалась с нею не только днём, как договорились, но и по вечерам, то нашим активистам пришлось бы очень туго.
Однако внешние обстоятельства, влияющие на жизнь всех людей, в том числе и наших героев, снова резко изменились. В середине января 1931 года к Борису в клуб, где он проводил репетицию своей «Синей блузы» (готовилась оратория на смерть В. И. Ленина – копия той, в которой он участвовал во время службы в РККА), явилась Катя и отозвала его в сторонку. Увидев её встревоженное и даже заплаканное лицо, Борис вначале подумал, что случилось какое-нибудь несчастье с дочуркой, но то, что он услышал от жены, потрясло его не меньше. Оказывается, Катя пришла прямо с комсомольского собрания АКО, которое состоялось внепланово ради одного вопроса: разбор дела Екатерины Петровны Алёшкиной.
На собрании секретарь ячейки зачитал заявление, в котором один из работников ВК РК ВЛКСМ села Шкотово (фамилии его секретарь не назвал) сообщал, что Катя Алёшкина, в прошлом Пашкевич, принадлежала к семейству кулаков, пролезла в комсомол при помощи некоторых близоруких интеллигентов, что недавно правда восторжествовала, и её мать, как кулачку, выслали.
В ячейке АКО, где Катя работала более года, её знали как активную хорошую комсомолку. Конечно, все были очень удивлены такими новостями. Но в то время к подобным сигналам прислушивались очень внимательно. Письмо было слишком серьёзным, кроме того, Катя и сама ещё не знала о судьбе Акулины Григорьевны, и на вопрос, действительно ли её мать была выслана, как кулачка, со свойственной ей прямотой и честностью ответила утвердительно. Обычно подобные вопросы длительно не расследовались, и решение было принято быстро: исключить из рядов ВЛКСМ как дочь кулака.
Алёшкин, конечно, прервал репетицию и отправился с Катей домой. По дороге он, как мог, успокаивал жену, ведь оба они прекрасно понимали, что всё это дело построено на чьей-то клевете, что более активной и преданной делу комсомола девушки в Шкотове было найти трудно, что не только она, Катя, но её старшая сестра Милочка и младшие – Женя и Тамара тоже состояли в комсомоле и активно участвовали в работе организации.
После долгих разговоров и обсуждений, занявших у них почти всю ночь, супруги пришли к единодушному мнению: Кате надо срочно выехать в Шкотово, пойти в райком ВЛКСМ, найти старых друзей-комсомольцев, которых ещё в селе было много и, вооружившись их поручительствами и отзывами, подать заявление в Ленинский райком комсомола г. Владивостока, где должно утверждаться решение их ячейки.
Уже на следующий день после исключения Кати из комсомола, администрация АКО сделала оргвыводы: её немедленно освободили от работы в спецчасти и, несмотря на протесты работников ГПУ, с которыми Алёшкина сотрудничала, приказ был приведён в исполнение. Кате предложили работу конторщицы в общем отделе со снижением оклада почти вдвое. Обсудив с Борисом, она решила уволиться из АКО совсем. Это следовало сделать по двум причинам: во-первых, она была нужна дочери – ребёнок требовал постоянного наблюдения и материнского ухода, во-вторых, оставаться в том учреждении, где её так незаслуженно и грубо оскорбили, казалось просто унизительным.
Сразу же после сдачи дел Катя выехала в Шкотово. С собой она взяла письмо, полученное от Сердеевых, в котором сообщалось, что дальневосточный крайисполком отменил решение шкотовского райисполкома о высылке А. Г. Калягиной как незаконное, и что её доброе имя восстановлено. Это письмо, как полагали Алёшкины, должно было сыграть свою роль.
Оказалось, что Катю Алёшкину, активную и честную комсомолку, многие из коммунистов и комсомольцев села помнили довольно хорошо. Узнав, что из Шкотова пришёл такой неумный (мягко говоря) донос на неё, все были возмущены. Катя легко получила самые лестные отзывы о себе от зам. секретаря райкома партии Костромина, знавшего всю их семью, от коммуниста Шунайлова, от секретаря райкома комсомола Тебенькова и даже из сельсовета, где было сказано, что семья Кати числилась середняцкой. Одновременно выяснилось, что кляузу на неё сочинил Кирилл Приходов. Он же, по-видимому, включил в число кулаков и Акулину Григорьевну Калягину. Позднее мы расскажем, чем была вызвана злоба со стороны Приходова, а сейчас вернёмся к Катиной эпопее.
Приехала она из Шкотова, вооружённая всеми этими справками и отзывами, радостная и довольная тем, что люди её помнили и отнеслись к ней по-доброму, и что она теперь может легко доказать свою правоту. Катя попробовала было обратиться по вопросу пересмотра решения к секретарю ячейки ВЛКСМ АКО, сменившему её начальнику секретной части Бурееву, но тот не захотел и слушать. Через несколько дней дело Кати Алёшкиной разбиралось в Ленинском райкоме комсомола г. Владивостока. Решение ячейки отменили, и её восстановили в комсомоле. Секретарь райкома предложил ей своё ходатайство перед правлением АКО о немедленном восстановлении в прежней должности, но Катя от этого отказалась. Она решила, что ей надо воспитывать дочку. Райком в качестве комсомольской нагрузки поручил Алёшкиной руководить пионерским отрядом при комсомольской ячейке Дальснабсбыта, куда и направил её на учёт. Эту работу Катя выполняла аккуратно. Теперь, когда, кроме забот о дочери и о доме, другой работы у неё не было, выполнение комсомольской нагрузки – руководство пионеротрядом казалось ей делом пустяковым. Вскоре, благодаря её способностям и стараниям, этот пионеротряд стал одним из передовых во всём Ленинском районе.
Попробуем теперь, в нескольких словах изложить причину той злобы, ненависти и зависти, которую испытывал Кирилл Приходов к семье Пашкевичей вообще и к Кате Пашкевич в частности. Он был сыном единственного русского купца, процветавшего в селе Шкотово. Благодаря деньгам отца, его даже приняли во владивостокское реальное училище, но так как парень был ленив и туповат, то вскоре и исключили как неуспевающего. После этого он окончил высшее начальное училище в Шкотово, учился вместе с Катей и ещё в школе преследовал её своими ухаживаниями. С приходом советской власти положение Приходова-старшего пошатнулось, в 1924 году он окончательно понял, что при Советах ему не продержаться, и решил удрать за границу. Сына до поры до времени оставил в Шкотове. Он упросил Петра Пашкевича принять сына в своё семейство и пока подержать у себя. Конечно, с Петром Яковлевичем этот вопрос решался при солидном возлиянии, кроме того, купец Приходов дал некоторую сумму денег. Так в семье Пашкевичей появился новый член её, Кирилл Приходов, ему в то время было около 18 лет. Парень был здоровый, но ленивый и нерасторопный. Может быть, именно поэтому все члены семьи Пашкевичей, отличавшиеся большим трудолюбием, его невзлюбили, он им платил тем же. Особенно не любил он Акулину Григорьевну, которая, кстати сказать, частенько-таки его пробирала. Разведясь с мужем, она предложила Кириллу убираться на все четыре стороны. В это время в Шкотове открылся конный завод, Приходов пошёл работать конюхом. Он испытывал ненависть к семье Пашкевичей, в том числе и к Кате, которая самым решительным образом отвергнув его ухаживания, предпочла ему какого-то никому не известного, жившего в Шкотове без году неделя, Бориса Алёшкина. Тая эту злобу против Пашкевичей, Кирилл до поры до времени прикидывался их приятелем.
Прошло несколько лет. Приходов, как рабочий конезавода, был принят в комсомол, а ещё через три года, пользуясь тем, что почти все знавшие его отца люди из Шкотова выехали, он, будучи членом райкома ВЛКСМ, решил осуществить свою месть. Участвуя, как представитель райкома, в составлении списков кулаков, он включил в него Акулину Григорьевну Калягину, заявив, что это настоящая кулачка, что он сам работал у неё батраком. Затем постарался отыграться и на Кате Пашкевич, теперь уже Алёшкиной. Что из этого вышло, мы уже знаем. К сожалению, до сих пор непонятно, было ли, в конце концов, разоблачено истинное лицо самого Кирилла Приходова.
В таких бурных и трудных событиях проходила жизнь семьи Алёшкиных в зиму 1930–1931 гг. Но вместе с волнующими и горькими переживаниями у них было много и радостных минут. Подрастающая дочурка Эла, болтающая на своём забавном детском языке, часто заставляла молодых родителей веселиться, да и сами они стали как-то ближе и роднее друг другу. Катя большую часть времени проводила дома с дочкой. Борис знал об этом, и потому его тоже тянуло к ним домой. Он всё чаще, под всякими предлогами старался ускорить выполнение той или иной общественной обязанности, а то и отказаться от неё совсем, чтобы иметь возможность подольше побыть в семье. Он, конечно, беспрекословно оставался дома с Элочкой, когда Кате было необходимо отлучиться по своим комсомольско-пионерским делам.
Заработка Бориса хватало на их существование, тем более что большими претензиями ни он, ни его жена не отличались. Да, кстати сказать, и удовлетворить их было особенно нечем – все магазины по-прежнему пустовали. Покупать что-либо в комиссионных было не по карману. Правда, Борис Яковлевич в это время получал 225 рублей, это был предел – максимальный оклад для коммунистов, больше этих денег они не могли получать. В тресте только отдельным лицам – председателю правления и его заместителям выдавались дополнительные суммы, так называемые представительские, но и их расход строго ограничивался и контролировался. В то же время беспартийные сотрудники треста, так называемые красные специалисты, получали значительно более высокие оклады, например, зав. производственным отделом Гринер получал 800 рублей, один из его заместителей – 600, а ближайший помощник Бориса Алёшкина Роземблюм получал 400 рублей. И это никого не удивляло и уж, конечно, не обижало. Коммунисты понимали, что эти спецы – представители чуждого нам класса, и потому их труд и знания, крайне необходимые молодой республике, приходилось покупать, может быть, даже переплачивая. Сами же коммунисты, получая партмаксимум, чувствовали, что их страна им и так даёт достаточно много. Конечно, кроме зарплаты, все работники треста прикреплялись к так называемым закрытым распределителям, где можно было за умеренную государственную цену получить определённое количество продуктов. Частные (нэповские) продуктовые магазины к этому времени были закрыты, а карточная система ещё не введена. Но повторим, Борис и его жена не были избалованы и прихотливы, поэтому довольствовались тем, что получали в магазине, а если и приобретали кое-что вкусненькое на чёрном рынке, то только для своей маленькой дочурки.
Наступила весна, пришли тёплые ясные дни. В ДГРТ наступил период некоторого затишья. Подготовку к весенней путине – ловле сельди закончили. Летний лов иваси ещё не наступил. Постепенно начинали подготавливаться к осенней путине – к лову красной рыбы: лосося, симы, кеты и горбуши. Основными местами промысла этой рыбы считались устье Амура в районе Николаевки, реки Сахалина и устья других более или менее крупных рек северного побережья Приморья. Краболовы находились где-то в районе Камчатки. Управление снабжения, в том числе и группа метизов, получили некоторую передышку.
По договоренности с Роземблюмом, Алёшкин решил перед составлением заявок на следующий год привести в порядок оперативный учёт товаров своей группы и тщательно сверить его данные с наличием на складах. В этот период времени, пожалуй, даже немного раньше, Борис познакомился, а потом и подружился с одним из работников планово-экономического отдела Владимиром Косолаповым. Это был высокий, светловолосый, весёлый человек, отлично игравший в шахматы и преферанс. Знакомство его с Борисом состоялось за шахматной доской. Владимира все считали, пожалуй, единственным и, безусловно, первым в ДГРТ настоящим советским инженером – он окончил советский вуз в Москве. Кроме хорошего знания своего дела, прекрасно владел английским языком. Он был беспартийным, но благодаря своей работоспособности быстро выдвинулся и через несколько месяцев уже возглавлял основную группу по планированию сбыта продукции ДГРТ за границей и организации закупок иностранного оборудования. По своей работе ему приходилось иметь много дел с представителями иностранных фирм. Основным, можно сказать, международным, языком моряков и рыбаков с давних пор считался английский, поэтому Косолапов, единственный из работников ДГРТ, владевший им в совершенстве, пользовался большой популярностью.
Борису довольно часто приходилось сталкиваться с иностранцами, он стал задумываться над тем, что и ему не мешало бы овладеть этим языком, но пока это было только в планах. Дело обернулось по-другому. В конце мая 1931 года Бориса Алёшкина вызвали в военкомат и приказали отправиться на станцию Бочкарёво для прохождения очередной 45-дневной переподготовки комсостава. Возражения со стороны правления ДГРТ ни к чему не привели: через несколько дней, оставив свою группу в УСИТ на Роземблюма, распрощавшись с взгрустнувшей Катей, Борис уже подъезжал к Бочкарёву. Как оказалось, он был назначен командиром взвода железнодорожного полка, расквартированного на этой станции. Обязанности его казались несложными: ему дали взвод новобранцев, с которыми он должен был за полтора месяца пройти подготовку одиночного бойца.
В железнодорожные части подбирались грамотные люди, таким образом, во взводе Алёшкина все имели хотя бы начальное образование. Это значительно облегчало обучение, и его взвод был на хорошем счету. Военная служба со своей однообразной деловитостью и большой нагрузкой рабочего дня, ещё хорошо памятная Борису по его собственной (увольнение в запас произошло всего полгода назад), шла так размеренно и буднично, что эти 45 дней пролетели для него совершенно незаметно. Как ни странно, по его уверениям, переподготовка почти не оставила следов в его памяти. Он лишь смутно припоминал одноэтажные бревенчатые казармы, в одной из которых помещалась их рота, а при ней – комнатка, в которой жили два комвзвода-одиночки, третий (женатый) жил на квартире так же, как и командир пулемётного взвода. Вспоминается ему и отличное стрельбище, расположенное на берегу какой-то быстрой реки. Пожалуй, это всё, что донесла его память. Ни фамилий командиров, ни их образов, ни тем более бойцов, с которыми Борис общался во время этой подготовки, он не помнит.
В конце июля Борис Алёшкин вернулся домой. Первое, с чем он столкнулся, было то, что в квартире, которая по-прежнему не запиралась, никого не было. Мы ещё не говорили, что зимой семья Комозы получила комнату в одном из домов ДГРТ на мысе Чуркина, где находилась основная часть лесного склада. На бывшем бородинском складе лесоматериалов оставалось мизерное количество, да они были и не нужны: не стало частников – кустарей-китайцев, и снабжение тарой (бочками и ящиками) промыслов и заводов ДГРТ полностью взял на себя тарный завод, расположенный на мысе Чуркина. Там же находилась и судоверфь. К середине 1931 года она уже строила не только шлюпки и кунгасы, но и сейнеры, предназначавшиеся для лова сельди и иваси в открытом море специальными, так называемыми кошельковыми неводами.
В конторе Борис встретил Соболева, бывшего бухгалтера Бородина, работавшего счетоводом у Алёшкина, а в последнее время присоединившего к этой обязанности работу десятника по бородинскому филиалу лесного склада. От него Борис узнал, что Катя поступила работать, а дочку отдала в детский сад. Обычно они приходили домой часов около четырёх, как раз перед закрытием конторы склада.
Борис привёз из Бочкарева, где уже поспели ранние овощи, редиску и огурцы. В ожидании прихода своих домочадцев, он принялся готовить обед-ужин. На дорогу ему выдали сухой паёк: мясные консервы и колбасу. Картошка на кухне имелась, пожарить её вместе с консервами было нетрудно. Пришедшие Катя и Элочка обрадовались возвращению Бориса, и вечер прошёл весело. Потом, когда дочь угомонилась, Алёшкины, кажется, впервые в жизни дома слушали радио. По дороге с вокзала, в одном магазине, где продавались различные, как их с тех пор стали называть, культтовары, Борис увидел какую-то чёрную катушку. На ней был укреплён ползунок, а сверху – какая-то трубочка с кристаллическим порошком внутри. В трубочку была ввёрнута пробка, из которой торчала тоненькая проволока. На картонке около этой катушки было написано, что это детекторный радиоприёмник. Бориса очень заинтересовал этот прибор. Стоил он недорого – всего шесть рублей, и он, не задумываясь, купил его. К этой катушке прилагались два наушника.
В первый же вечер своего возвращения домой Борис и Катя, лежа в постели, прижав к ушам наушники, слушали слабенькие, но совершенно отчётливые звуки речи и музыки, когда, пошевелив проволочкой по кристаллам, попадали на волны какой-либо станции. Освоили они это не сразу. Иногда в наушниках раздавался писк, треск, звучали голоса японцев или их музыка, но, в конце концов, они научились на своём горе-приёмнике безошибочно находить Владивосток и регулярно слушать городские радиопередачи.
Явившись на следующее утро в УСИТ ДГРТ, Борис был огорошен неожиданной для него новостью. Начальник УСИТ, к которому он, как полагается, явился с докладом о возвращении с военной службы, приветливо с ним поздоровался, но объявил ему, что принимать свою группу Алёшкин не будет: правление треста назначило его на новое место. Откровенно говоря, эта новость не только ошеломила Бориса, но немного и рассердила. Он подумал: «Опять менять работу! Опять изучать что-то новое! Наверное, какую-нибудь дыру мною заткнуть думают. Хорошо ещё, если в городе, а то пошлют куда-нибудь на промысел или на завод. Не поеду, откажусь, что я, хуже других что ли? Да и Катя теперь работает, её с места срывать не следует». Так размышлял Борис, сидя в комнате секретаря правления, ожидая, пока ему можно будет попасть к председателю. У того как раз проходило очень важное совещание, как сказала секретарша, появившаяся в тресте недавно и поэтому ещё не знавшая Алёшкина.







