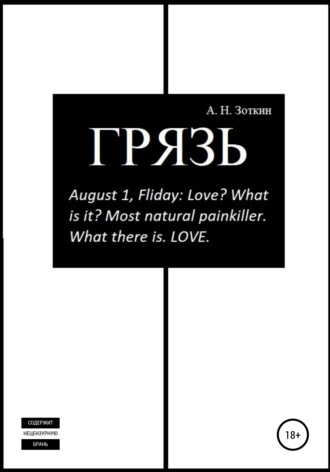
Андрей Николаевич Зоткин
Грязь. Сборник
Она сидела у высоченного окна и смотрела на льющиеся с неба слезы ангелов. Я знал, что Она думала именно об этом. Все было в серых тонах. Это была серая история с начала и до конца.
– Привет, – сказал я, садясь за столик к Ней. – Я чувствовал, что ты где-то близко.
Она плавно повернула голову и нежно ответила:
– Привет. А я верила в нашу встречу. У нас есть привычка всегда находиться после разлук.
Она протянула мне руку, и я взялся за неё. Родное мне тепло вновь согревало мою холодную ладонь. Её влажные от чая губы блестели на свету. Она всегда улыбалась так, как будто ждала только тебя. Её темно-карие глаза с любовью смотрели на твоё лицо, а губы как бы не произносили, а тихо шептали слова, так чтобы только ты мог их услышать. Рыжие волосы собраны в хвост. В моих глазах Она была безупречно хороша.
– Сегодня приехала?
– Да, рано утром, а потом сразу сюда. Здесь же кипит вся жизнь.
– Сейчас оттуда, – я кивнул головой в сторону окна. – Видел очередной разгон митинга.
– Да, у тебя пальто всё мокрое. Снимай его. Ты-то там не попал под раздачу?
– Нет, я из окна за всем наблюдал. Но всё же, огнетушитель в окно закинули, – рассмеялся я, снимая пальто и бросая его на соседний стол.
Какой-то сдавленный получился смех.
– А ещё знаешь… Я случайно забрал оттуда, то есть из квартиры, небольшую фигурку бегемота, а когда обнаружил это, то сразу же почему-то выпустил его из рук. Не понимаю. И он разбился.
– Фарфоровый бегемот? – спросила Она, откусывая печеньку.
– Да… Откуда ты знаешь?
– Предположила. Если он разбился, то, скорее всего, стеклянный. Но фарфоровый – звучит получше, если бы я была писательницей и описывала этот случай, то непременно сделала его фарфоровым. Чай заварить?
Я кивнул головой. Она подмигнула и пошла в другую часть комнаты к кухонному гарнитуру.
– А я сама приехала только сегодня рано утром из столицы. Рада оказаться здесь, здесь более-менее спокойно.
На Ней была черная майка Iron Maiden (она говорила, что « котировала их с самого детства») и серые мешковатые штаны, скрывающие её фигуру.
– Черный, зеленый? Тут вроде бы еще красный был.
– Зеленый.
– С мятой?
– Естественно.
Она хихикнула. Хорошие воспоминания. У Неё были мозги, и она умела ими пользоваться. И не только ими. Всё было просто и спокойно. Я любил с ней говорить, я любил смотреть на Нее. Она была небольшого роста. Даже страшный рисунок с черепами на футболке не мог скрыть её объемную грудь. Она была не девочка, а просто персик. Отличная фигура с огненными волосами и очень эмоциональным лицом. Я знал, что Она не притворялась, её эмоции не были наигранными. Её сердце билось часто и наполняло Её переживаниями, обостряло её чувства. Мы с Ней много чем занимались. Например, сейчас пили чай. Мы были отличными друзьями. А когда я слышал, что кто-то критикует молодежь за распущенность, то я сразу же вспоминал своего отца. Он ведь не просто так разводил свиней. Да, узнай я об этом пораньше, то убил бы старого извращенца. И с Её отцом всё было непросто, а с отчимом – тем более. Хм… Кажется, что вся эта история про людей, которым не повезло с родителями. Ладно, не берите в голову. Сейчас я просто пил чай.
Дождь шел, шел и шел. Брызги с карниза обрушивались на оконное стекло, и вся его нижняя часть была в крошечных капельках, отражающих серое небо. Она звонко смеялась, прикрыв рот рукой, а я рассеяно смотрел и слабо улыбался. Я уже устал. Утопил ложку во второй порции хлопьев с молоком и ухмыльнулся: уж слишком быстро столовый прибор пошел ко дну. Наверное, и брусчатка во дворе тоже теперь под водой. Дороги теперь под водой. Новый Потоп… Какие непонятные и ненужные мысли порой приходят в голову! Но зачем-то мы их придумываем. Из глубин ледяного водоворота мыслей меня вырвало горячее касание: она похлопала меня по щеке.
– Чего скис? Пошли, соня. Нам есть чем заняться.
«Уже сотни лет мир, наш мир, умирает. И никто за эти сотни лет не додумался засунуть бомбу ему в задницу и поджечь фитиль. Мир гниет, разваливается на куски. Но ему нужен последний удар, последний взрыв, чтоб он разлетелся вдребезги. Никто из нас не целен сам по себе, но каждый носит в себе материки, и моря между материками, и птиц в небе. Мы это все опишем – эволюцию этого сдохшего мира, который позабыли похоронить. Мы плаваем на поверхности, но мир уже утонул, тонет сейчас или утонет скоро. Наша Книга будет настоящим кафедральным собором, строить который будут все, кто потерял себя. Будут тут и панихиды, и молитвы, и исповеди, и вздохи, и рыданья, и бесшабашность; будут окна-розетки, и химеры, и служки, и гробокопатели. В этот собор можно будет въезжать на лошадях и гарцевать в проходах. О его стены можно будет биться головой – они не пострадают; молиться – на любом языке, а тот, кто не захочет молиться, может свернуться калачиком на ступенях и заснуть. Наш кафедральный собор простоит тысячу лет, и ничего равного ему не будет, потому что, когда исчезнут его строители, вместе с ними исчезнут и чертежи…» – раздавался голос Генри Миллера за стеной. Очередной жрец этого места поднял своего идола над головой и нёс его из комнаты в комнату как слово Божье. Вскоре он затих.
Подумать только, все эти имена звучат для нас априорно, как фон. Имена всех значимых для нас людей из прошлых веков не больше, чем мелодия в нашей голове, особое ощущение в теле, наше настроение – смысл, которым мы наделили эти имена и фамилии. Но не более. А ведь когда-то под ними действительно жили самые настоящие люди, жующие свою пищу, устало смотрящие по сторонам и не знающие, что ждет их впереди. Они даже смеялись, если кто-то пукнет за обеденным столом. Вот умора.
Не знаю, сколько я спал. Бессонная ночь дала о себе знать. Она заснула рядом – ночная дорога вымотала и Её. Я повернулся и лег на спину. Она лежала, повернувшись лицом ко мне, и видела яркие сны. Такие, как Она, не могли видеть мир без красок. Она как-то сказала, что в сером цвете на самом деле очень много цветов, просто мы не можем выделить какой-то один и видим все сразу. Наверное, это и называлось оптимизмом. Её распущенные огненные волосы пахли лавандой. Я дотронулся до них рукой. Такие мягкие. Я посмотрел на Её спокойное расслабленное лицо, потом на тонкую беззащитную шею с красными следами моих недавних поцелуев, чуть прикрытые изгибы нежных плеч. Сейчас я понимал, откуда брали вдохновение дизайнеры современных дорогих машин. Оголенные изгибы женского тела – вот ключ к успеху. Вспомнил Вильнёва. Сразу же постарался забыть. Потом посмотрел в потолок. Кто-то его выкрасил в темно-фиолетовый цвет. Из-за тусклого света, исходящего из большого окна, он казался черным. Над нами всегда что-то было. Это была комната-склад. Уединенное местечко – кровать, окруженная старыми шкафами, тумбочками, рамами, картинами, стульями, люстрами, и всё это было навалено друг на друга. Нас окружали непреступные стены. И только со стороны окна было пусто. Да, чтобы попасть сюда, пришлось немного полазать по всему этому хламу. Но оно того стоило. Я снова посмотрел на Неё.
Откинул одеяло и медленно подошел к окну, скрипя половицами. Дождь шел до сих пор, а не знал даже, какое сегодня число. Я перестал смотреть в календарь. В любом случае, друзья поздравят на день рождения, и тогда узнаю, какой день на дворе. Если они, конечно, доживут. Какая-то пустота донимала меня. Она была внутри и не давала мне проснуться, я будто застыл во времени, пребывал в вечном полусне. Лишь яркие моменты страсти оживляли меня, быть может, поэтому мы с Ней были такими хорошими друзьями. Дарили друг другу то, чего не хватало обоим. Сегодня Она улыбалась, ямочки на ее щеках придавали ей еще большее очарование, пробуждали желание. Но мне всё равно казалось, что Она глубоко печальна. Я чувствовал это.
Внезапно в потоке воспоминаний раздались те самые слова моего товарища «Хорошо всё-таки, что Зарёв сдох».
Если возьмем новенькую книгу с той полки, то можем там прочитать:
«…Более десяти лет назад в нашем городе сложилось крайне интересное творческое объединение. Себя они никак не называли по причине того, что их связь строилась в первую очередь на дружеских отношениях ее членов и их деятельность не была направлена на достижение какой-либо конкретной цели. Часто их собрания больше напоминали дружеские встречи или неформальные творческие вечера. Казалось бы, зачем в нашей книге под названием «Последняя Культура», рассказывающей о последних настоящих (!) культурных деятелях нашей страны перед эпохой бесстыдной массовости и обнищания всех жанров и направлений, вести речь о каком-то безымянном дружеском кружке? Может, их объединение и было безымянным, но имена участников до сих пор гремят в различных сферах общества, как синоним новаторов, мастеров и светил отечественной культуры. В рамках этого объединения они обменивались идеями, росли как творцы и помогали в этом своим коллегам. Они не намеревались устраивать революцию в культуре, переворачивать догматы и свергать классиков, однако именно они своими смелыми произведениями сделали последний качественный скачок искусства – это неизменная судьба гениев. В состав объединения входили А. Цвет, В. Вебер, М. Кравец, Д. Берк, М. Игнатьев, К. Златоусцев, Я. Ёж и, конечно же, Н. Зарёв. Как мы видим, здесь собрались яркие представители совершенно различных направлений: от тяжеловесной классики театра до андеграунда, не признающего никаких авторитетов. Зарёв здесь заслуживает отдельного упоминания, потому как именно он являлся душой и идейным вдохновителем этого объединения. Он в своих немногословных интервью всячески открещивается от подобных высказываний в его адрес, однако, по словам его друзей по цеху, всё было именно так…»
Ох, Зарёв, Зарёв… Что еще можно сказать о тебе?
Глава 1. Город
«…Десять лет назад в нашем городе сложилось крайне интересное творческое объединение. Себя они никак не называли по причине того, что их связь строилась в первую очередь на дружеских отношениях ее членов и их деятельность не была направлена на достижение какой-либо конкретной цели. Часто их собрания больше напоминали дружеские встречи или неформальные творческие вечера. Казалось бы, зачем в нашей книге под названием «Последняя Культура», рассказывающей о последних настоящих (!) культурных деятелях нашей страны перед эпохой бесстыдной массовости и обнищания всех жанров и направлений, вести речь о каком-то безымянном дружеском кружке? Может, их объединение и было безымянным, но имена участников до сих пор гремят в различных сферах общества как синоним новаторов, мастеров и светил отечественной культуры. В рамках этого объединения они обменивались идеями, росли как творцы и помогали в этом своим коллегам. Они не намеревались устраивать революцию в культуре, переворачивать догматы и свергать классиков, однако именно они своими смелыми произведениями сделали последний качественный скачок искусства – это неизменная судьба гениев. В состав объединения входили А. Цвет, В. Вебер, М. Кравец, Д. Берк, М. Игнатьев, К. Златоусцев, Я. Ёж и, конечно же, Н. Зарёв. Как мы видим, здесь собрались яркие представители совершенно различных направлений: от тяжеловесной классики театра до андеграунда, не признающего никаких авторитетов. Зарёв здесь заслуживает отдельного упоминания, потому как именно он являлся душой и идейным вдохновителем этого объединения. Он в своих немногословных интервью всячески открещивается от подобных высказываний в его адрес, однако, по словам его друзей по цеху, всё было именно так…»
Он вышел из здания вокзала в восемь часов утра. Посмотрел по сторонам на оживленные улицы, не зная куда идти. Но это мало его беспокоило: он знал, что его где-то ждут.
Вдалеке раздался приглушенный раскат грома. Зарёв поднял голову и всмотрелся в серое небо, будто изучал нового знакомого. Этот был невероятно молчаливым и с виду грозным, но в то же время таким мягким, легким, воздушным. Напущенная тяжелая хмурость – вот чем небо пыталось оттолкнуть новых знакомых. Оно бережно хранило свои чувства, прятало сердце за неприветливыми ледяными ливнями. Николай улыбнулся – они еще подружатся.
В этот город приятней всего приезжать на поезде. Со стуком и грохотом поезд проезжает Обводный канал и через несколько минут медленно заползает на величественный вокзал. Толпы встречающих, потоки прибывших, дребезжание сотен пластмассовых колесиков чемоданов, проезжающих по несчетным стыкам плит. Пройдешь через вокзал на одном дыхании – ведь там впереди уже видны высокие двери, через которые льется тусклый солнечный цвет, похожий на мелкий снегопад. И у этих врат столпотворение: люди медленно выходят в город, стоя друг за другом, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу, будто они собрались у дверей особняка Гэтсби; неотступно двигаясь за идущим спереди, не желая потерять свое место в такой близости от столь желанной награды – лишь двери пройди, и мир чудес примет тебя. Вокзал – это лишь кроличья нора.
На самом деле повода для беспокойства не было – где-то среди людей затерялся Антон Цвет, старинный друг и бывший одноклассник Николая. И он как всегда опаздывал. Зарёв подошел к краю бордюра, отгороженного от проезжей части тяжелыми цепями, протянувшимися от одного металлического столбика к другому. «Никак якорные цепи, славные традиции Балтийского флота?», – с усмешкой подумал поэт. Он вспоминал заброшенный и оставленный богом Кронштадт – гордую обитель отечественного флота, а ныне никому особо и не нужный городок, накрытый покрывалом истории, которое приносит с собой только пыль и гнетущее ощущение пустоты. Кто знает, быть может, когда-нибудь и с северной столицей произойдет то же самое. Падёт всё, останутся лишь камни и дикари, конвоируемые людьми в касках. Надо думать, это будет не скоро.
Поэт качнул ногой «якорную» цепь. Они не виделись с этим городом десять лет. И что же? Всё та же надпись «Город-герой Ленинград» на здании напротив вокзала, всё тот же обелиск в центре площади, круглый вестибюль станции метро… Глазу не за что было зацепиться. «Надо углубляться в город» – подумал Зарёв, – «Быть может, там таятся сюрпризы и неизведанные берега?» Он поднял свой потрепанный чемодан с фотографиями Делёза, Мисимы, Мандельштама, Одри Хепберн и Довлатова внутри, и пошёл искать улицу известного поэта.
Он хорошо помнил, что Петербург обманчив: после поездки в тесном пыльном поезде он награждает путников простором площадей, проспектов и свежим северным ветром. Над обелиском со звездой в сторону залива пролетают чайки. Город встречает своего нового героя распростертыми объятиями и вскоре неизменно заводит его в свои тесные улицы-ущелья, стремясь буквально прижать его к себе и не отпускать никогда. И было в этом своё очарование.
На перекрестке перед поэтом проехала белая грузовая Газель с большой бордовой вывеской, обернутой прозрачным полиэтиленом в несколько слоёв. «Английский паб Сьюард Б.» – гласила она. Машина свернула на Лиговский проспект. «Видимо, всё же город преображается» – промелькнула мысль перед вспыхнувшим над головами зеленым светом.
Что ощущает путешественник, стоя на свежевымытой мостовой, в самом сердце такого города? Города, где каждый дом – история, рассказать которую можно с двух сторон: первая – фасадная: кто построил, кто жил, что великого свершалось, почему на барельефах именно грифоны, а не орлы; когда будет реставрация и т.д.; вторая – по ту сторону стен, внутри, сродни этому произведению; рассказ не про каменную кладку, а про судьбы жильцов, про их мечты, слезы, отрешение, заброшенность, старость и молодость; смерть, что резко подводит итог их делам. Зачем это знать? Первое – для того, чтобы слыть «начитанным человеком», «для общего развития», «для знания истории родины» и тому подобное. В свете это любят. А вот про второе предпочитают молчать, потому что это то, что касается всех нас, это не то, о чем можно говорить безопасно, не боясь за себя; потому что трагедии имеют неприятное свойство повторяться из года в год, переходить из семьи в семью, перемещаться из одного мира в другой. А если уж эти истории тесно связаны с нами, то, возможно, мы так и не расскажем их. Люди уйдут, исчезнут, перестанут говорить, а стены, дома всё так же будут стоять грозным напоминанием – они будут помнить всё. Так что же ощущает путешественник, стоя на свежевымытой мостовой, в самом сердце такого города? Перейдя несколько перекрестков, Зарёв почувствовал радостный трепет в груди. Что-то должно произойти, что-то будет.
На ресепшене хостела царила утренняя неспешность.
«Он швырнул тетрадь за спину в дальний угол комнаты. Раздался звук бьющегося стекла, наверное, это был фарфор. Следом что-то хрустнуло и громко упало с верхушки шкафа с дребезжащим звуком. Писатель резко обернулся: рядом с потрепанной тетрадкой на полу лежала акустическая гитара. Он посмотрел на шкаф, потом на инструмент, потом снова на шкаф. «Как же я раньше этого не заметил?» Он встал и подошел к гитаре – разбилась. Поврежденный от падения гриф отвалился у него в руках и повис на струнах. «Вот так ненависть ломает невинные вещи. И хорошо когда только вещи». Этим вечером он закопал сломанную гитару во дворе вместе с рисунками, которые нарисовал днем. Это были похороны невиновных. Человек чувствовал себя скверно».
– Сирень, Сирень.
Девушка за стойкой оторвалась от чтения и рассеянно посмотрела на подошедшего молодого человека в черной кожаной куртке.
– Сирень, сейчас должен приехать мой друг, я пойду его встречу, и минут через двадцать мы с ним вернемся, будь на месте, пожалуйста.
На его щеке красовались красные полосы – следы недавнего пробуждения и смятой простыни. Волосы были немного приглажены, но местами тоненькие волоски торчали во все стороны. Девушка хихикнула и сказала ему об этом.
– Да и бог с этим, не королеву иду встречать. Всё поймёт.
Сирень улыбалась. Она только сейчас заметила, каким забавным может быть Цвет. Еще его немного торчащие уши, широкий нос и изящные, по-настоящему красивые губы – дополняли этот хаотичный утренний образ.
– Я пошёл, – сказали зеленые глаза.
– Иди…– ответила Сирень и проводила его взглядом.
Хлопнула входная дверь. На стене напротив ресепшена висела большая карта города на английском со множеством воткнутых разноцветных флажков. Красные – достопримечательности, синие – перекус, зеленые – парки, желтые – развлечения, белые – места начала ежечасных экскурсий. Большая наклейка в виде синего глобуса – расположение этого хостела, прямо в центре всего. Сирень закрыла книгу, оставила ее на столе, отпила из чашки чай и посмотрела на высокие окна. За белыми занавесками ничего не видно, будто за окном есть только холодный свет и ничего более.
Зазвонил домофон. Сирень поставила чашку и нажала на кнопку.
– Это мы, – раздался голос Антона.
– И двадцати минут не прошло, – сказала девушка и открыла дверь, а потом задумалась: а не слишком ли язвительно это звучало? После минутного подъема по лестнице входная дверь открылась, и к ресепшену подскочил Цвет, опершись на стойку руками:
– Представляешь, он нас сам нашёл! Выхожу, дохожу до первого перекрестка и встречаю его, стоит, головой крутит: куда идти? Верно, чувствовал, что совсем близко был.
Он развернулся и показал на гостя:
– Коля Зарёв!
– Здравствуйте, – робко произнес он, и, подойдя, протянул руку.
Сирени пришлось привстать, ее ноги в шерстяных носках скользнули с удобной перекладины между ножками стула на тапочки. Она потянулась к руке Николая:
– Очень приятно.
Её теплые пальцы коснулись его холодной ладони. От неожиданности небольшая дрожь пробежала по ее телу. Обитатели теплых домов всегда так реагируют на неожиданно вошедшую в их гостиную стужу. И глаза у Зарёва были серыми, насыщенными, цвета каменных мостовых этого города, облитых водой. Редко когда их согревало солнце. Девушка на миг замерла, смотря на это серьезное лицо, которое только что вошло в ее жизнь. Рука пошла вперед, их ладони застыли в миллиметре друг от друга, будто причувствовались, и… соприкоснулись. Пальцы сжались. Николай слабо улыбнулся – приподнялись только уголки рта, но Сирень интуитивно поняла, что и это уже многое.
– А я Сирень, – прошептала она.
Небритая улыбка стала еще шире, он приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но остановился. Покачал головой и на выдохе быстро произнес:
– Очень приятно.
Девушка сияла. Зарёв пытался это делать. Они отпустили руки друг друга, и сразу же вмешался Цвет, спрашивая про готовность номера, ключи и напоминая про скидку для друзей. Сирень рассеянно покивала ему головой, дала ключи. Николай перевел взгляд с нее на окно, смотря на самый верх, пытаясь увидеть небо сквозь полупрозрачную занавеску.
– Пошли, тебя ждут лучшие апартаменты по эту сторону Лиговского, – бодро похлопал его по плечу Антон.
Гость кивнул головой, взял свой чемодан, и они свернули в коридор, провожаемые взглядом девушки. Он был на голову выше Цвета и выглядел очень худым даже в объемной толстовке и плаще. Они скрылись за поворотом. Сирень прикоснулась пальцами к ладони правой руки, чувствуя остатки холода, которые стремительно исчезали. Она посмотрела на руку, потом снова на поворот: были слышны их шаги, потом звук поворачивающегося замка, скрип разбухшей от влаги двери, нежелающей открываться сразу, непонятные слова Цвета, его смешок, снова шаги куда-то вглубь номера и дверной хлопок. Стало тихо. На ресепшене хостела вновь царила утренняя неспешность. Сирень прижала ладонь к своей мягкой щеке; холод ушел, а ей хотелось, чтобы он остался подольше.
– Это дешевая гостиница? Так хорошо обставлена, – спросил Зарёв, посмотрев по сторонам.
Новая металлическая двуспальная кровать на тонких ножках с толстым матрасом, несколько тумбочек, большой темный шкаф, пугающий своей внушительной пустотой внутри, белые стены, исписанные знакомыми девизами, большой плакат на стене, зазывающий на «Три левых часа». В ванной таких творческих изысков не оказалось: белый кафель, ванна, раковина – всё до безобразия было предсказуемо.
– Это хостел.
– Хостел? Впервые слышу.
– Да это нововведение последних лет. Пришло с Запада, а это один из первых хостелов в нашем городе. Времена, когда туристы могли останавливаться только в дорогих гостиницах или снимать обветшалые квартиры, прошли. Вот этот номер называется «Убийцы вы дураки» и посвящен ОБЭРИУтам.
– Вижу, вижу… – протянул Николай, ставя чемодан на кровать.
Неспешно снял свой плащ, повесил его на крючок за дверь, стянул толстовку, перекинул ее через спинку единственного стула, оставшись в белой рубашке. Да, верно, кто же еще носит рубашку под толстовкой?
– Давай раскладывайся, приводи себя в порядок, а потом отправимся гулять. Сегодня нас ждет центр города, а потом вечером пойдем в «О, Рама!», – размашисто двигая руками, как щедрый барин, говорил Цвет, прохаживаясь по комнате.
– А что в центре интересного сегодня? Из мероприятий, – бодро спросил Зарёв.
– Книжная ярмарка, она каждый год открывается. Так…– Антон сел на подоконник. – Байкеры вроде еще не приехали, исторических фестивалей сегодня вроде бы нет… Конечно, будут спонтанные выступления уличных групп.
– Тоже неплохо. А что за вид из окна?
Коля подошел и отодвинул тяжелую однотонную занавеску:
– А, да, конечно же, на легендарный двор-колодец. Одни стены вокруг и дворик в пять человеческих шагов…
– А ты на что рассчитывал?
– Еще не переключился после поездки, – подмигнул другу Зарёв. – А небо у вас высоковато… Только на самом верху и увидишь. Настоящий колодец!
– Вот вам, туристам, только и удивляться этому! – рассмеялся Цвет, скрестив руки на груди.
– Кто бы говорил, сам сюда приехал два года назад, – подначивал Николай друга, вернувшись к вещам.
– Но успел уже пропитаться местным колоритом.
– Надеюсь, очень надеюсь…
В первых числах октября 1993 года в этой квартире умерла Агафьева Соня Николаевна. Родившаяся еще при царе, она прожила в этом городе долгих 85 лет. Она видела две осады города, омыла своими бессильными слезами все голодные и холодные зимы, во время гражданской войны потеряла в застенках Крестов отца, а в 37 году и обоих братьев. Правду об их аресте и расстреле она узнала только во время оттепели. Но вот пало красное знамя, вновь взметнулся триколор, и старушка внезапно умерла. 4 октября 1993 года состоялись похороны.
Гроб для Сони Николаевны, крышка которого встречала гостей в прихожей, одним своим видом напоминал всем собравшимся о том, что гроб – это просто продолговатый ящик. Большего смысла без тела внутри ему придать решительно не получалось. Впрочем, старушка уже заняла своё место в центре комнаты в этом фанерном ящике на двух табуретках. Усопшая, с шеи до пят закрытая всеми возможными полупрозрачными обрядовыми покрывалами, одетая в черные одежды, обернутая любимой шалью, лицом совсем на себя похожа не была. Перед гостями лежала сухая тощенькая старушка, и если бы не любимый всеми бирюзовый платок на ее голове, то никто бы и не узнал пухленькую веселую Соню Николаевну, что так любила собирать у себя друзей, знакомых, родных и кормить их своей превосходной кухней.
Её муж Иван Осипович, герой войны, встречал гостей и подтверждал их самые страшные догадки:
– Да, да, она тяжело болела. Очень сильно мучилась в последние недели. Да, правда, что пришлось ампутировать ногу, началась гангрена. Полгода прожила с одной ногой. Болезнь её замучила.
На этих похоронах присутствовал правнук усопшей – Миша Королёв, поступивший в этом году в местный университет. Уже несколько лет он не был на этой квартире и очень сильно удивился ее преображению: как оказалось, его прабабушка была последним жильцом этой коммуналки. Какой-то серьезный мужчина в кожаной куртке ходил по комнатам и недовольно причмокивал, проходя мимо «похоронной комнаты». Мише было немного грустно, но не сильно. Прабабушку он запомнил только по детству, когда она хватала его своими сильными руками за кисти рук, сжимала и страшно громко говорила: «Ку-у-уда-а-а полез?» Почему-то Мишу она не любила.
Рядом с ним в тот день был его верный друг Гришка. Он увлекался политикой и даже спорил на деньги, пытаясь угадать развитие ситуации в стране и мире. Мишу это беспокоило, порой Гриша хорошо проигрывался на этом, теряя деньги и уважение у победителей. Однако он говорил, что деньги это так, стимул лучше думать и ничего более. Поэтому Гришка принимал все политические события близко к сердцу. Когда пала Берлинская стена, то на следующий день он пришел к Мише с газетой в руках и радостно заявил:
– Ну всё, проиграли мы Холодную войну.
Когда развалился Советский союз, то ситуация повторилась – Гришка пришел с газетой и печально сказал:
– Ну, теперь мы точно проиграли Холодную войну.
В коридоре было шумно; каждый, кто заходил в холодную, накрытую серым светом комнату, старался благоговейно говорить шепотом, ходить как азиатский монах в неком негласном наклоне вперед, и своим долгом считал заметить очевидные перемены, произошедшие в лице покойной. Однако стоило им пройти за порог комнаты, как сырость и пустота высоких потолков квартиры наполнялась восклицаниями, монотонными историями, радостными встречами дальних родственников и последующими обвинениями во всех семейных грехах: от непослушности детей пятнадцать лет назад, обернувшейся разбитой вазой до, конечно же, квартирного вопроса. Недавно ушедшая страна подняла вопрос площади для проживания в жизни каждого жителя новой страны до невиданных высот. Из-за каких-то 30 квадратных метров разрушались семьи, вершились суды, представители сильного пола были готовы избивать друг друга, а слабого – доходить до невероятных уровней сквернословия. Конечно, это затрагивало не все семьи, довольно часто родственники могли договориться и просто затаить друг на друга только небольшие обидны. Но открытые войны и ненависть на почве вопроса о квартире не были редки. К слову, комнатка Сони Николаевны была приватизирована частным лицом, которое только и ждало, когда же умрет старушка-блокадница. У лица в кожаной куртке были большие планы на это место.
На самом деле Цвет не лукавил насчет «лучших апартаментов». За этим хостелом прочно закрепилась репутация одного из самых статусных. Появившись в первую волну их открытий, он сразу же привлек взгляды демократичными ценами и своей изюминкой: каждый номер был посвящен определенному писателю или произведению. Номер Пушкина, Достоевского, «Евгения Онегина», Есенина, Ахматовой, Маяковского, «Детства» Горького и т.д. Номер «Убийцы вы дураки» был один из трех двухместных номеров, и Николай даже не представлял, как его друг смог обеспечить ему столь удобные пенаты (остальные номера были по шесть-восемь мест).
Положив на тумбочку несколько книг, Зарёв посмотрел на зевающего товарища:
– Сонный ты какой-то сегодня.
– Я переезжаю сейчас. Ближе к центру буду жить. Но пока еще не получается въехать на новую квартиру, там еще пару дней будет предыдущий арендатор жить. А из своей прошлой каморки я съехал сюда. Так что и до вокзала идти было недалеко. Вот только всё равно проспал.
– Да к тому же и не выспался.
– К тому же, – ухмыльнулся Цвет. – Ладно, пошли, покажу тебе кухню и ванную с туалетом.
Он резко встал, расставив руки в стороны, чтобы удержать равновесие, и быстро пошел к двери, всем своим видом показывая, что еще готов побороться с этим днем.
Коридор делал крутой изгиб и делил хостел на две части: до изгиба и после. В сущности, никакой разницы между двумя половинами не было: основное пространство занимали закрытые двери номеров. На первом отрезке находился ресепшен, на втором – кухня и санузел. На кухню вела широкая арка без дверей. Высокие окна, однотонные тяжелые занавески, двор-колодец. Сырость, сырость, сырость. Тепло от чая и новая блестящая микроволновка черного цвета.
– Здесь всегда на столе есть еда. Хотя бы по минимуму – печеньки, кашка, чтобы развести, с десяток фруктов. И, конечно, чай. О, доброе утро, Марсель! – поприветствовал Цвет заспанного человека в толстой кофте кремового цвета.
– Доброе, доброе!
– Это мой сожитель, уроженец Франции. Путешествует каждое лето. Что скажешь про этот хостел, Марсель?
– У нас номер Достоевского на восемь человек. Есть номер Томаса Манна и Мисимы. Хорошо отделанный подъезд. На входной двери надпись: «Добро пожаловать». Что еще?
Цвет оперся одной рукой на белую скатерть и посмотрел на Николая:
– А действительно, что еще?
В этой комнате на американский манер располагалась и кухня, и столовая. Несколько небольших круглых столиков стояли вдоль стен, кухонный гарнитур с плитой устроился на противоположном конце помещения. Парочка холодильников тихо шептались в утренней тишине. Помимо них и француза за столиками сидели еще несколько человек, и медленно жевали свой завтрак, заглядывая в книги и блокноты. Стены здесь были холодного бледно-синего цвета, забирающие тепло, но погружающие в какое-то вынужденное спокойствие.


