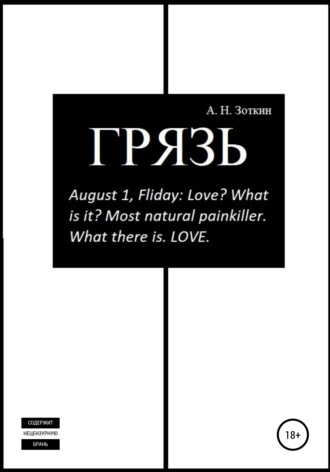
Андрей Николаевич Зоткин
Грязь. Сборник
Казаки ускакали в сторону палаток, и я продолжил путь, думая о происходящем. Потом о нас скажут, наверное, как о бунтовщиках или подкупленных кем-то смутьянах, кто-то назовет нас революционерами, но не думаю, что это приживется. Но нас точно назовут всех одним словом. Во имя истории, так же проще. И все эти совершенно разные люди, окружающие меня сейчас со всех сторон, потеряются во времени. Их индивидуальность, предпочтения в одежде, музыкальные вкусы, воспоминания об утре понедельника и мнение о том самом фильме – это исчезнет. Но школьный учебник спустя десять лет всё же упомянет их, но объединив в единое целое, в то, что сможет жить веками. Мятежники… Мне хотелось, чтобы мы были ими.
Ситуация поменялась за каких-то полчаса. Каждую минуту приходили новые раненые. Кого-то приносили. На брусчатку площади клали всё больше матрасов, места под шатрами не хватало на всех. Отряд ДЧС делал всё возможное, чтобы справится с потоком людей, благо пока лекарств и мест хватало. Вокруг палатки всё время крутились журналисты, что-то снимали, спрашивали. Но почти никому до них не было дела.
Она помогала накладывать повязки. Когда-то Она уже работала медсестрой, опыт как раз пригодился. На пятнадцатом человеке перестала считать, всё это превратилось в один большой человеческий поток со смазанными в воспоминаниях лицами и отчетливыми кровоточащими ранами. Она сняла плащ, оставшись в тонкой кожаной куртке, и накрыла одного из раненых в живот. Мужчина был легко одет и дрожал, лежа на матрасе.
– Тихо, тихо… – она успокаивала его, оставшись в тонкой кожаной куртке. – Всё хорошо, вы не один.
Со страхом Она медленно понимала, что всё происходящее выходит из-под контроля. Страх холодом растекался по Её телу. Сглотнула и отвернулась, сделав несколько глубоких вдохов.
У выхода из шатра Она увидела Клыка, который со своими людьми шел через толпу, а рядом с ним находился мой товарищ. Она услышала только обрывок фразы Клыка, когда они проходили мимо:
– … должны, обязательно. Если сейчас не атакуем, то нас прижмут, ты…
Они быстро скрылись за спинами других людей. Мысленно она пожелала им удачи, несмотря ни на что. Ведь все сейчас были в одной лодке.
Она вернулась к перевязкам, но что-то сильно ныло в Её груди. Что-то нехорошее. Стали немного подрагивать руки. Страшно.
Я отчаялся найти кого-то из знакомых и решил никуда не спешить. Люди говорили совершенно разные вещи, никто толком не понимал, что происходит. С одной стороны несли раненых, будто там шла война, с другой – со сцены беспрерывно звучала музыка и какие-то речи, будто шёл концерт, а посередине раздавали горячий суп и говорили о своём. Так и не разобравшись в обстановке, я взял себе горячую порцию и сел у старого хипповского Фольксвагена. Достал фотографию с руками. Интересно, где Она сейчас? Рядом сидел бородатый парень с гитарой и пел песни Боба Дилана:
And don't speak too soon,
For the wheel still in spin.
And there's no telling who,
That it's namin'.
For the loser now
Will be later the win,
For the times, they are a-changing'.30
Да… Хотелось бы, чтобы однажды все это закончилось. «Война закончится» – какие ещё слова могут быть более радостными и горькими, чем эти?
Дилана запретили ещё три года назад с пометкой: «Слишком миролюбив». Это было легко объяснимо, ведь пацифисты стране не нужны – они не смогут защитить деньги и угодья богатых властителей. Но каждый депутат из Конгресса, блистательно выступая перед камерами, щеголяя злотыми часами и своей вопиющей бессовестностью, боялся их. Да, они все боялись пацифистов и детей неба – тех, кто был самой свободой и излучал радость. Ведь такие люди на самом деле могли бороться, ведь недаром они были здесь и сейчас на этой площади. Просто они никогда не стали бы сражаться за лжецов и лицемеров. Они не хотели быть частью общества, в котором все делают вид, что все хорошо, вместо того чтобы решать проблемы или хотя бы взглянуть на них. Власти, которые должны оберегать народ, а вместо этого эксплуатируют его, давят словами, поступками, законами, идеями, проектами, дубинками, долгом, патриотизмом, считают рабами и говорят об этом в своих богатых кабинетах – такие люди не могли быть у нас в чести. Ведь даже слово «честь» было для них чуждым. За ними не было правды, не за что было жить нам, но зато можно было умереть за Родину. Бедное, несчастное слово, как же его испоганили… Правильно Писатель всё сказал, правильно. И вот мы все здесь собрались, потому что знали – бегство не приведет к спасению. Бегство от проблем, от своих грехов. Мы бежим, потому что боимся, и этот страх разъедает наши души, уродуя их, лишая сил для продолжения борьбы. Так мы сами себя и убиваем.
-–
Первое, о чем спросила «Аленушка», войдя в кабинет Зарёва через несколько месяцев было:
– Ну, как? Ваш друг умер?
Николай поднял на неё глаза, с неохотой отложил ручку и откинулся на спинку кресла, выключив аудиозапись, звучавшую из динамиков на телефоне:
– Да.
– Мучился?
– Вы и ему гроб нарисовали? – вопросом ответил поэт на её радостный блеск в глазах.
– Нет, я не рисую гробы незнакомцам, – она села на то же самое место, что и в прошлый раз. – Кстати… Это ваш.
Она протянула лист А4 из своей сумки. Зарёв с неохотой взял его. Чёрными ломаными линиями в белой пустоте был начертан ящик – последнее пристанище всякого, кто мог это увидеть и понять.
– Углем рисовали?
– Да.
– Выразительная глубина цвета, а…
– Что слушали?
Она смотрела на телефон. Её платок на молодой голове начинал уже раздражать.
– Михалева Алексея. Тот самый, который фильмы переводил в девяностые.
– Одноголосый?
– Да, тот самый.
– Ого! У нас дома было столько кассет с его переводами, вся полка в шкафу была заставлена, вооот такая… – почти смеясь, говорил из самых глубин радостный ребенок.
– Да… – задумался Николай смотря на «Аленушку», а потом снова перевел взгляд на рисунок. – Он был выдающимся человеком, мастером своего дела. Я люблю посидеть за работой под аудиодорожки из озвученных им фильмов.
Беспросветный мрак черных линий затягивал, уводил от света белого. Кто бы мог подумать, что Алексей Михалёв вот так внезапно уйдет, ведь казалось, что всё только начинается. Хотя, сильнейшие люди всегда так внезапно ломаются. Одна вещь, что-то маленькое и незначительное может их подкосить, выбить из душевного равновесия. Минута – они лежат сраженные на земле. А потом все роются в их архивах, шкафах, белье, стремясь найти великую грязную тайну. Но ее нет. Есть только человек, про право, на слабость которого все забыли. Кто знает, быть может, и ему нарисовали гроб. Если подумать, рисовать гробы для людей при их жизни – занятие милосердное, напоминающее о том самом неизбежном событии, которое ожидает каждого. Один человек – один гроб, вот и всё, ни слова и ни штриха больше, даже звуки уйдут куда-то глубоко в самое нутро, уступив место абсолютной тишине.
Она о чем-то еще говорила, но Зарёв перебил её, отрываясь от рисунка:
– Знаете, я тут подумал… А давайте проведем выставку. Прямо здесь, в Доме книги. Я заплачу из своего кармана. Только и гробы свои тоже выставите.
Его лицо выражало умиротворение, свойственное только самым добрейшим из рода людского.
А тем временем в Питер снова пришла осень. Теплые посиделки, уютные дожди. Шелест страниц, оживление на каждой кухне, благодарность за то, что всё это есть. Осенью время будто замирает, стекает вместе с каплями в стоки, наполняя могучие подземные реки вдалеке от людских глаз. Сентябрь… Золотая осень на пороге.
– А так всё хорошо, лето выдалось тяжелым, Вильгельма, например, не пустили в страну, все эти разгоны митингов, да давление, которое растет с каждым месяцем на нашу редакцию со стороны властей… Да, лето было нелегким. Но осень вселяет надежду, да? – спросил Зарёв у лавки, сидя на ней в одиночестве.
Александровский парк под серым осенним небом предпочитал хранить молчание. Всё в нем застыло на месте, опустело, заснуло. Длинные дорожки пусты, редкие здания будто отвернулись от посетителей, закрывшись в себе. И только ветер в кронах вековых деревьев отвечал поэту. Посидишь так и вспомнишь былые дни, когда одиночество было наполнено поэзией.
Сижу, пишу. Среди ночи в тишине.
Деревянные ставни смело открыты навстречу темноте. Подоконник белеет толстым слоем краски, нанесенным на него, когда еще не было этой страны. Я чернею на нем в застывшей позе, обращенной к свету луны. Сегодня она особенно ярко светит в руки мои. В них – блокнот, карандаш, я стихи пишу. Слышу, как о бумагу трется графит, выводя букву за буквой, строку за строкой. Здесь очень тихо, только листья шумят – поцелуй их, ветра, и всё дерево затрепетало. В окнах домов царствует ночь, день позади, все заснули. Жук присел на окно, чернеет на белом. Я смотрю на него и снова пишу. Про жука, про луну, про ветер и листья, а жук все сидит, будто ждет результата. Фонари притянули всех мотыльков, они кружатся по кругу, не зная, что делать. Пробежала собака вдоль соседнего дома, пролезла под решетку и сразу во двор. Слышу, что где-то едет машина. На улице ей одиноко, вот и водитель едет скорей – машина промчалась мимо. Луна чуть сместилась на небосводе, сместился и я. Строчка дописана, точку поставил. «Это последняя»,– сказал я жуку. Он повертелся и улетел, больше не проявив ко мне интереса. Карандаш положил, опустил я блокнот, луна светит теперь на лицо мне. Ночь все также тянет меня, и вот я сижу, не зная, что делать дальше. Я закрою глаза и вспомню, что было раньше.
Подстриженные зеленые газоны омыты каплями дождя, сыростью веет в воздухе. Маленькие белые цветочки, растущие здесь повсюду, начинают склонятся к земле перед лицом неизбежного увядания. Здесь теплее, чем в городе, но руки всё равно приходится прятать в карманы. Мимо пробегает девушка в легкой ярко-жёлтой куртке: пока она находится в своём напряженном движении, холодное дыхание природы ей не страшно, как и редким птицам, пролетающим между верхушек деревьев, готовым в любой момент прервать свой полет, спрятавшись от дождя.
– Твоего любимого не было, я взяла на свой вкус – раздался нежный голос Лены, подошедшей с двумя большими бумажными стаканами в руках.
– Ты же знаешь, что твой вкус обычно приводит меня в восторг, – ответил Николай и взял кофе. – Пошли пройдемся, а то я что-то замерз.
Он взял ее под руку, и они медленно пошли по пустому парку.
– Как? – спросила Лена, когда Зарёв попробовал напиток.
– Восторг, – улыбнулся он. – А еще я никак не привыкну к твоей короткой стрижке.
– Мне надоело, за ними так ухаживать надо.
– Да-да, но сейчас в ванне ты всё равно продолжаешь проводить по полтора часа, – с усмешкой заметил поэт.
– Это привычка, – ответила Лена и прижалась к его плечу. – Вот еще покрашусь…
– Что-нибудь дерзкое?
– Вне всякого сомнения…
Мерно шурша мокрой гранитной крошкой, они прошли мимо строгого, как вытянувшегося на своём посту гвардейца-солдата, красного здания арсенала, этакой мини-крепости в центре парка. В своё время Мирон Игнатьев участвовал в его восстановлении и звал Николая на торжественное открытие. Почему-то поэт не смог прийти, сам уже и не помнит почему.
Мирон появился на пороге редакции месяц назад без предупреждения. Узнав, что Николай на своём месте, он терпеливо дождался конца рабочего совещания, выпив предложенную ему чашечку молочного улуна с голландскими вафлями, и наконец прошел в кабинет Зарёва. За эти годы Мирон прилично набрал в весе и отрастил густую окладистую бороду, из-за чего стал похож на могучего богатыря-старообрядца. Объяснял он это сытой семейной жизнью, ведь когда у человека появляются постоянные деньги в существенном размере и, не дай Адам Смит, человек становится юридическим лицом, то он сразу как-то тяжелеет, при чем на физическом уровне. Наверное, это и есть солидность. Качество, не отрицающее все другие «весомые» качества в человеке.
Николай радушно встретил его, они уселись за стол и немного повспоминали былое, между делом почтив память Кирилла Златоусцева.
– Я тогда в Филадельфии был, – не смог присутствовать на похоронах, – сказал Мирон. – Скоро поеду туда с Олей снова.
Он сделал небольшую паузу и, не дожидаясь реакции собеседника, резко спросил:
– А ты? Как планы? Слышал, что чуть ли не на поклон к тебе с самого верха приходили, а ты ни в какую не хочешь сотрудничать.
– Тебя это удивляет?
– Да. Ко мне, несмотря на благоприятные отзывы от государственных изданий, так и не пришли за эти годы, а вот к тебе…
Он постучал толстыми пальцами с перстнями по столу в ожидании объяснений.
– Да, они приходили, и многое предлагали. А еще больше требовали. Ты работал с ними, знаешь о том, что у них есть даже список запрещенных выражений для журналистов.
– В том числе и я его составлял, – с ехидной улыбкой ответил Игнатьев. – Ты один из немногих на моём веку, кто отказался от такой крыши. А в твоем случае – не продался.
– И что же, мне жить как Горькому? – вскочил Зарёв, устав от этой игры. – Закрыть глаза на все эти бесчинства и довольствоваться ролью живого классика? Да они душат наши права, воруют и уже не прикрываются ничем, используют нас! «Ой, извините, в нашем фонде, куда вы всю жизнь отсылали свои деньги, вдруг оказалось пусто». И вот потом еще на трибуне стоять мне, да? Обласканному лучами любви «народа». Горький же ездил в Соловки, он видел, что там происходит. Ему даже мальчишка-заключенный рассказал всё, что с ним делали. А потом писатель уехал, тьфу, даже противно называть его писателем. И мальчик бесследно исчез. И всё продолжилось. И собственное произведение нагнало Горького. Впрочем, его тоже можно понять. С хорошей жизнью никто расставаться не хочет.
Игнатьев смотрел на него снизу вверх и был слишком расслаблен для такого момента. Он раскинулся в кресле, повел рукой и с легкостью сказал:
– Так вот я тобой и восхищаюсь, правда.
– Ты?
– Да, я бы не смог отказаться. Но, слава Богу, это искушение прошло мимо меня.
Николай сел на своё место и посмотрел в окно на темный купол Казанского собора: с вечно серым небом всё становится только черным или грязно-белым.
– Прости за эту борьбу в печати, сам понимаешь, я сторонник классического слога, ты – дитя экспериментов новаторов прошлого века, – продолжал Мирон. – Мы не могли иначе. Я отрицательную статью на тебя, ты на меня – вот и поднимаем рейтинги друг друга. Бизнес. И ты в нем крепко завяз.
Он повернул голову к окну:
– Красивый вид. Один на миллион. И за него тоже придется платить.
– Зачем ты пришел ко мне? – спросил Зарёв, вновь смотря на собеседника. – Когда ты появился здесь, я подумал, что это они тебя послали. А тут… Мог бы мне просто позвонить.
– Коля, – Мирон протянул к нему руку. – Я предлагаю избежать платы. Тебя же ненавидят, ты заноза в мягком месте похлеще этих жиденьких либералов. Они ограничены сами собой и топят друг друга, а ты… ты слишком громко и хорошо поёшь. У них нет адекватного способа борьбы с этим, даже цензура бессильна против хорошего слова. Поэтому они пойдут на всё. Поехали с нами. Я с Олей, своей женой, помнишь ее? Она была певицей в Мариинке. Мы с ней навсегда уезжаем в Филадельфию. Валить надо, Коля, валить, пока есть возможности и средства.
– Ты ведь понимаешь, что я не могу бросить это всё и всех этих людей?
– Понимаю. Поэтому знай, что Филадельфия всегда открыта для тебя, просто позвони. И всем станет легче. Тебя на Западе знают, а как приедешь – полюбят. Да и тут власти вздохнут спокойно. Да и простым людям ты голову морочить перестанешь. Ты же понимаешь, к чему всё идет. Новый режим неизбежен. Не может наша Родина жить по-другому.
– Ты сдался. Так что езжай, я тебя осуждать не буду, – прервал его Николай. – А я буду здесь, это моё.
– Ааа, я понял… – Игнатьев откинулся на кресле. – Такой большой соблазн быть страдальцем, мучеником. Гарантированный венец на голове после смерти, – он коснулся рукой верхнего кармана своей рубашки. – Медаль героя.
– Думаю, нам пора прощаться.
– Да.
Мирон встал и напоследок сказал:
– Я же о тебе, Коля, думаю. О Лене тоже. Вот я сейчас к тебе пришел, предложил, а потом, кто знает, как всё повернется. Сам себя спросишь: а был ли мальчик?
Он направился к выходу, но в дверях остановился и повернулся:
– Удачи.
В его пышной бороде на секунду промелькнула улыбка.
На самом деле, Александровский парк выглядит заброшенным всегда, особенно на контрасте с шумным Царским селом. За высокими заборами ходят толпы туристов, говорящие на всех языках мира, медленно «вливающиеся» в пространство соседнего Екатерининского парка, наполненного скамейками, указателями, экскурсионными группами, кафе и множеством фургончиков с хот-догами и мороженным. Двери дворца всегда распахнуты для туристов. На фоне этой суматохи Александровский парк выглядит темным отражением Царского села, заброшенным и позабытым в истории. Это состояние прекрасно отражало настроение Зарёва.
– Сегодня мы наконец-то дойдем до кладбища лошадей? – спросил он. – Столько раз здесь были и ни разу не дошли.
– Да, давай. Интригует название.
Они сверились с картой и побрели вдоль зеленого поля. Зазвонил телефон. Коля взял трубку, сказал несколько отрывистых фраз и долго слушал собеседника, отпустив Лену и встав на краю поля.
– Тираж арестовали, надо ехать, – сказал он, положив телефон в карман.
Работа звала в выходной. Прогремел гром, и пошел дождь. Парк опустел окончательно.
Капли дождя.
Дождь, дождь, он все также льет на крыши домов из железа. А мы всё также стоим у окна и смотрим на город, в котором все собрались. Капли стекают по стеклам, ветер воет из форточки – страшно и очень свежо. В молчании и мокрых дорожках, стекающих на карниз, мы видим себя молодыми. Прошлое вновь оживает в эти мгновения, минуты. Оно предстает перед нами, и каждый видит что-то своё, в этом мы уникальны. Звуки дождя, как удар в барабаны – постепенно хватает нас и уносит, мы поддаемся и улетаем, мы больше не здесь, мы в своих головах. Замкнулись и ищем, долго, упорно, но не находим, оттого все молчат. Грома удар сердце сжимает, заставляя вернуться назад. Все переглянулись и снова смотрят на окна, слушая капли дождя. Где-то под крышей голуби тихо сидят и смотрят на город. Они чистят перья, воркуют и спят. Только нам не до сна, мы всё еще ищем, все мы в пути. И дождь так и шел, хоть и годы прошли. Одно поколение сменилось другим. И новые люди вновь смотрят на дождь и замолкают. Лишь грома раскат заставляет их вздрогнуть, посмотреть на других и снова молчать. Они все в пути, и дождь лишь у них в головах.
– Алло, Сирень?
– Да, Коля.
– Привет, как ты?
– Всё хорошо. Сейчас иду домой, а что?
– Тебе удобно говорить?
– Да, да.
– Да сегодня день такой длинный. Я тут вспомнил и мне не дает покоя один вопрос.
– Какой?
– А ты начала снова петь?
– Нет.
– Почему? Ты не любишь петь для людей?
– Я же тебе говорила.
– Говорила, но сразу же меняла тему разговора.
– Я с детства пела про одиночество, любовь, меланхолию и… я ни черта не понимала, просто пела. Сейчас думаю об этом и мне страшно. Какая меланхолия в 9 лет?
– Но сейчас же ты чувствуешь, живешь и понимаешь, что это за чувство. Чего боишься?
– Я вырезаю по дереву, мне этого пока хватает. Ты соскучился по моему голосу?
– Да.
– Ну… Ладно, я запишу для тебя пару песен. Но только для тебя, никому их не включай.
– Хорошо, спасибо, Сирень.
– Совсем тяжело?
– Ты про что?
– Про работу.
– Ну, да. Сегодня вот целый тираж газеты арестовали. Где-то там необоснованную клевету увидели представители закона. Газета еще не вышла, а они сразу же всё знают.
– Подозрительно.
– Особенно, когда клеветы нет.
– И что дальше?
– Юристы работают. Завтра продолжим бой.
– Иди спать, ты же сейчас на работе?
– Да.
– Иди спать. Всё будет хорошо. Хватит делать вид, что всё знаешь. Иди отдохни.
– Спасибо.
Положив трубку, Зарёв встал и несколько раз обошел стол в своём кабинете. Он неспешно нарезал круги, заложив руки за спину, и думал, что когда-то любил её. Любил всей душой, всем нутром своим и каждую ночь просыпался со жгучей болью в сердце. А теперь?
Невский в свете фонарей бурлил под окнами. Дом книги уже закрывался.
А что он сейчас хочет написать? О чем просит его душа? Он сел за стол и взялся за ручку. Почему он вообще пишет? А что он мог о себе рассказать? Он и не знал. Наверное, поэтому его так трогали истории других людей.
Он начал выводить на бумаге:
«И мир остановился от …»
Он на секунду замер и продолжил писать. Времени хватило всего на несколько строчек: к нему уже поднимались.
В этот поздний час в дверях кабинета Зарёва появилась Алексия Цвет – изящная жена Антона. Увидев её в дверях, Николай отложил листочек в сторону, думая о том, как её пропустили.
– Не ожидал увидеть вас так поздно, да и вообще не ожидал.
Она медленно сняла длинные чёрные перчатки, брезгливо осматривая обстановку.
– Всё самое интересное…– начала она, подходя к картине на стене. – происходит после заката.
– Вы что-то легко одеты, приехали с Антоном на машине?
Она резко повернулась, присев на край стола в нескольких метрах от поэта:
– Вам не нравится моё платье?
– Вам идёт цвет морской волны.
Зарёв старался смотреть ей в лицо. Эта дамочка надоела ему своими звонками, а теперь пришла в вечернем платье и строит из себя гордую представительницу семейства кошачьих, что выгибается всеми местами и делает вид, что всё так и должно быть.
– Я приехала с любовником, – резко сказала она, вставая и подходя к окну. – Никогда не любила церкви, а вы? Всё детство заставляли там скучать.
Её хрупкие оголенные белые плечи приманивали взгляд на фоне бескрайней ночной черноты за стеклом. Она на несколько секунд обхватила себя руками, а потом продолжила, повернувшись к собеседнику, всё также сидящему в кресле во главе стола:
– Я тут посмотрела ваше весеннее выступление по тв. Вы такой словоблуд.
Она села на край стола, опершись на левую руку и изучающе смотрела на него:
– Вы всё время говорите какую-то чепуху, глупости. Знаете, в чем секрет счастья? Сделать свою женщину счастливой.
– Я полагаю, что даже если это так, у нас разные женщины.
Она улыбнулась. Красная помада и острый нос делали эту улыбку зловещей и ядовитой:
– У меня и женщины есть, – со скукой сказал она. – И этот муж. Но, на самом деле, всё грустно. Муж – не панацея от несчастья и скуки.
Она повернулась к открытому окну и смотрела на луну над Казанским собором.
– Ненавижу его. Он такой глупый мальчишка. Я вот даже писать начала ему «в пику». А он говорит: «молодец, милая, так держать». Думаю, он и не читал ничего моего. Я ему там так косточки промываю…
– Сигаретку?
– У вас их нет, – она вновь повернулась к Зарёву. – Лучше приглушите свет и займемся делом, а то, чувствую, у меня скоро голова разболится от всех этих мыслей.
Николай сжал губы и медленно произнес, постукивая пальцем по столешнице:
– Сигареты есть. У охранника на первом этаже.
– Провожаете меня? – она наклонила голову в бок. – Вы лицемер. Но порой восхищаете. Как вы там говорили, сейчас вспомню… «Стандартные люди не способны на великое. А Любовь, с большой буквы, она, пожалуй, лучшее, на что мы, человечество, можем. И поэтому мы так плохи в ней, потому что вокруг одно среднее ни-че-го. А что будет делать ничего? Явно не любить и прощать». Ваши же слова.
– Вне контекста, – ухмыльнулся Зарёв.
– Как и мы сейчас. По-вашему я «среднее ничего»?
Серые глаза поэта несколько раз оглядели её с головы до ног:
– Это не так, хоть вы и пытаетесь с ним слиться.
– Я? Слиться? – она наигранно рассмеялась.
– Даже сейчас, – Николай со вздохом отвернулся от нее и взял в руки ручку, готовясь продолжить писать стих. – Идите. Сегодня вы встали с не той ноги.
Ещё минуту она сидела на столе, устремив в поэта свой холодный взор брошенной роковой женщины, а он даже не смотрел на неё, всё писал свои строчки.
– Насколько же вы жалок, – прошипела она и быстро вышла из кабинета.
Ночь продолжалась. Под окном уже несколько раз проезжали машины для очистки улиц, тихо попискивая своими мигалками. На днях заходила Маша с Берком. Они поженились год назад. Красивая и практичная пара. Сейчас Маша носила под сердцем ребенка. Они долго разговаривали с Николаем о прошлом и своём будущем. Поэт улыбался и давал советы. В конце он сказал, задумавшись:
– Всё у вас будет хорошо. Такие чудесные люди как вы никому не помешают и будут счастливы в тиши.
Наверное, это звучало как-то грубо. Коля был рад тому, что у Маши всё хорошо.
– Тук-тук-тук! – раздалось над ухом.
Зарёв дернулся и открыл глаза.
– Что-то вы спите на рабочем месте.
Поэт посмотрел вперед и увидел знакомое лицо. Вглянулся ещё раз, пытаясь отделить сон от яви: на подоконнике на фоне подсвеченного Казанского собора сидел Антон Цвет.
– Так и будем молчать? – посмеиваясь спросил он.
– Да я, просыпаюсь… – неуверенно сказал Коля и сел ровно. – Я тут.. завал, в общем. Рад, что зашёл.
– Да-да, кому теперь нужны наши бессонные ночи молодости, – вставая и прохаживаясь вдоль стола, сказал Цвет. – Я тут ехал через центр и увидел в твоём окне свет. И вот…
Он взял стул, перевернул его спинкой вперед и сел, расставив ноги в стороны:
– Как жизнь?
Он заметно потолстел, осунулся, истёрся, будто был тряпичной куклой, забытой на дачном карнизе на всю зиму. Даже глаза потеряли запал, в них тлели лишь едкие угольки, не дающие никакого тепла. Только его губы были по-прежнему всё также изящны.
– Как-как… Паршиво. Пить будешь? – сказал Николай, подходя к комоду в дальнем углу комнаты.
– Не, я бросил.
– А чай, кофе?
– Не, скучно. Был на днях в Кронштадте, знаешь, там так подняли город. Разваливающихся домов гораздо меньше, памятники привели в надлежащий вид, туризм процветает.
– И пол века не прошло, – сказал поэт, бросая ложки молотого напитка в бокал.
– А как тебе новый праздник воинской славы – День взятия Риги?
– Ерундой занимаются. Не это нам нужно. Будто всё, что надо это флажки раздавать и скандировать: РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! Не берет меня гордость за Родину от такого.
– Ну ладно, ладно, не расходись. Так как, дела-то?
– Фестиваль не получился, газету давят, творческие цеха и объединения хотят от нас того, что мы уже не можем им давать… ох, проблем полны руки и голова.
– Понятно… Слушай, ты не обижайся, но… – Антон замялся и опустил глаза. – Если по правде, то это я посоветовал господину губернатору обратить на тебя внимание, причем самое пристальное. Но это всё ради нашего блага.
Николай медленно повернулся к собеседнику с чашкой кофе. Он медленно отпил и деревянной походкой вернулся на своё кресло.
– Так… И в чем благо?
– В том, что тебя заносит, – обвинительно заявил Цвет, вступив в зрительный контакт с оппонентом. – Ты хочешь того, что нельзя реализовать, а если и можно, то это опасно. Не все люди такие умные как ты, твои просветительские идеи и весь этот дух либерализма может так аукнутся, мы же сейчас всё как на пороховой бочке сидим. Нужна сильная власть, она формируется прямо сейчас, но ты… Я бы не стал, но открытое письмо президенту по поводу прав человека – это уже перебор. Ты где живешь? Ты же сам себя закапываешь, живьем зарываешь, и Лену зароешь, и нас всех, зароешь! – закричал Антон.
Зарёв стукнул бокалом по столу, расплескивая напиток и вскочил, быстро подойдя к окну.
Цвет тоже поднялся:
– Мне уже со всех инстанций сверху про тебя говорят. Если бы я не шепнул губернатору и тот же самый фестиваль провели, а? Ты же таких специалистов позвал из-за границы, они этими своими театрами и фильмами тут такое бы устроили! Ты бы уже в тюрьме сидел за пропаганду всего этого, хорошего! Ну, нельзя, нельзя у нас по-человечески, пойми. Не надо сейчас искусство, не нужно оно, оно должно встать и затвердеть, не нужны нам сейчас перемены, за них накажут, я…
– Хватит, – отрезал Николай.
Он монолитом застыл перед подоконником, опустив голову. Цвет замер, расставив руки в наклоне к нему. Поэт сжал зубы и повернул голову:
– И что же ты только сейчас об этом сказал?
– Ночь, вот и разжалобила она меня, видимо, – просто ответил Антон.
– Так просто?
Цвет задумался, а потом кивнул головой. «Бессовестные люди» – подумал Зарёв, отворачиваясь. – Не делай так больше, лучше просто позвони. Я тебя услышал.
– Ох, спасибо, я так волновался, – подошёл к нему Цвет и начал говорить, но Николай его не слушал.
В молодости только и ищут приключения, возводят свои левые часы до небесных высот, а став взрослыми, отмахиваются от этого, погруженные в свои бесконечные заботы, окаймленные одиночеством. И откуда это одиночество? Гордость, убеждения, целеустремленность, серьезность, честолюбие – какая из этих современных добродетелей загоняет нас в тупик серости и грязи?
– Уже поздно. Давай прощаться, – прервал трели Цвета поэт.
– Да, давай… Слушай, ты, кстати, мою Алексию видел?
Зарёв несколько раз быстро моргнул, а потом повернулся к собеседнику:
– Что?
– Ты мою жену не видел?
– Нет, а… почему ты спрашиваешь?
– Да ничего, просто, думал, она у тебя на днях заезжала, что-то я её всё меньше дома вижу… Ладно, пойду.
Выйдя из Дома Книги, Цвет спиной чувствовал взгляд своего друга. Но оборачиваться не стал. Сел в машину и не думая поехал, сначала даже не в ту сторону. Он ехал, прокручивая разговор с Зарёвым в голове, гнал по Невскому до Дворцового моста, а потом развернулся и понесся в другом направлении, как загнанный зверь. Он поднимал свои глаза к светофорам. Но не видел ничего, соленая пелена закрывала их. Он свернул на Лиговский, потом еще куда-то, потом еще. Руки его тряслись, машина виляла. Он резко остановился, ударившись головой о руль и затрясся в слезах.
– Господи, что же происходит…
Жизнь его рушилась, карьера встала, приобрела непонятные очертания, разочаровала. Без Зарёва он был простым бардом. Почему, почему жизнь так жестока? Почему то, о чем мечтает один всегда так легко получается у другого? Почему людям всё так легко даётся? И только он один, сидит в этой проклятой машине и не знает, куда ушли его последние годы? Он стал продюсером и окончательно ушел в тень. Когда он в последний раз брал в руки гитару? Руки помнят, они всё помнят… А голова понимает? Он поднял голову и потер ушибленный лоб. Как жить с такой завистью?
Цвет повернул голову и увидел вывеску круглосуточной шавермы. В ней наверняка играет отвратительная музыка. Хотя, о чем беспокоиться человеку, под крылом которого исполнители не лучше? Когда-то он боролся с этой музыкой, а теперь поникши идет к ней по мокрой брусчатке.
– В обычном или сырный?
– Сырный.
Неужели Зарёв и правда его отпустил, правда… простил? «Скотина, этот Зарёв, святого корчит, падла, – думал Цвет, сдерживая ком в горле. – Такое не прощают, я же палки ему в колеса вставлял, я же собак на него спустил, боясь, боясь за себя, он же чертов блаженный от искусства, реальный мир не знает, я… Я не знаю».


