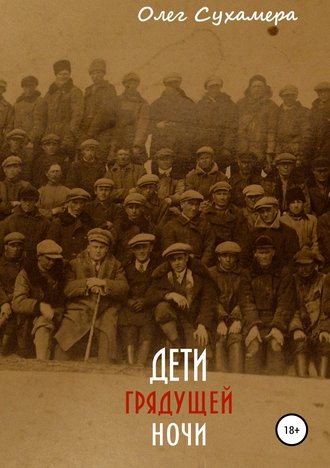
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
И у Стася было что дать этому типу – нечто такое, что позволит соратникам следователя заговорить о нем как о профессионале экстра-класса, раскрывшем громкое резонансное дело, которое войдет в историю криминалистики, будет изучаться долгими десятилетиями, вызывая восторг полицейских и ужас обывателей.
Стась собирался выкупить свою свободу, продав судьбу разговорчивого маньяка-доктора, рассказавшего достаточно, чтобы изменить гуманный закон и вспомнить о четвертовании на общественной площади.
Но пока Стась молчал, давая себе передых перед судьбоносной беседой, инстинктивно занимая сильную позицию.
– Вот вы думаете, что вы герой. Нет, не спорьте, думаете-думаете, – Мичулич сощурился, отчего стал вдруг похож на сытого кота, играющего с пойманной мышкой. – Но это не так. Такие, как вы, юноша, стремятся сломать устоявший порядок, чтобы им было комфортнее. Но это ошибка, мой юный друг. Система бессмертна, она проглотила миллионы таких, как вы, не поморщившись, не заметив даже самого факта вашего существования. Вот перевернули вы все с ног на голову в камере. Браво. Вся тюрьма только об этом и говорит. Щенок, укротивший матерых волков. Мне же смешно. Этакая буря в стакане воды. Вот, к примеру, я, простой клерк, серая канцелярская мышка, одной фразой могу превратить эту вашу эпическую победу в ничто, в дерьмо, которое поглотит вас и растворит. А через неделю, Вашкевич, о ваших несомненно выдающихся волевых качествах не вспомнит никто. Никто, вы слышите меня? Слава – такая вещь, ее нужно подогревать, подогревать извне, если вы понимаете, о чем я.
– Слава меня интересует меньше всего. Задача была выжить.
– Что ж… поздравляю. Вам удалось. Одной статистической единице удалось выжить, – хохотнул служивый – Мне, как вы понимаете, не холодно от этого и не жарко. А знаете что? – встрепенулся вдруг Мичулич, – что вы скажете, если я сейчас подпишу пропуск о вашем выходе из этой гавани потопших кораблей? Это ли не эпический шаг? Я ведь могу… право слово, могу! – Мичулич скривился в усмешке и даже потянулся за тонкой перьевой ручкой, лежащей на рогах бронзовой оленьей головы, увенчавшей ампирный письменный прибор.
– Это будет ваше решение, – спокойно, стараясь не выдать своих чувств и не спугнуть удачу, процедил Стась.
– Думаете, не сделаю?
– Здесь думаете вы, – подлил слегка Стась на мельницу чиновничьего самолюбия.
– Мудро! И я… – Мичулич намеренно потянул длинную и пафосную, как сопля деревенского идиота, паузу. – Я! Отпускаю вас, юноша. Надеюсь, при случае вы вспомните об этой скромной услуге. Итак… Дело закрыто за отсутствием состава преступления! – следователь, не дождавшись ожидаемого эффекта, поставил витиеватую роспись на тонком листе и протянул его не глядя Стасю.
Еще не веря своей удаче, Стась взял лист, встал, плохо соображая, что теперь надо делать.
– Двери вон там, – мягко произнес следователь. Ему нравились такие моменты, он чувствовал себя слегка полубогом, прихотью своею карающим и милующим жалких человеков. – Вы! Свободны!
– Благодарю. Я не забуду. Напоследок, услуга за услугу… Доктор Беськов, ваш подследственный. Он…
– Мне не интересно. Этому существу, – Мичулич поморщился, будто откушал дерьмеца, – двадцать лет каторги причитается. Живым оттуда, в силу возраста, это, ну, не вернется. Так что, юноша… Оставим мертвым их дела! – следователь живо привстал, повелительным жестом показывая на массивные двери.
– Значит, пусть будет так, – Стась слегка кивнул, прощаясь, развернулся и пошел к тяжелым дубовым дверям, со скрипом отворившимся, чтобы выпустить его в более свободный мир.
Внутренне Стась был готов к тому, что чудес не бывает, и этот сюрреалистический, не заслуженный, выход может оказаться сном или, того хуже, жестокой шуткой чиновника. Поэтому почти не удивился, когда дверной проход загородил потный, плохо пахнущий охранник.
– У меня пропуск, – ткнул лист чуть ли не в нос детине Стась, и тут же съежился, как от удара: сзади, за спиной донеслось нечто подобное на икоту – это Мичулич, спрятав покрасневшее лицо в ладони, давился ехидным смехом.
Сколько раз он проделывал подобный фокус, наблюдая, как опускаются под тяжестью рухнувших надежд плечи подследственных, как предательски дрожат и подгибаются колени.
Одни падают и бьются в истерике, другие не верят в розыгрыш и продолжают тыкать никчемной бумагой в предупрежденную заблаговременно охрану.
Но, главное, в них выгорает дух – вот, что ценно. Ломаются, как спички в сильных пальцах, подчиняясь животным сиюминутным инстинктам, поняв, что свобода, такая близкая, такая желанная, воля, которая материализовалась из мечтаний, не благодаря, а вопреки обстоятельствам, – это всего лишь мираж, фикция. Выпорхнувшая из рук птица, мелькнувшая радужным оперением, чтобы одним махом уничтожить самое ценное, что есть у забитого режимом и подавленного человека – надежду.
Чиновнику было даже интересно, как себя поведет этот крепкий орешек, которого можно было бы и отпустить, но впереди светила еще половина неплохой суммы, которую притащит – куда он денется! – в своем загнутом клюве этот иноверец, посланец старшего брата. Кто ж выбрасывает деньги из кармана? Не те времена, чтобы быть хорошим. Все берут, это Россия, тут на барашке в бумажке все держится. Бери, воруй, но не попадайся – вот и весь уголовный кодекс империи в двух словах.
Охранник гоготнул подобострастно и, взяв бумагу с подписью, начал медленно, перед лицом Стася, как велел следователь, рвать ее на мелкие клочки.
В этот момент слабые натуры заходились в рыданиях, более крепкие впадали в ступор. При любом раскладе с разрушенной крахом надежд психикой заключенного было проще работать. Апатия ли, истерика – все хорошо, чтобы сломать волю, а там, по возможности, и подписать нужный протоколец.
Но что-то пошло не так. Следователь еще продолжал хихикать в предвкушении, что вот сейчас этот неуступчивый, сильный Вашкевич начнет качать права, которых у него нет по определению. А Стась уже со всей молодецкой дури поддел гогочущее лицо охранника прямо на макушку стриженой головы. Промахнуться по жирной, откормленной на изъятых крестьянских передачах, харе было трудно. Увалень в форме падал, не шибко соображая, в чем дело, следователь Мичулич еще хватал удивленным ртом спертый кабинетный воздух, а Стась юрко, с яростью раненого зверя, уже петлял по изгибам бесконечных административных коридоров.
Прыжками – прочь, прочь! Не разбирая дороги, по велению каких-то древних инстинктов, в одном порыве взлетел над крашеными досками пола, разбивая всей массой тела коридорное окно, и вот он – воздух! Покатился, покатился, покатился по крутому настилу. Еще прыжок – чувствительный ушиб о крышу соседнего здания.
Вскочил, поскользнулся, зашуршал вниз по жестяному скату, к краю, за которым уже сладко облизнулась погибель, но чудом, едва ли не ногтями, уцепился за что-то. По-кошачьи, едва не вывернув плечевые суставы, выхватил болтающееся тело из жуткой пустоты и вновь на пределе сил побежал.
Барабаном в ушах били звуки собственных шагов, или это сердце пробовало выскочить из груди? Не до этого! Сейчас не время копаться в себе, Стась не понимал, что делает, и не хотел понимать. Побег «на рывок», который матерые уголовники не чествуют, презрительно называя «фраерским», удался. Пусть судят победителя неудачники, которые не рискнули попробовать.
Мысли крутились хаотично, свобода пьянила, будоражила сознание лучше самого игристого шампанского. Из хаоса, бурлящего в голове, Стась привычно вычленил главное: самое важное было то, что он предоставлен сам себе, что теперь – его воля, от него все зависит, а за это ощущение и умереть не страшно.
Ежился от удаляющихся свистков разъяренной охраны, сигал с крыши на крышу, пока не выглядел в сгущающихся сумерках спасительную пожарную лестницу, по которой и снесся вниз, к свободе, которую добыл сам.
Еще мгновение, и спасительная темнота провинциальных улиц проглотила беглеца, будто и не было его тут никогда.
* * *
Лето вторглось в город, высушив грязные булыжные мостовые. Тысячи столбов печного дыма перестали заслонять горизонт, и воздух неожиданно оказался прозрачен и даже вкусен. Казалось, его можно мазать на хрустящую питерскую булку, настолько аппетитен был в нем привкус морской соли и свежей, прущей из всех щелей, зелени.
Отъевшиеся за холодный период извозчики наконец-то скинули свои огромные овечьи бекеши, позабыв о зябких ночах, сладко щурились, подставляя бородатые физиономии победившему солнцу. Лето с каждым мгновением набирало силу, собираясь спасти отсыревший город от присущего ему уныния, раскрасить в яркие свои цвета, и заставить любить его вечно.
Дедушка Лю ничтоже сумняшеся, с непосредственностью, свойственной диким народам, ловкими движениями отдирал присохшие сукровицей к коже бинты. Сергей пытался не морщиться от боли, но получалось плохо, точнее, совсем не получалось. Дедушка по своему обыкновению бубнил себе под нос на чистейшем, по его мнению, русском языке.
– Тигра! Человек-тигра, о, ты, Сирегей! Как тигра, приполз умирать домой. Это хоросо. Много силы – хоросо, смерть рано, теперь долго жить надо. Да-а-а… совсем мертвый был. Женьшень пил, рог оленя пил, медведя горький ягода пил, мясо молодой пацан кушал!
– Чего?! Ой! – вскинулся Сергей.
– А-а-а! Боялся? Шютка! Молодой баран хотел говорить. Моя думала, ты спишь.
– Поспишь тут. Нельзя поаккуратней?
– Нельзя. Нельзя поокроватней, можно, только нельзя. Хороший тряпка! Кровь густой, надо вода пить. Много! Туда положить мясо лягушка, варить, пить. Ссать много-много надо. Ссать – это писять по-русски. Совсем здоровый будешь. Яшка пустой человек был, Сирегей хорошо – тигра! Бабу надо только. Ци много собрал. Плохо без баба. Дашка к тебе пришлю. Хорошо! Большая сиська – очень мягкий. Добрая баба! Надо туда-сюда, охо-охо! – неприличным жестом дедушка показал, как надо, обнажив в улыбке почти оранжевые, как у бобра, зубы. – Плохой сила пройдет, хороший сила придет. Мужик такая жинзя. Баба тоже нравится. Надо. Дашка полтинник дашь, очень любит. Хороший баба. Могучий хер не боится совсем!
– Курить дашь? Деньги есть. Больно.
– Курить дурак любит. Сирегей не дурак. Не надо. Зачем опий? Опий шибко слабый любит. Сильный – опий плохо, только спать, лежать башкой в небе. Баба не надо, дом не надо, деньги не надо, человека не тута, а тама. Очена плохо.
– Чего тогда торгуешь?
Лю на мгновение задумался, потом взял одну из многочисленных склянок, стоящих на тумбочке рядом с панцирной кроватью, меланхолично подцепил на длинный ноготь какой-то черной вонючей субстанции и нанес на сочащуюся сукровицей одну из круглых дырочек, что появились у Сергея на теле после достопамятных событий.
– Сильный – помоги, слабый – толкни. Такой пыравило. Папа-мама учил. Жинзя! Деньги чутка надо, торговать надо. С сильный друзиться будешь, сам сила наберешь. Слабый друзиться будешь, сам сла-а-а-бый станешь. Такой, сопля ковыряй в носе, плакай каждый день. Э-э-э… Деньги нет, баба нет, кушать нет, писька мертвый совсем. Много печаль, силу ци слабый ворует, а сильный – дарит! У него много! Ты сильный. Тигра! Моя – хорошо! Твоя ци вкусный! Твои папа-мама урадуются, что у них сильный тигра! Гарадиться сын! – дедушка даже самодовольно хлопнул себя по колену, как бы награждая за вовремя ввернутое редкое русское слово «гордиться».
Сергей лишь вздохнул тяжко. Гордиться таким сыном родичам точно не пришло бы в голову. С малых лет только и заставлял пунцовеющего от ярости отца браться за ремень. Поводов было тьма: и разоренный соседский курятник, и сад пана Еленского с побитой стеклянной оранжереей, и мелкое воровство у соседей. Почему так? Стась и Мишка – нормальные же, не тянет их влезать в разное дерьмо.
Точно «тигра», живу сам по себе, для себя, и не моя это вина.
Сергей нырнул в неприятные воспоминания.
… Девятьсот пятый год… Неурожай, и рыба, как назло, будто испарилась из озер, не лезла ни в сети, ни в невод. Жрали что придется, подметая остатки муки из здоровенного пустого ларя, искали мерзлую, пропущенную при уборке, прошлогоднюю бульбу. Пухли с голоду. Отец, чтоб как-то выбраться из нищеты, уехал на заработки в Витебск, где, по слухам, было не так худо. Софья как могла разрывалась на четверых детей. Ганна – младенец, Мишка – трехлетний несмышленыш, и Сергей со Стасем. До сих пор не заживающая рана: почему отдали бабе Клаве на воспитание именно его…
Да, старший, это разумно, не прокормить было всех. Не выжить. Только отжил у бабки три года, пока вспомнили. Наверное, по этой причине остался на душе вечный шрам: чувствовал себя недолюбленным, брошенным ребенком.
Сейчас, впрочем, начал понимать, что все эти бедовые вылазки были им устроены лишь для того, чтобы напомнить родителям, что у них есть он, старший сын, и ему тоже нужно внимание. Любовь, черт возьми. Если бы не предательство, да-да, предательство – как еще это назвать? – отца и матери, то, наверное, и жизнь сложилась бы иначе, не покатилась бы по наклонной дорожке.
– Э, господина… не гурусти. У каждого свои путя! – будто читая мысли, заметил старый китаец. – Один маленький топай нога складывается в больошая путя, в дорога на тысясу ли! Но от больошая дороги бегают тасясы тропок. Человека думает, что выбирает дорога. Эге! Глупый! Дорога сама выбирает подходящий человека. Твоя путя, дао, не человека совсем. Да. Твоя тропинка, по которой ходить тигра. Тигра не мозет кусять огуруцы, он кусять мясо. Такая жинзя, – дедушка Лю встал и слегка поклонился, сложив маленькие ладошки перед тощей грудью. – Все! Исе неделя, и господина Сирегей мозет прыгать. Здоровый совсем, тока чесаться не надо, глязный люки – плохо!
– Спасибо, старик. Твое, – Сергей, кряхтя от покалывающей боли, потянулся было к тумбочке, где были спрятаны его скудные сбережения.
– Эге! Не надо деньги! – хитро улыбнулся китаец. – Мы их потратили на мазя! Да-а-а-вно!
* * *
Заработок на винокурне пана Мурашкевича был более чем скромный, но Мишка ухитрялся и с него откладывать по пару копеек себе на одежду. Помнил завещание Еленского: в любых обстоятельствах выглядеть как человек своего сословия. Жаль было потом выстраданных денег, и, покупая шелковую рубаху, думать не хотелось, сколько всякой подработки пришлось переделать ради этих перламутровых пуговичек и ровнехоньких стежков. Но младший Марута решил для себя раз и навсегда: приличный внешний вид – это демонстрация того, что дух его сильнее тяжких жизненных обстоятельств, что он стремится зваться человеком, и мелким сегодняшним трудностям не сбить с этого пути.
Перебродская пацанва, поначалу считавшая вид Вашкевича вызовом, потом блажью, потом легкой придурью, впоследствии смирилась и приняла франтоватый вид сверстника как нечто само собой разумеющееся.
Мишка критически осмотрел себя в облупленное настенное зеркало. Приталенный пиджачок черного бархата, белоснежная сорочка, драповое галифе и едва не сияющие сапоги – все по последней виленской моде. Мельком отметил, что вдруг стали коротковаты рукава, хотя пиджак вроде пошит совсем недавно. Всмотрелся внимательнее, и чуть не ахнул: вместо нескладного подростка отражение показывало стройного юношу. Мишка не удержался и протер рукавом зеркало, что еще за чудеса? Еще вчера был нормальный пацан, а тут – диво дивное – панич, да и только.
Софья, прибирающаяся для воскресного похода в костел, тоже что-то такое заметила. Тихо приобняв сына, шепнула на ухо, улыбаясь:
– Ты совсем взрослый стал. Бедные, бедные девки.
– Да ладно, мам! Какие девки! Ну их! – смутился Мишка, а щеки предательски загорелись.
– Я тоже выросла! – запрыгнула на лавку Ганна.
– Ма, а как ты смотришь, если я с тобой сегодня в костел, а не в церковь?
– Куда душа просится, туда и иди. Отец твой православный, как ты и Сергей. Стась и Ганна – католики. Так мы с батькой порешили, чтоб не ссориться. Бог один, никогда у нас вражды не было. Небось ксендз не выгонит.
По правде сказать, особой религиозности Мишка не испытывал, и биться лбом о церковный пол считал глупым предрассудком, посмеиваясь в душе над истовой верой матери. Но как можно отказаться от возможности увидеть в костеле прекрасную пани Ядзю? К черту в пекло нарядился бы ради такой возможности. От одной мысли о молодой жене хозяина по спине Мишки пробежала целая щекочущая толпа многоножек. Юноша поежился, «насекомые» проникли куда-то внутрь, ближе к сердцу, и оно сладко заныло в предвкушении наслаждения от неземного образа ясновельможной пани.
* * *
После дерзкого побега Стас решил выдвигаться в крупный город. Туда, где его никто не знает, туда, где можно затеряться в людской толпе и, по возможности, выправить какие-то документы, желательно на другое имя. А там, пройдет время, и сдохнет либо ишак, не научившийся говорить, либо падишах, поспоривший с Насреддином. Зачем задумываться о том, что будет потом? Живи настоящими проблемами, разбивай их на мелкие неурядицы сегодняшнего дня и справляйся. Чего проще? Благо на улице по-летнему тепло, и переночевать на собранном еловнике не проблема. С едой тоже решаемо: много не надо, хватит и пригоршни молока с оставленной кем-то на выпасе коровы.
За пару ночей удалось добраться до станции Крулевщизна. А там, после недолгих переговоров с проводником почтового вагона, за помощь в пересортировке посылочного груза, Стас был допущен в скромный служебный закуток. И даже напоен чаем и накормлен свежим двинским хлебом, выпеченном на аире по старинному латышскому рецепту. Настроение было хорошим и только улучшилось, благодаря доброму шмату розоватого сала, милостиво отхваченному щедрым служивым.
И застучали колеса, унося от вчерашних разочарований и угроз неведомо куда. Добрый проводник, желтоволосый сгорбленный дядечка лет сорока, любитель опрокинуть стопку и поболтать, подливал «свойской» в стеклянный мальцевский лафитничек и, посматривая на босого крепыша, лежащего на узкой вагонной полке, философствовал.
– Эх, паря. Чего бы я не отдал за то, чтоб быть в твоих летах! Вот ты, к примеру, молодой, здоровый, ничего у тебя нету, ни денег, ни одежи справной, ни жены, ни дитя, которое надо кормить. И по первому взгляду, ты несчастный, а я – с домом, курями, женой-дурой и парой дочек на выданье – счастливый. Э, нет! Ша-лишь! Ты так живешь, тебе что сегодня, что завтра, что вчера – до одного места! Чего тебе думать? Брюхо набил и радуешься. А тут. Эх… – дядька широко открыл усатую пасть и в мгновение ока одним могучим глотком опрокинул в себя ароматно пахнущую хлебом жидкость. – Бррр! – передернул покатыми плечами в черном форменном камзоле и продолжил. – Так о чем это я? А! Вот, значит. И едешь ты до Витебска, потому как поезд, извини, далей не идеть. И едешь ты такой, весь босяк, но! Ничего у тебя не болит, и тревог особых по накормлению семьи и напоению сурового начальства не имеешь! Я не против. Даже так скажу. Не женись, брат. Бабы дуры, но не дуры совсем! Умеют! Да… Все эти ужимки ихние, прижаться там бочком, шепнуть на ухо, рот намазать пудрой или чо там у них… все для одного! Чтоб хоть какого-нить убогенького, но мужичонку, заманить, изловить и… Запрячь! М-да… Сам не заметишь, брат, как из вольного сокола превратишься в трудовую коняшку. По первости – в радость, на руках тащишь, легкую, любимую – ик! Мож, все ж таки выпьешь с трудящимися? Ну, твое дело. И правильно! Водка – зло. За! Преуменьшениеколичествазлавэтоммире! Аминь! – следующую рюмку проводник заглотил еще быстрее, забыв поморщиться и крякнуть. – О чем я? Ага! Носишь ее, бабищу эту, не замечая, что раздобрела. Ну, пару детишек на плечи – святое дело! Кто против? Пжалуйста! Ну… та тонко намекает, что надо это все хозяйство того, кормить, значит. И пошло-поехало, ты такой, хомут на шею, и только пар валит: работаешь-работаешь. День, ночь, все едино! Арбайтен, потому что у тебя за плечами – куры, баба, ага, теща с еёными внуками, твоими дитями, стало быть. А там, едрить-раскудрить, тебя начальник состава петрушит: почему не вовремя?! Почему от дождя посылки, заплыви они говном, не накрыл? А я тоже человек! Может, мне его послать на туда, куда фига смотрит? Хочется, аж не могу. НО! Терплю. Потому как мы люди семейные, и нам работу терять никак нельзя. А что, брат! Может, ну ее! Эту… с мамой ейной! Махну с тобой! Чего, не веришь? Сейчас, только сапоги сниму, и вместе – босиком, айда! На дорожку!
Дядька приложился прямиком к узкому горлышку здоровенной бутли. Выдохнул, повращал выпученными глазами, попытался снять сапог, да так и заснул в страдальчески согбенной позе измученного семейной жизнью человечка.
… Вокзал в Витебске своей монументальностью мог поспорить с лучшими столичными образчиками архитектуры. Серое величественное здание, конечно, впечатлило Стаса, но все же не так, как огромное скопище людей, снующих туда-сюда с озабоченным видом.
Разноцветная, многоликая толпа: тут и приказчик, бегущий куда-то с толстой кожаной папкой под мышкой, и дородная баба, орущая про самые вкусные и свежие пирожки, и грустный еврейский мальчик, призывно машущий сапожной щеткой, заманивающий господ к своему измазанному ваксой ящику, и дамы в затейливых шляпках. И над этим всем – суровый усатый городовой, устало и безразлично взирающий на сей людской балаган. Картинка вертелась, меняясь каждую секунду, смотреть на действо губернского города можно было бесконечно.
Стас, вовремя вспомнив, что сейчас он на положении беглеца, тут же закрыл варежку и двинулся в сторону улицы, изображая ту же деловитость и озабоченность, присущую коренным витеблянам, прячась от натасканного взгляда разного рода сексотов, которыми людные места обычно кишмя кишат.
Подаренные добрым проводником стоптанные сандалии немного жали в носке, но на такие мелочи не хотелось обращать внимания.
Манили громадные по браславским меркам витрины фотоателье, галантереи, ювелирных, селедочных, керосиновых лавок и – о чудо! – даже синематограф братьев Люмьер.
Праздность сытого города разбавляли многочисленные военные, сновавшие строем и по отдельности, в скатанных вокруг туловищ шинелях, с лихо перекинутыми через плечо трехлинейками и бренчащими при каждом шаге котелками.
Будто в тон этой братии, покатые бока рекламных тумб пестрели плакатами, с которых сурово глядели усатые близнецы в таких же серо-зеленых гимнастерках. Лихие плакатные служаки тыкали в прохожих пальцами и орали аршинными буквами: «Во имя Родины! Вперед, богатыри!», «Военный 5. ½ % заем! Цель займа – ускорить победу над врагом!», «Жертвуйте солдатам-инвалидам!», «Обилие снарядов – залог победы!»
И тут же, страшное: «Во исполнение Высочайшего повеления о приведении армии и флота на военное положение:
1) нижним чинам запаса, с увольнительными билетами, а не имеющим таковых с видами на жительство или удостоверениями о личностях, явиться в участковые полицейские управления столицы по месту своего жительства, на 2-й день мобилизации, в субботу, 19-го июля в 6 часов утра, для отправления на соответствующий сборный пункт;
2) все учреждения и лица, у которых запасные служат, обязаны немедленно окончить с ними расчет и выдать увольнительные билеты, если таковые находятся у нанимателей»
Стас осознал, что империя вдруг начала жить совсем в другом времени, в новой, не добравшейся до браславской и миорской глуши, реальности. И, странно, но эта реальность юноше пришлась по сердцу: в мутной военной воде легче было спрятаться. И при удачном раскладе вполне возможно создать себе новую биографию, не запятнанную, свежую, геройскую.
Рядом с военными плакатами мирно уживалась реклама. Предлагалась в ней всякая всячина – от чудодейственного бальзама госпожи Беляевой и бриллиантина мосье Жака Трюо до брегетов на точном ходу и конской английской упряжи.
Стас еще вчитывался в мелкие буковки объявления «… ножи и прочие товары из настоящего русского БУЛАТА! Рубят гвозди, как масло! Прочные, нержавеющие! Разных фасонов и размеров! Изготовлены фабрикой «Кулешов и сыновья» по секретному рецепту из отборной нержавеющей стали господина Круппа», когда на плечо ему опустилась чья-то властная ладонь. Низкий баритон произнес с нехорошими казенными интонациями:
– Юноша, позвольте ваши документы.
Внутри у беглеца вдруг стало холодно, как в подполе у бабки Клавдии. Он начал медленно поворачиваться, надеясь таким образом выиграть время, чтобы сориентироваться в ситуации. В мозгу вспыхивали лишь две идеи, и обе были отвратительно плохими: бить или сразу бежать? Но и те сразу улетучились, когда Стас почувствовал, что его локти оказались намертво прижаты к бокам двумя парами чьих-то цепких рук.
* * *
Пару месяцев, проведенных между жизнью и смертью, или же сумасшедшая круговерть катящейся в тартарары страны, либо просто погода – неизвестно, но по какой-то причине Сергей не мог узнать когда-то знакомый питерский пейзаж. Все было таким же и не таким, как прежде: то же тусклое скупое солнце, вроде бы те же мощеные улицы и проспекты, глубокие шахты дворов, люди с серыми, отвыкшими от лучей светила лицами. Но что-то неуловимо изменилось. Взгляды, поведение, общее настроение – все было не таким, не прежним, чужим.
Сергею даже показалось, что на самом деле он умер, и сейчас его душа мытарится в каком-то выдуманном бесами мире, создавшими кривое зеркальное отражение привычного мира, в котором все было детализировано так же, привычно, если не всматриваться в детали.
Но свежему взгляду сразу бросалось в глаза огромное количество сумасшедших, которые, кажется, хлынули и выплеснулись на столичные улицы, отпущенные из тайных убежищ одним мановением чьей-то могучей и властной руки. Прежде спокойные, умиротворенные люди собирались кучками, махали перед носами свежей прессой, плевались, дико вращали глазами и спорили, спорили до хрипоты, до истерики, даже не слушая друг друга.
И над всей этой фантасмагорией витал запах войны. Война пахла парами бензина от пролетающих забитых ополченцами американских грузовых самоходных машин, карбофосом, гуталином выданных с военных складов новехоньких сапог, железом, щедро сдобренным оружейной смазкой, прелым залежалым войлоком и гнилью несвежих казенных харчей.
Сергей пытался абстрагироваться от повисшего над городом густого смога общего победобесия, которым была очарована публика. Ему претили все эти мальчишки и пузатые хозяйчики конторок, которые грозили пальцами в небеса, собираясь прямо здесь, на спокойной терраске, раздавить ненавистного немца чудесами ли русского духа и воли, секретными ли военными разработками российских ученых, силой ли и прозорливостью Государя Императора и его прозорливого Генерального штаба.
В конце концов, какое ему дело до этого апокалипсиса, когда внутри шумит своя нешуточная буря, утихомирить которую можно только выявив корни предательства, – и, выяснив, отомстить.
Перемалывая тяжелыми жерновами мозга грустные мысли, Сергей сам не заметил, как ноги занесли его в заведение Володи Спицы, человека, с которого надлежало начать поиск.
Вашкевич отметил, что трактир «Север», видимо, почуяв общее патриотическое поветрие, украсился красочными военными плакатами, призывающими вступать в ряды доблестной армии. На стенах появились портреты августейшей четы и фототипии картин с Бородинским сражением, сюжеты крымской и русско-японской войн.
Клиент на этот специфический военный аромат пошел тоже своеобразный. Вместо мутного вида гешефтмахеров разного рода за грубыми столами посиживали казаки в лихо задранных кучерявых папахах, редкие морячки. Тут же потягивала пиво пехота в серо-зеленых обмотках поверх кожаных шнурованных бот. Все это воинское братство разбавлялось разношерстным уличным сбродом, отчего заведение казалось почти мирным. Былой гражданский уют создавали и прежние шлюхи, которые хихикали по темным углам: им было без разницы, с кого живиться своим тяжким ремеслом в нелегкую военную годину.
Сергей присел в углу так, чтобы видеть выход и в случае чего получить дополнительный отход через оконный проем. Настроение было боевое, тем паче что к бедру уютно прижался массивный маузер, который, слава Богу, не был взят на неудачное дело. Марута заказал грибную солянку, телячьи почки и двести водки. Ел почти с наслаждением, желудок радовался простой пище после острых китайских супчиков, ждал, понимая, что Спице уже донесли о не очень приятном для него визите.
Грузный Володя появился откуда-то из-за спины, видимо с черного хода. Тихо и даже как будто виновато склонил бычью голову в молчаливом приветствии, присел, тяжко вздохнул от неизбежности неприятной беседы, засопел и так же молча вытянул из-за пазухи увесистую пачку, туго спеленатую в цветастый носовой платок.
– Моя доляна. Косяк за мной, это понятно. Прими возврат. Зла не держи. Надеюсь, между нами ровно.
Сергей равнодушно придвинул деньги к краю стола, кивнул, как бы соглашаясь с раскладом.
По едва различимому движению бровей Спицы половой мгновенно организовал на столе штоф смирновской и еще одну запотевшую рюмку. Выпили молча, не чокаясь. Трактирщик пошевелил толстыми губами, будто проговаривая про себя тяжкую речь, помялся слегка, но, под требовательным взглядом Сергея, начал выдавливать из себя все, что знал.
– Сразу скажу, что моей вины в том, что с вашим гоп-стопом такая хрень приключилась, впрямую нету. Но за людей, что я подсуетил, ответ держу, потому и гроши твои вернул. Вести нехорошие до меня через пару дней дошли, когда я сам начал нюхать, куда мои ребятки запропастились. Ты, Марута, сам видел: люди не простые. Чтоб таких стреляных воробьев на мякине провести… так просто не бывает. Да… – Спица быстро плеснул из штофа и опрокинул рюмку, не предлагая Сергею. – И вот что узнал. Туз с Валетом нашлись в морге Александровской больницы. Дырявые, что твой дуршлаг. Санитары маякнули, что привезла их охранка вместе с пятью своими. Перестрелка. Получается, что вели вас. Грешным делом на тебя думал и твоего жиденка.
– Яшка две пули мне в спину засадил. С подводы сбросил. Думал, сдох.
– Сученыш твой Яшка, ясный пень. Значит, делиться не захотел. Эта братия мне знакома. Отчего-то не удивлен.
– Он сдал?
– Погоди, Марута, это только начало сказки. С чего бы корешу твоему моих людей охранке сдавать? Когда у него сытый куш на кону. За который он, не особо переживая, другана своего, тебя то есть, хайдакнул? То-то… И еще тебе весточка. В Крестах твой Яшка. Взяли на горячем. Вышак ему ломится. Чтоб ты понимал.
Сергей постарался не показать, что удивлен и озадачен, но зубы предательски заскрежетали: достать подельничка из камеры, когда ему уже мажут лоб зеленкой, не представлялось возможным. Злорадства не было, было чувство досады, что поквитаться вряд ли придется.


