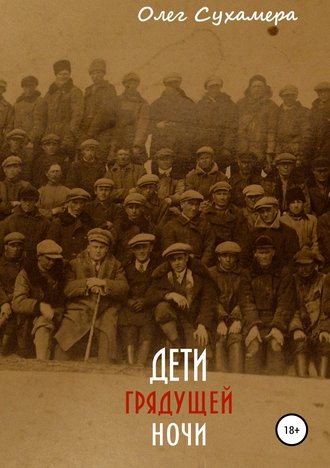
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
Полина потянулась сладко, так как умеют только кошки и юные, утомленные бессонной ночью девушки. Ее тонкие пальчики изучающе пробежали по груди Мишки, отчего у того под кожей завибрировали, разбегаясь по закоулкам тела, тысячи невидимых щекочущих букашек.
– Мишка. Родной мой! Боже, даже не верится, какой я была дурой! Я ведь думала, что ты боишься. Хотела подстегнуть тебя на решительный поступок, а потом… Потом все завертелось. Каждый день ждала, что вот-вот и дернешь этого психа Зубенко за шиворот, как щенка, скажешь: «Хватит! Она моя!»
Господи, Мишка, что я себе напридумывала, а ты закрылся, как ракушка. Тогда решила про себя «ну и пусть! Если он такой бесчувственный, если я ему безразлична, пусть состоится эта дурацкая затея со свадьбой. Назло ему! Назло себе…» Миш, прости. Глупая, глупая и беспечная дурочка. Как чудесно! Как здорово, что я, ты, нет – мы – проснулись от этого кошмара!
Мишка высвободил руку, осторожно, чтобы не запутаться в гриве Полининых волос, рассыпавшихся по подушке, оперся на локоть, приподнялся, чтобы получше впитать ее вытканные из игры теней, света, струящегося по окну дождя мерцающие перламутром изгибы тела.
Рискуя потревожить нерукотворное творение, созданное утренним ливнем специально для него, прикоснулся губами к легкому локону над ухом девушки. Тихо шепнул, чтобы не слышать самого себя:
– Люблю тебя. Все остальное не важно. Полина. По-ля-моя. Мо-я… Полюшка.
Мишка словно пробовал звуки на вкус. Ему казалось, что смакуемое имя в его голосе приобретает новую плоть, а в каждом слоге появляется свой тон, связанный где-то в глубинах памяти с едва уловимым запахом утренней росы на свежескошенном луговом разнотравье.
Неожиданно противно заскрипела, словно жалуясь на свою старость, половица на втором этаже.
Полина мгновенно выпрыгнула из-под импровизированного одеяла, в лучшие свои годы служившего бархатной театральной кулисой. Голая фигурка заметалась по комнате, впопыхах собирая разбросанную одежду.
Мишка едва удержался, чтобы не рассмеяться: в глазах любимой вместе с нарастающим испугом искрила бесшабашность.
Собрав в охапку одежду, Полина мышью нырнула в ряды развешанной чуть ли не до потолка груды пышных платьев и камзолов.
По лестнице совсем близко послышались чьи-то тяжелые шаги.
Мишка, осознав окончательно, что волшебная ночь на этом, увы, закончилась, тоже начал одеваться.
Неожиданно хилая дверца костюмерной, еще вчера предусмотрительно закрытая на кривой гвоздик, упала досками внутрь, вылетев от одного безжалостного удара.
Словно в дурном сне, Мишка наблюдал, как в маленький светящийся проем, сгибаясь, будто осторожные хищные животные, неуклюже заползают двое в одинаковых черных кожанках.
– Гражданин Вашкевич? Михаил Иванович? Просим пройти с нами.
Мишка замер, совершенно не понимая, что делать: идти так, одеваться или попытаться проснуться от этого сюрреалистического кошмара? Кое-как собравшись с духом, еле ворочающимся от липкого страха языком пролепетал какую-то чушь, с ужасом понимая, что ответ этих хищных людей уже ничего не значит и что он полностью и всецело в их власти.
– В чем… дело? Кто вы? По какому… праву?
– Вы арестованы. Собирайтесь. Быстро!
Рубашка никак не хотела застегиваться, Мишка поймал на себе взгляд двух испуганных глаз, сверкнувших между висящими платьями. Грустно улыбнулся, давая Полине понять, чтобы продолжала прятаться.
Лысый человек в кожанке поморщился и нетерпеливо дернул Мишку за рукав. Шелковая заказная рубаха треснула на спине.
– Шевели костями, паря! На выход!
* * *
В Витебске осень все чаще стала напоминать о своем приближении. Вместе с пронизывающим ветром посреди жаркого полудня летели ярко-желтые листья, наподобие цирковых афиш заманивающие зрителя к приезду шапито, маячили тут и там посреди летней буйной зелени. Ночи стали длиннее и сдавались рассвету неохотно, взбадривая редких прохожих и вездесущих дворников холодком утренних туманов.
Настроение у сидельцев, очутившихся по прихоти революционных властей в сводчатом подвале на Суворовской, почти под шумным кинотеатром «Ренессанс», тоже было под стать погоде – переменчивое, стремительно меняющееся – от жаркой надежды до холодной, бессильной ярости.
Мишке повезло расположиться у маленького, с тетрадный лист, окошка под самым потолком, дарящего толпе страдальцев скудный свет и редкие глотки свежего воздуха.
Пришлось пожертвовать возможностью вытянуть ноги, но Мишке такой размен показался вполне достойной платой за возможность дышать и что-то видеть. Сев по-турецки, стараясь отвлечься от поселившегося в мозгу страха, ловил взмокшим затылком спасительную прохладу кирпичной кладки и наблюдал за поведением разношерстной публики.
Сразу поразило странное несочетание. Тюремщики ничтоже сумняшеся запихнули в общую камеру и дам – кого в туго затянутых корсетах, кого в ночнушках, – и таких же полуодетых растерянных мужчин самых разных сословий. Но через пару часов картина перестала удивлять, и даже вынужденные оправления в общую жестяную лохань стали естественными: горе стыда не имеет.
Беда точит всех по-разному. Кто-то замыкается в себе, не желая общения, пережевывая страх и обиду самостоятельно, кто-то ищет опору и родственную душу.
Земский врач Олейников, маленький старичок лет семидесяти, принадлежал ко второму типу. Доверчиво прислонившись к плечу Мишки, не рассчитывая на диалог, почти шепотом, взахлеб, говорил обо всем, что ему вспоминалось и думалось.
– Вы, Миша, человек молодой. А я, поверьте, повидал-с, да-с… Люди только с виду сволочи, поковыряй каждого и найдешь, да-да, обязательно отыщешь то самое жемчужное зерно, что заложено провидением господним. Да-с.
Вот наш Харон. Сиречь тюремщик. Внешне существо жуткое и злое. И по образу действий, впрочем, так же. Зачем бить, когда вытаскивает из узилища туда, наверх? А? В самом деле, чего проще? Культурно проводил бы к выходу. Все подавлены, какое там сопротивление… Так просто, не бить, не тащить за волосы этих несчастных женщин… Но он не может! Да, Мишенька, думаю, не может. Он свою жизнь несчастную таким макаром тягает и сапогом под дых бьет. Это надобно понимать. Ведь его никто никогда не любил. Наверняка били, унижали, чуждались общения. А без любви, Миша, человек превращается в чудовище. Отторгает божественный свет. Ему темнота – дом. Он в полумраке все видит и думает, что все так же, как и он, в сумерках жрут друг дружку. С младенчества ничего другого не видел. Отца нет, мать – пьяница, попойки-разборки, что украл, то твое, кто сильней, тот и прав – вот, Мишенька, его жизнь! В ней он ох как здорово ориентируется. Весь предыдущий опыт его – бить первым и душить, чтоб не получить от людей такой же товар. Есть ли в том его вина? То-то…
Но самое страшное не это. Обласкай такого, прими как равного, дай еду, кров, возможность жить, не оскотиниваясь, ведь не примет. Попробует, приоденется из лохмотьев, научится есть не руками, даже выучит пару фраз по-французски, будет выглядеть, как все, и даже на храм жертвовать! Но, черт побери, человеком не станет! Не прорастает зерно в заплесневелой почве. Слабого задавит, у потерянного украдет, сильному сапоги лизать будет, мечтая убить и встать на его место.
Включи такому свет в душонке его задыхающейся, молить начнет, чтоб убрали, потому как слепнет. Больно ему, что привычный жестокий мир – исключение, а не правило. Дай такому свободу, растеряется и в рыданиях поползет коленопреклоненно, просясь обратно в родную темницу, где ему вода и хлеб по расписанию, где не надо придумывать и творить, где цинизм и рвачество в почете…
Вот он и бьет. Правильно все. Господь недаром нам молвил «се аз воздам»!
Господа и дамы, мы с вами, что мы? Помогли униженному? Максимум – кинули монетку нищему. А дитя, в котором искра божья жива, не в хлебе нуждается, но в участии. То, что сейчас с нами происходит – беда, которая навалилась на государство наше несчастное, не с неба упала. Нами выращена и выпестована! Когда количество всех обездоленных и униженных стало выше всякой меры, когда роскошь стала выпячиваться и терять берега разумного приличия… вот тут круг-то и сомкнулся.
Мы, просвещенные люди, такие умницы на своих кухоньках радеющие о «простом человеке», замкнувшиеся в хрустальных замках за пятиметровыми заборами, неизбежно встретились с отъевшимся горя, закаленным батогами, ослепленным ненавистью собственным хвостом! И, как у пресловутого Уробороса, голова оказалась на той стороне, где правда. А правда в том, что Они не могут не жрать нас! Потому что ИХ время, потому что ничего другого они уже не умеют и, главное, не хотят! Потому что ИХ кровь зовет к отмщению. Потому что Господь отвернулся от таких, как мы, и дал в руки меч разящий по своему попущению. Умоемся кровью, искупаемся в слезах, но прозреем ли? Не знаю. Бедная, бедная страна… Несчастные мы. Поделом. Все поделом… – старичок доктор поморгал глазками, вздохнул, снял круглые очки в модной, под красную черепаху, оправе, попытался найти в кармане платочек, чтобы протереть их, но не найдя ничего, молча закопошился, вытирая стекла прямо рукавом запыленного суконного пиджачка.
– Слышите, Мишенька, что за щелчки изредка – там, за стеной?
– Нет.
– Ну, и правильно. Многия знания – многия печали. Людей выводят-выводят-выводят, а через пару минут начинаются эти проклятые щелчки. Щелчки! Представляете, затыкаю уши, а слышу! Как не сойти с ума. Господи, укрепи и направь, с благодарностью принимаю горечь чаши Твоей.
* * *
Пили молча, не закусывая.
Прислушивались, как за стеной исходит криком Люция под похрюкивающим от удовольствия Юзиком, и заливали зенки, пытаясь утопить в водке последние остатки человеческого.
Егор, которого позвали на акцию «за компанию», а на деле, чтоб замазать грамотея в крови, поначалу отказывался от рюмки, но, услышав, как шмякают кулачищи Юзика по телу сопротивляющейся, орущей бабы, налил себе и махнул стакан разом, дальше уже пил вровень со всеми.
Васька, чувствуя шевеление совести, пытаясь как-то оправдаться перед собой, загундел, чуть справляясь с появившейся невесть откуда кашей во рту:
– Прикинь, братва, я с развороту шмальнул, прям с кармана! Дырка во! Видали! Во! Дырень! И достал сучонка… Слы, Граховский, чо вилами хотел? Меня! Накося выкуси, теперь, падла…
Каплицын, чудом не громыхнувшись с табурета, встал и, осторожно переставляя ноги, подошел к расхристанному трупу Яна, некрасиво валяющемуся размозженной головой в сенях, а ногами в хате.
– Уу! – Васька без злости, скорее по инерции, еще раз наподдал трупу сапогом, целясь в вывернутые босые ступни, начавшие уже синеть. – Смарите! Во! Пуля в бок вошла! Тута, где ему перебинтовано! Наливай… все одно подох бы… За глаз-алмаз!
Поджавший хвост Егор, который не участвовал в забое раненого, вдруг очухался, вытаращил шальные глаза и оглушительно тихо пробормотал:
– Это ж Ян. На крестины меня звал, на этой неделе, говорит, приходи. Что теперь будет? Как теперь? А, товарищи?
– Каком кверху… – ковырялся вилкой в салате угрюмый Митяй.
Васька же, уловив кроющийся упрек в словах Егора, поджал губы и, едва не капая ядом на залитый кровью пол, выдал:
– Ох, какие мы нежные! А вот так теперь! С любой буржуазной гидрой – вот так! Или мы их, или они – нас. Другого нетути, друг мой ситный. А будешь жопой крутить, сам рядом с этой тварью ляжешь! Хочешь?!
– Н-нет… – Егор сник окончательно и спрятал голову в ладони.
– То-то! Наливай… за классовую, мать ее, борьбу…
Ритмичный скрип панцирной кровати за хлипкой перегородкой вдруг прекратился, вместо него послышался булькающий хрип и мелкие-мелкие постукивания, будто кто-то покатил по полу неровный деревянный шар.
Домотканый полог, видимо, заменявший Граховским двери, откинулся, и оттуда высунулось потное расцарапанное рыльце Юзика.
– Чо там? – лениво поинтересовался Митяй.
– Баба – ништяк, – гыгыкнул Юзик. – Была…
Юзик вывалился весь и поплелся к столу, на ходу вытирая о штаны сочащуюся бордовым засапожную финку, которую с недавних пор таскал всегда с собою.
– Мля! Люцию за что? – заплакал пьяными слезами Егор. – Она в чем виноватая?
– За тое самое, – Юзик крякнул и с ненавистью опрокинул в себя полную рюмку.
Васька, чувствуя, что трезвеет от осознания творящегося кошмара, засуетился, пытаясь хоть как-то осмыслить случившуюся кровавую баню.
– Так! Митяй! Спички! Давай сюда… Егор, слы, мля, харэ ныть! Быстро керосин ищешь!
– Где?
– В сенях! Где – где. Юзик, еще раз такое без моего ведома, лично кастрирую! Хули уставился? Отрежу хозяйство к едреней фене! Не шутка! Харэ водяру жрать!
Юзик степенно вышел из-за стола, по обыкновению важно достал часы, откинул крышку, прислушиваясь к мелодии.
– Добра. Пойду малого об угол хайдакну.
– Чего? – Васька почувствовал, что сердце вдруг остановилось, чтобы, тут же затрепетав, начать лезть к самому горлу. – Какого малого?
– Якога? Обныкновенного. Который у люльке спить. Чаго? Не знау?
– Тварюга! – Каплицын сам не понял, как его руки оказались на тощей шее ничего не соображающего урода. Юзик, пытаясь ослабить хватку, выпустил из рук заветный золотой «Лангезон», который тяжело брякнулся о пол.
– Мало тебе?! На! Падла!
Царапаясь и шипя в безуспешной попытке разорвать сдавливающий ошейник из Васькиных ладоней, Юзик закатывал глаза, пытаясь глотнуть спасительного воздуха, но ничего не выходило. И вот, покорившийся, подпиленным бревном, медленно осел на ватных ногах и повалился навзничь, увлекая за собой не желавшего размыкать смертельную хватку Василия.
Уже пена поперла изо рта, зрачки закатились, и лишь ноги загребали по крашеным доскам, когда совсем рядом неуместно и глупо тренькнули, будто удивляясь незавидной участи хозяина, полураскрытые часы.
Окончательно сойдя с ума от затейливых позвякиваний сложного механизма, не отпуская сведенные судорогой ломающие хрустящий кадык пальцы правой руки, Васька сграбастал дурацкую золотую машинку и с ненавистью протолкнул переливающийся трелями «Лангезон» в пенящуюся слюной, широко раскрытую пасть обоссавшегося напоследок бывшего товарища.
Так же неожиданно, как и пришел, бордовый морок вдруг схлынул. Каплицын, словно не веря самому себе, переводил растерянный взгляд то на свои разжатые ладони, то на съехавшее набок, набрякшее синим лицо Юзика с огромным, тускло мерцающим в пасти мертвяка золотым кругляшом карманников.
Васька, в робкой надежде, что все не так плохо, как кажется, почти нежно потрепал покойника по щеке, приговаривая, будто малому:
– Э, Юзик, ты чего? Ну? Хватит… вставай уже…
Осознав, что произошедшему нет поворота назад, тяжело поднялся, почему-то стряхнул пыль с портков и, стараясь не смотреть на труп Юзика, безжизненно, почти без укора, бросив косой взгляд на ошалевших Егора с Митяем, выдохнул:
– Чего… не могли оттащить, что ли?
Егор, разведя свои почти женские ручки, скривил губы в полуулыбке-полугримасе, прокашлялся и просипел севшим от спиртного голосом:
– Правильно потому что сделал. Так надо, значит, ему было.
За пологом, зовя мать, закряхтел, а через секунду тоненько, требовательно и призывно запищал младенец.
Васька вздрогнул, как от оплеухи, перекрестился вдруг, не ожидая от себя такого, и, сгорбившись словно от непосильного груза, принуждая себя, нехотя откинув полог, поплелся на писк детеныша.
* * *
Мишка проснулся от холодного, разрубающего ночной мрак беспощадным топором палача лязга дверного засова. Открыл глаза, почувствовал, как покатились, побежали толпами по спине холодные крупинки страха. Прислушался, как в полумраке подвала глухо запричитали испуганные, сваленные на полу в одну холмистую кучу серые тени бывших людей.
В мозгу вдруг заскреблась чужая мерзкая мыслишка, что человек – такая скотина, которая может привыкнуть ко всему. Ко всему, кроме собственной смерти. Мишка презрительно усмехнулся в никуда, сам того не желая, вышел на привычный внутренний диалог закаленного неудачами циника и прячущегося от людей робкого испуганного ребенка.
«Да и к черту! Все равно помирать. Когда-то же это произойдет. Пусть сейчас. Какая разница. На фоне грядущей бесконечности небытия даже год – ничто. Промельк. Тьфу. Статистическая погрешность».
«Но почему сейчас? Почему я? За что? Пусть выведут кого угодно, мне страшно, но я готов мириться с их гибелью. Но меня? Бред… Этого просто не может быть. Как же? Ведь Мир исчезнет? Без меня же не будет ничего».
«Ты прах. Никто. И снова станешь ничем».
Мучительные звуки щеколды наконец-то разрешились узкой полоской желтого электрического света, бьющего по сгрудившимся телам из-под приоткрытой железной двери.
– Вашкевич! На выход!
«Кто? Вашкевич? Однофамилец? Или? Нет… все же я …» Мишка почувствовал, как остановилось сердце, а странное, доселе не знакомое ощущение ужаса, парализовало дыхание.
Михаил попытался встать, но ноги не держали, и он, качнувшись, едва не упал на лежащую рядом скрюченную фигурку доктора, который неожиданным образом превратился в ворочающуюся костистую старуху, зло и возмущенно зашипевшую.
– Прошу прощения. Извините. Простите меня. За все, – едва не расплакался Мишка. Отдернув руки от старухи, будто боясь обжечься, переступал через чужие вытянутые ноги и тыкался, не доверяя ослепшим от скудного света глазам.
Пошатываясь, бормоча дурацкие, не нужные тут никому извинения, без пяти минут мертвец побрел к выходу, нащупывая среди теплых живых тел свой личный проход к смерти.
Короткий путь сквозь пленников подвала был мучителен и занял целую вечность.
Циничный бес внутри Мишкиного сознания радовался и, кривляясь, совершенно обезумев, запричитал почему-то забытым напрочь голосом развратной красотки Ядвиги: «А ведь доктора вывели еще днем! Ты пережил его почти на сутки! Да-да! Ты везунчик! Не то, что болтун-докторишка… Наша очередь сдохнуть! Аха-ха-ха-ха-ха!»
* * *
Не спалось. С самой проклятой свадьбы сон не шел к Ганне. Поспишь тут. Хуже нет колыбельной, чем ненависть и страх, незаметно, каждый вечер, подгрызающий мелкими, острыми зубками сердце и волю. «Хорошо, если горе-муженек припрется совсем пьяный. Тогда легче, брыкнется и – храпеть. А если козлу захочется ласки?»
Ганна протянула к робкому просвету в окошке длинную белую, кажущуюся мертвой в лунном луче руку. Смотрела на синяки и ссадины, кусала губы в бессильной злости, ругала себя мысленно за собственную покладистость, за то, что послушала Софью, испугалась лишиться крова перед зимой. Согласилась на чертову свадьбу, а в довесок получила мерзкое напускное подобострастие сельчан, сменяемое презрительными взглядами в спину. Позор, фиг с ним, его пережить можно. А как быть с ненавистью к себе? Отмыться после взявшего тебя силой животного не получается. Сколько ни трись распаренной крапивой в бане, синяки на теле не смоешь, как и грязь на душе.
Стукнула калитка. Ганна вздрогнула, натянув лоскутное одеяло до самого подбородка, а пальцы судорожно впились в матрас. Почуяла, как сердце забилось подраненным воробышком, как стремительно взмолилась душа: «Только бы, как обычно, в стельку! В дупель! Чтоб свалился и задрых у порога! Господи, господи…»
Заунывно проскрипели дверные завесы. Громко, словно костельный колокол, лязгнула клямка.
Ганна прислушивалась не дыша. Она все еще надеялась, но понимала с ужасом, что слишком тихо ведет себя Васька для упившегося. Крадется осторожно. Как волколак-оборотень, которым пугала бабка в детстве. Оборотень и есть. Обличье человеческое днем, ночью – волк, сильное, жадное и беспощадное животное.
Половицы заскрипели совсем рядом. Или не половицы? Странный звук. Вроде скрип, вроде плач? Что-то было не так, как обычно. Ганна услышала, что муж тяжело дышит перед дверью, словно не решаясь войти. Не было никогда такого… И этот тоненький, как будто кошачий писк… Там, в потаенном темном уголке души, вспыхнула предательская надежда. А ну как ранен? Неужто нарвался, соколик?
Ганна вскочила. Еще когда освобождала кое-как ноги из-под длинной ночной рубахи и быстрым движением накидывала на плечи серый пуховый платок, представила себе стоящего у дверей Ваську с располосованным животом. Увиделось, как уткнулся, гад, головой в косяк, поскуливает тонко и жалобно, поддерживая липкими руками свою вывалившуюся синюю требуху.
Зачиркала никак не хотевшей зажигаться спичкой над фитилем керосиновой лампы, улыбнулась своим кровавым фантазиям. Дай Бог, чтоб было так. Чтоб сдох не от моей руки! Фитиль занялся синим моргающим огоньком, по стенам заплясали тени, будто сотня бесов ворвалась в комнату. Ганна перекрестилась: «Прости, Господи, за мысли грешные, но нету больше мочи моей». Подняла в одной руке «летучую мышь» повыше, в другой зажимая острые портняжные ножницы, «так, на всякий случай», решительно надавила на дверь.
Первое, что увидела, – глаза. Вроде те же, Васькины, но сейчас они больше напоминали оловянные пуговицы: ни тени мысли, ни грамма чувств, серые пустые кружочки. Руки Каплицына, как и мечталось, были в крови, и прижимал он бережно к животу бело-красную простыню. Ганна едва не выронила лампу, растерявшись от того, как быстро и как до крайности точно Господь воплотил в реальность ее жуткую фантазию.
Приоткрыв рот от удивления, переводила взгляд с покачивающегося Васьки на кровавый ком в его руках, из которого доносилось тонкое попискивание. Наконец, как-то совладав с чувствами, мстительно, со всей накопившейся желчью, бросила в ненавистное лицо:
– Все? Доигрался хер на скрипке?
Васька, будто не слыша, плечом отодвинул Ганну от проема, все так же осторожно прижимая пищащий куль руками к животу, зашел и обессиленно плюхнулся на взвизгнувшую возмущенно кровать. Неожиданно его лицо растянулось в странном подобии улыбки, которая, искаженная пляшущим неустойчивым светом, больше походила на волчий оскал. Васька странно хмыкнул, потом, поерзав от переполняющих его чувств, начал похихикивать глупо и от того страшно.
Ганна встала столбом, совершенно не соображая, что ей делать и чего ожидать от этого окровавленного мерзко хихикающего существа, которое утратило этой ночью последние остатки человеческого образа, стало еще более отвратительным. Ей вдруг показалось, что вместо лица Васька выдернул откуда-то из глубин ада одну из дьявольских личин, примерил на себя и сросся с ней, наконец став тем, к чьему образу шел все эти месяцы, – похабным, страшным, жестоким чертом.
Хихикая и корча странные гримасы, Каплицын протянул шевелящийся сверток Ганне:
– Сыночек теперь у нас! Ух, кхи-кхи… Мальчонка… Пока шел – кхи-кхи – надумал… Владлен! В честь Владимира Ленина! Кхи-кхи-кхи! Чо, встала, дура?! Бери, помой там, молока или чо там они жрут? Взяла, быстро, сука!
Ганна и сама не поняла, как пищащий сверток оказался у нее в руках.
Распахнула, глянула и обмерла.
Младенчик, теплый и розовый, протянул ей пухлые в складочках ручонки и сразу же зашелся в плаче, словно жалуясь о собственной невезухе, да так горько, что сердце женщины разом лопнуло, давая волю слезам, застившим глаза, спасительно размывшим страшную картину на отдельные цветовые пятна.
Ганна в порыве нахлынувшей нежности прижала живой комок к сердцу, целовала младенца в глазки, успокаивая его так, как подсказывал древнейший из инстинктов, баюкала, укачивала.
Мальчонка постепенно затих, только ворочал головкой, вытягивая губы в поисках материнской груди.
Ганна, не взглянув даже на черта, отвалившегося на кровати, тихо вышла из комнаты, окончательно понимая, что теперь ничего не имеет значения. Откуда этот мальчик, почему он оказался в ее руках, что стало с его родителями, и как добыл дитя для нее этот припершийся ночной оборотень – все это пусть возникнет потом, тогда, когда накормит, отмоет от крови и убаюкает ее младенчика.
Сына.


