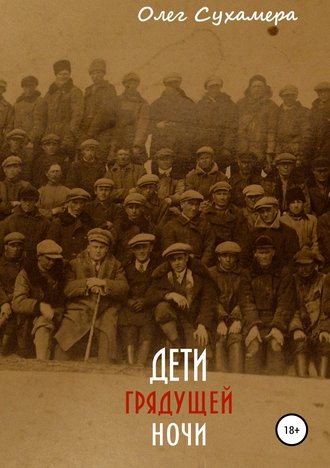
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
Глава пятая
По ту сторону себя
(1942)
Вашкевич привычно забросил ногу на ногу, с наслаждением пускал горьковатый дым папиросы вверх, к грязному потолку рабочего общежития, в которое разместила их с Владкой эвакуационная комиссия. Смотрел, как жена ловко пакует в портфель деликатесы, сбереженные каким-то чудом в тяжкой дороге из Минска сюда, на Урал.
Влада же по своему обыкновению бурчала что-то себе под нос. Прислушавшись, можно было понять, что сейчас тревожило эту дородную, широкой кости, женщину.
– …Тоже мне придумали…какой такой юбилей?… Почему спешка… Бросив в объемистый портфель что-то завернутое для сохранности в три слоя местной заводской газетенки, она не выдержала и, совершенно по-бабьи всплеснув руками, плюхнулась широким тазом на шаткий венский стул и расплакалась.
– Миш, может, черт с ней? С Москвой этой? Чует сердце… Как только телеграмма эта правительственная пришла, так все, душа не на месте. Ты ж не мальчик, насмотрелся за жизнь, как бывает. Сколько друзей… писатели эти твои, поэты – сколько их сгинуло вот так? Вызвали. И все! Нет человека.
– Чему бывать, того не миновать. Думаешь, не понимаю, что бред это все про подготовку к празднованию… Народный писатель не та шишка. Тем более когда фашист давит по всем фронтам. Есть тут какая-то интрига. Драматургическая завязка… – Михаил с сожалением посмотрел на окурок и, словно поставив точку в разговоре, раздавил его в консервной банке, полной таких же изуродованных папиросных останков.
– Вот и не ехал бы…
– Ты ж все понимаешь. «Родина помнит, Родина знает…» Не поедешь, отвезут. Так хоть есть ощущение доброй воли. Москву посмотрю. Соскучился. А там чем черт не шутит? Может, и прям взбрело в голову какому-то чинуше в министерстве? Книжку мою прочитал. Чего раньше времени переживать? Приеду, разберемся на месте.
– А если Зубенко опять? Слышала, он при чинах теперь. И он не забыл. Я этого сучка хорошо понимаю.
– Значит, судьба. Не поминай черта всуе, глядишь, и не появится, – Михаил передернулся от неприятных воспоминаний и снова чиркнул спичкой, пытаясь поджечь уже пятую за утро папиросу.
Влада вдруг резко поднялась со стула, едва не опрокинув его, быстро подошла к мужу и, навалившись объемистым бюстом ему на спину, порывисто обняла его за плечи, словно пытаясь укрыть пышным телом от нарисовавшейся из ничего серьезной беды. Прикоснулась губами к макушке. Михаил, не привыкший к таким проявлениям чувств суровой Владки, попытался было встать, но женщина лишь крепче придавила его немаленьким весом и жарко зашептала в ухо:
– Мишка! Ты знай главное! Я ведь с того самого первого раза, как тебя увидела там, у цирка… Сидит такой интеллигентный мальчик, тонкие черты лица, ладони эти твои с длиннющими пальцами… Я тогда сразу поняла – мой! Мир пусть перевернется, а он будет мой, и ничей больше! Ты уж прости, через мое чувство роман твой, любовь твою разрушила!
– Перестань, Влада. Тоже мне, вспомнила… Сто лет уже прошло.
– Нет, ты слушай, родной мой. Может, не доведется больше покаяться перед тобой. Выслушай, ради Бога. Во мне чувство такое было, оно и сейчас есть, кажется, сердце б свое вырвала и тебе отдала. Так любила. Люблю! Поэтому то, что сейчас скажу, ты мне должен простить. Пообещай мне, не могу больше тянуть этот грех по жизни. Сколько выплакано слез, а гляди ж, не вымыли мою печаль. Думаешь, я такая бронебойная? Снаружи наносное все, а внутри… Десятки лет каюсь и ем себя поедом. Прости меня, Мишка… Простишь? – Влада мягко осела перед мужем, положила крупную голову с аккуратно завернутой на затылке гулей ему на колени.
Михаил задумался, механически гладил жену по волосам и пускал папиросный дым теперь отчего-то вниз, в пол. Ему не хотелось слушать исповедь Владки, но избежать этого тяжкого разговора явно не получится.
Влада кусала губы, слова лились из ее души вместе с накопившимися слезами мутным соленым потоком.
– Мишка, Мишка… Ты не знаешь, ведь это моя вина, что ты в тюрьме очутился тогда, в Витебске еще.
– Что? Не может быть. Зачем? – едва не поперхнулся дымом Михаил.
– Думаешь, никто не видел, что там у вас с Полиной любовь случилась. Только Костя, дурачок этот, не замечал. Думал, раз свадьба на носу, так Полина теперь вся его. А я сразу почуяла. Вот и рассказала ему. Плакал, как заяц раненый, убить тебя хотел. Я тогда сказала, дурак, спасай свою Полину, она дура бесхребетная, а я свое возьму. Тебя, Миш…
– Так это по твоей наводке меня в тюрягу затащили?
– Я надоумила Зубенко. Мой грех. Мне любовь свою спасать надо было! Только это мне оправдание.
Михаил, мягко отстраняясь от жены, встал, отвернулся к замызганному окну, сглотнул и тяжко выдохнул:
– Я догадывался. Все слишком гладко было, как в плохой пьесе. Этот арест на пустом месте. Твоя мнимая беременность. Я понимаю тебя, Владка, ты сильная натура, по-другому ты не могла. Это я, получается, подлец. Полину предал. Выбрал «удобную» тебя в обмен на свободу.
– Вы бы пропали вместе! Два великовозрастных дитяти! Тебя Полина твоя от туберкулеза выходила? Шиш с маслом! Это я. Бегала по всем помойкам, искала для тебя собачий жир. Эти путевки в Симеиз полугодовые Полина выбегала бы тебе?!
– Нет. Спасибо, Влада. Спасибо за все. Я поеду, пожалуй. Время уже.
– Так ты простишь меня?
– Да, наверное… Сколько лет прошло. Столько всего хорошего было. Все! Надо ехать.
Михаил схватил в охапку тяжелый портфель, сдернул плащ, сиротливо висящий на стенном гвозде, и как ошпаренный выбежал из комнаты.
Влада попыталась встать, но поскользнулась, шлепнулась опять на колени и жалобно, по-сучьи, заскулила, чуя надвигающуюся беду.
* * *
Покраска фасадов, доставлявшая раньше чуть ли не физическое удовлетворение, превратилась для младшего Вашкевича в адский труд. Все проклятая голова. Не было ей покоя. Руки жили сами по себе, наводя красоту на городских стенах. Тело болталось где-то там, на строительных лесах, а душа Мишки корчилась в маленьком, собственноручно построенном чередой дурацких поступков, аду.
Свадьба Полины и Константина была уже на носу. Выхолощенным самоедством сознанием Михаил отрешенно наблюдал за суетой Зубенко, радостно сообщающим товарищу о деталях подготовки к торжеству.
Мишка ловил себя на мысли, что он подонок, использует отношения с Владой для мелкой мести, наказывая себя за нерешительность и эмоциональную тупость.
Сколько же всего гадкого передумано было за эти полтора месяца в объятиях нелюбимой! Ночные соития, так возбуждающие страстную Владку, превратились в муку. Мишка вновь и вновь задавал себе осточертевшие вопросы: «Что, если бы признаться чуть раньше? Почему Полина решила стать женой этого мелкого убожества? Что это? Взбрык экзальтированной актриски или вызов ему, мямле и идиоту? Или… Господи, и как быть с погребенной под своим сладким ворованным счастьем Владой? Ведь она не отпустит, почуяв уже пробудившимся женским чутьем свое право на его личное пространство».
Дома вопросы обрастали плотью. Было мучительно наблюдать суетящуюся вокруг него, чуть ли не кудахтающую, как хлопотливая наседка, Владой. Спасала лишь гостиница «Брози» на Замковой улице с кабаком, где Мишка повадился топить червей личного самокопания в хреновухе и клюковке местного производства. Прибредал заполночь, бухался на койку не раздеваясь, делал вид, что он пьянее, чем был на самом деле. Чем не выход? Все для того, чтобы избежать надоевших поползновений Владки, не видеть сияющую надраенным самоваром физиономию Зубенко, не сжиматься, как от удара, при виде ставшей вдруг далекой, прекрасной в своей нынешней недостижимости Полины.
Мишка споткнулся о крыльцо и едва не зарылся носом в клумбу. Чертыхаясь и проклиная лишнюю стопку ядреной хреновухи, как можно осторожно для своего расхристанного состояния тихо прокрался в отведенную ему каморку, всеми фибрами души надеясь не разбудить Владу с ее очередной порцией занудных нотаций. Попробовал снять сапоги, но комната закружилась, и он сам не понял, как свалился на тяжело застонавшую панцирную койку. Закрыл глаза, мечтая провалиться в небытие, но сон не шел. Мишка набросил подушку на голову, приготовившись к дурацкому полупьяному бдению почти до утра, но и тут не задалось: уловил тонкое поскуливание, доносящееся откуда-то снаружи. Щенок? Монотонный скулеж то прекращался, то возникал вновь. Подушка не спасала. Полустон-полувизг сверлил гудящую от возлияний голову, и Мишке поневоле пришлось волочиться в сад посмотреть, кто же это, источник его ночной муки.
Поеживаясь от ночной прохлады, осторожно, чтоб не спугнуть зверушку, просочился сквозь кусты отцветшей сирени и обмер. На скамейке под старой яблоней в скудном лунном свете мерцала фигура Полины в подвенечном платье. Мишка хмыкнул про себя: «Надо же, все-таки уснул. Приснится ж такое…». Но ночная сырость, колкие ветки и даже легкое подташнивание от перебора спиртного – все говорило о том, что реальность иногда мало чем отличается от самых затейливых снов.
Девушка всхлипнула, утерла нос ладонью и вновь тоненько запищала, плечи ее тряслись, и Мишка понял, что Полина, та холодная, надменная и недосягаемая Полина, плачет, будто самая обыкновенная курсистка.
Хмель улетучился мгновенно. Не особо заморачиваясь о том, что делает, Мишка подбежал к несчастной, обнял за плечи, поднимая почти невесомое тело со скамейки, что было силы прижал ее к себе.
Опешившая Полина дернулась. Мишка почувствовал, как ее острые коготки расцарапывают шею, но ему было плевать на боль: в руках была она, диковинная живая бьющаяся птица, отпустить которую сейчас было бы сравнимо с гибелью. Девушка едва не шипела, как дикая кошка, пытаясь вырваться из объятий, но все слабее и слабее. Через несколько мгновений Мишка понял, что яростное сопротивление угасло, что чудесное создание обмякает, приняв и смирившись со своим поражением в этой странной битве. Было важно лишь то, что она, его Полина, тут, на расстоянии дыхания. Пусть рвется, царапается, кричит, теперь все равно!
Что-то изменилось в ночи. Исчезли посторонние звуки, а запах сада сгустился, проникая в кровь, будоражил и гасил, как предрассветные фонари, последние рубежи благоразумия.
Переполненный лопающимися радужными пузырьками эмоций Мишка чувствовал, что взлетает, уносясь туда, в звездное небо, от одного лишь осознания, как постепенно, вкрадчиво и исподволь Полина становится доступной и покорной, размякая в его объятиях, растворяясь в нем, становясь с ним одним целым вопреки разуму и приличиям.
Вопреки всему…
* * *
Радость от игрушки была недолгой. Не прошло и месяца, как проклял Василий собственную тягу к механизации и прогрессу. Дурацкий телеграф строчил в темпе бешеной лошади, словившей слепня под хвост. Распоряжения из разных мест и инстанций сыпались и путались в углу нечитанным ленточным ворохом.
Чего только ни сочиняло вышестоящее начальство в порыве революционного рвения! Каждый мало-мальски чин, мутной волной перемен вынесенный наверх, норовил придумать и внедрить чего-нибудь этакое «свое» и желательно позаковыристее.
Дергавшие раньше за душу «СОВ. СЕК.», «в случае неисполнения – расстрел», «под личную роспись» телеграфная машинка намотала в один пук длинной бумажной ленты, прочитать который, а уж тем более исполнить у Каплицына не было никакой возможности и – чего уж греха таить – желания.
Поначалу Васька хмуро косился на тараторящую чуть ли не каждый час приблуду, потом начал бурчать что-то навроде «эх, опять, ети ж ее мать!». Позже, когда никто не видел, гонял по комнате ленточные кусты с грозными приказами, расшвыривая их по углам ногами и приговаривая заполошно «… эвона! Выкуси! Хрена с два вы угадали на ..!»
После таких душевных метаний Васька привычно злоупотреблял. Топил в самогонке нарисовавшуюся по собственной глупости дурацкую семейную жизнь без половых отношений с гордячкой, гадюкой Ганной. Заливал свой страх от потока серьезных угроз, слагавшихся из пляшущих по ленте неровных буковок, старался пьяной дурью забить навалившуюся непривычную горечь ответственности за все и вся.
Но одна проблема все же решилась-таки сама собой.
По пьяной лавочке, прочитав очередное «донести всем сопутствующим органам, ла-ла-ла – расстрел», Васька, не совладав с выплеском дремучей ярости, выдрал вращающее бронзовыми кругляшами чудовище из проводов и, не долго думая, фиганул предмет былой гордости прямо в сводчатое окно панской усадьбы.
Телеграф жалобно звякнул, запоздало моля о снисхождении, хлопнулся о каменный двор и раскатился жалкой грудой затейливых финтифлюшек. Каплицын схватился было за голову, но тут же отметил, что выход злости таки принес пусть временный, но покой, в истерзанную прогрессивным бюрократическим аппаратом загульную Васькину душу.
Наутро Каплицын, конечно же, рвал на себе волосья. Испугавшись ответственности, благоразумно устроил разнос своим недалеким подчиненным по поводу «не досмотрели» и «диверсия». Стучал кулаком по столу, топал ногами и даже брызгал праведной слюной, показушно нагоняя на опешивших мужиков жути, обещая сгноить всех в районной кутузке. В приливе деятельности по спасению задницы от маячивших на личном горизонте наказаний написал в район пространную депешу о поднимающей голову гидре буржуазии, произведшей акт вандализма над вверенным ему прибором. Васька понимал, что за такие дела по головке не погладят, но, как ценный для начальства кадр, надеялся отделаться выговором, а не ставшей привычной в это суровое время «высшей мерой революционной справедливости».
Ответная писулька не заставила себя ждать. В пакете с сургучными печатями РВС, под привычным уже грифом «секретно», товарищу Каплицыну предлагалось усилить пролетарскую бдительность путем показательных репрессий в виде физического устранения наиболее строптивого буржуазного элемента из бывших помещиков, фабрикантов, духовенства и лиц, «ведущих в крестьянской среде антиреволюционную агитацию». В конце серьезной депеши значилось многозначительное «ответственным назначить тов. Каплицына. Доложить по истечении семидневного срока».
Прочитав такое, Васька, конечно, выдохнул: собственная шкура была спасена. Одна лишь назойливая мыслишка заскочила в голову и начала зудеть, принеся новое беспокойство. С фабрикантами в окрестностях было не густо. Те, что были до Васькиного прихода, благоразумно драпанули во главе с паном Мурашкевичем после первых экспроприаций. Кто в буржуазную Ригу, кто в Варшаву, кто куда…
Оставались, конечно, Левины и Циперовичи, у которых при царском времени были собственные винокурни, но с ними Васька благоразумно предпочитал не связываться. Понимал, у «этих» полно родни, пролезшей сейчас на самые вершины власти. К тому же опасался неизбежного для тронувшего богоизбранный народ гвалта. А от одной мысли о последующем за обидой бумажным потоком в любые мало-мальски властные инстанции Ваську коробило и бросало в холодный пот.
Оставались ксендз и батюшка – отец Филипп. Были еще старообрядцы, но толку с них, одно слово – «беспоповцы».
И поскольку католиков в округе было значительно больше, чем православных, выбор у предкомбеда сузился до дряхлого, страдающего одышкой и едва передвигающего ноги толстяка батюшки.
* * *
Волны озера Набист, словно предчувствуя надвигающуюся беду, сходили с ума, выплескиваясь на берег, ломая порывами холодной мощи сплошную стену тростника.
Народ, согнанный по приказу начальства в лице Васьки Каплицына, покорно пригибался под напором ветра, разносящего по воздуху желтоватые комки озерной пены.
Васька хмурился, сплевывал на песчаник, втайне проклиная образовавшуюся ни с того ни с сего обильную слюну, нервно дергал щуплыми плечиками, понимая, что все его прежние грешки и подлянки – ничто перед тем, что предстояло натворить сейчас. По войне помнил, что кровь людская не водица, а тут предстояло убить показательно невинного старика, крестившего треть деревни и отпустившего грехи все той же трети. Убить – означало завести многочисленных врагов и ненавистников, не убить – погибнуть самому по распоряжению жуткого РВС.
Утешал себя тем, что страх, наведенный на этот покладистый и хитрый народец показательным расстрелом попа, заставит всех притаиться и не лезть на рожон против новой власти. Из века в век такое тут было, и ничего, проглатывали обиду и ненависть, да и жили себе дальше, не помышляя расквитаться с теми, за кем сила.
Васька усмехнулся своим мыслям и снова сплюнул. Так и есть, нечего бояться: народец забит, запуган, раздавлен и растерян. Веками шла кровавая прополка этого заповедного огородика от особо буйных и умных, так что «все пучком»: послушные да хитрые бузить не станут, поплачут, посморкаются слезливо в пазуху друг дружке и перетерпят в очередной раз, перекрестившись украдкой: «…а может, так и надо? …абы не я».
Дородный отец Филипп натянул поглубже обтрепанную скуфейку, пытаясь защитить лысину от холодных брызг. В накинутом на плечи чьей-то сердобольной рукой мохнатом козьего пуха платке моргал подслеповатыми выцветшими глазками совершенно по-ребячьи, не понимая пока, с чего бы к его персоне такое пристальное внимание, но, уже предчувствуя нехорошее, крестился, проговаривая одними губами защитную молитву.
Бабы тихонько подвывали и тоже крестились. Мужики пялились в землю и играли желваками, не в силах смотреть друг на дружку, проклиная себя за робость, окатившую такие вспыльчивые порой сердца ледяной волной страха.
Васька вдруг с ужасом осознал, что не подготовился как следует. Получались форменный произвол и махновщина, а надо было б соблюсти присущие моменту формальности, превращающие убийство невинного в акт революционной справедливости и возмездия.
Васька замер и, не зная, что делать, судорожно соображал, как выпутаться из сложной ситуации. Подручные, верные паскудники Юзик и Митяй, нервно переминались с ноги на ногу, поглядывали нетерпеливо на начальника и в порыве ненужного сейчас рвения, чтоб как-то унять напряжение, дергали несчастного отца Филиппа за рукава исподней рубахи.
Васька снова сплюнул, на этот раз зло, сердясь на собственную недальновидность. Порылся за пазухой, нащупал лист с описью недавно изъятого и извлек его на свет божий, высоко задрав руку, как бы показывая толпе «Вот! Не просто так! Есть бумага!».
Бабы, при виде мятого листка, внезапно осознав серьезность происходящего, заголосили чуть смелее, но все еще нудно и осторожно.
Васька зыркнул на дур исподлобья и что было силы гаркнул:
– Цыц! Развели тут нюни!
Удовлетворенный гробовой тишиной, кивнул головой, как бы позволяя самому себе продолжать, вперился в бумажку с описью и важным тоном начал придумывать на ходу должный бы быть там текст:
– Значится, так! Приказ! От революционного комитета имени рабочих и крестьян и всего передового пролетариата Полоцкой губернии! За разложение и контрреволюционную агитацию, а также… за это… – Васька приблизил листок к самым глазам, усиленно делая вид, что плохо видит. – А! За опиум для народа! Поп Филипп приговаривается к исключительной мере революционной справедливости, то есть расстрелу! Произвести немедленно!
Васька вздохнул и от греха подальше убрал листик обратно за пазуху.
Поп, еще не веря, что все это происходит с ним не в кошмарном сне, попытался перекреститься, но Юзик с Митяем крепко повисли на его руках.
Повисла тягостная пауза. Васька, корешками волос почувствовавший, что промедление вот-вот обернется серьезной бедой для него самого, ловким движением выхватил болтающийся в кармане наган, взвел его и тут же, не думая, приставив дуло к широкому лбу священника, нажал на курок.
Выстрела Каплицын, как ни странно, не услышал. Видел лишь, как во лбу попа образовалась аккуратная красная дырочка, как осело на прибрежный песок дородное тело, а кусочки озерной желтоватой пены, зашевелились, словно живые, в густой раздуваемой ветром седой бороде покойника.
Так бы и стоял, опешив от наглости собственного поступка, если б не подошла к нему Ганна и не плюнула смачно прямо в глаза. Васька молча утерся, сплюнул вслед удаляющейся с гордо поднятой головой жене, пошевелил губами, будто пережевывая оскорбление и, собравшись с духом, почти жалостно проблеял:
– Расходимся, товарищи… Экзекуция, это самое, закончена… – Васька понял вдруг, что круто облажался с этой экзекуцией, что теперь ненависть этих молчащих людей, как подземный ручей, будет сочиться, пока не найдет выход, и что всего этого можно было избежать, если бы не его собственная дурость. Глаза тут же застила прихлынувшая кровавая ярость:
– Прошу покинуть! Расходимся, мля! Хули вытаращились?! Пошли вон отсюда! Бараны!
* * *
Поесть Костя любил. Вот и сейчас один запах жаренной с лучком картошки вызвал в нем целую бурю эмоций. Зубенко театрально изобразил, что его ноги подкосились, и он в изнеможении упал на кухонную табуретку, безвольно уронив локти на стол.
– Это же симфония! Владка! Черт, в комнате усидеть невозможно! Пришел вот на аромат. Чудесно! Волшебно! Обожаю! Все, что хочешь, проси! Готов! Все, и полмира в придачу – за тарелку твоей картошечки… ммм… с луком, теряю волю!
Влада, даже не взглянув на страдальца, молча сняла с огня сковороду и поставила скворчащую массу прямо ему под нос. Костя потянулся было за вилкой, но Влада опередила его, подав ложку.
– Ешь, ложкой, Зубенко, сподручней будет.
– Угу! Ясен-прекрасен! А?
– Все – тебе. Мишка с Полиной не скоро будут. Ешь, я не хочу.
– Ну, не знаю… Умеешь ты уговаривать! – Костя еще помедлил чуть для приличия и с аппетитом стал запихивать еду за щеки. Через пару секунд, забыв обо всем, начал чавкать и причмокивать, изредка бросая благодарные взгляды на Владу, поглядывающую на него со странным выражением: не то с грустью, не то с сожалением.
Утолив первый голод, Костя, почувствовав неловкость от пристального взгляда, с сожалением отложил ложку.
– Чо, это на всех, что ли? Или чавкаю?
– Кушай, Зубенко. Специально для тебя готовила. Давай-давай, – Влада ободряюще улыбнулась.
Костя начал снова есть, но блюдо теперь не приносило прежнего удовольствия. Почуяв, что что-то не так, отодвинулся от стола и вперился в девушку внимательным, сразу посуровевшим взглядом.
– Ясно. С чего бы это ты мне начала стряпать… У тебя ж Мишка есть. Я правильно понял?
– Пока есть. Как и Полина у тебя. Есть. Мы все есть друг у друга… пока…
Зубенко едва сдержался, чтобы не вскочить и не наорать на дуру, но смог лишь просипеть внезапно севшим голосом:
– Ты чо мелешь? Вообще уже?
– Покушал? Пожалуйста! – ядовито скривилась Влада. – Разговор будет тяжкий, хотела подсластить, вот и нажарила твоей любимой.
– Какой? Кх… разговор? – в горле у Кости внезапно пересохло, он понял, что не хочет знать, что там выложит эта ядовитая сучка. Однако, какими бы не были горькими новости, не знать их будет только хуже. Зубенко, почувствовав, как ныряет в холодный омут, передернул плечами и тяжко вздохнул: – выкладывай, не томи.
– Мишка под утро приплелся. Счастливый. Давно его таким не видела.
– Пьяный опять, что ли?
– Нет. Почти нет. Сказал, что уезжают обратно в Питер. Прости, говорит… – Влада поджала губы, а подбородок ее предательски задрожал.
– Уезжают?
– Да. Он и твоя невеста. Полина.
– Чо ты мелешь, дура?! Я тебе сейчас эту сковороду на голову надену… Ты чокнутая или как? У нас свадьба через неделю! Какой на фиг Питер?! Иди проспись!
– Зубенко! Ты себе сковороду надень! И очки купи, если ни хрена не видишь! Чего она замуж за тебя решила? Любовь думаешь, ха-ха…
– А я чего? Она сама… – Костя вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком, которого застали за кражей конфет из буфета.
– Любит она. Но не тебя, Мишку. Все ему назло. Нет, чтоб прямо сказать. Все у этих творческих личностей не как у людей. Вот и напутала клубок. В котором мы с тобой, Зубенко, по рукам и ногам повязаны. Я Мишку не собираюсь ей отдавать! Ты как хочешь!
– Я убью ее! Блядь! Блядина! – Костя подскочил было, но тут же снова рухнул на табурет. Слезы брызнули из глаз, и он разрыдался, искренне, без смущения, как когда-то в детстве, когда домашний любимец кот в мгновение ока придушил подаренного мамой на именины заливистого оранжевого кенара.
Влада встала. Смущаясь, погладила парня по трясущимся лопаткам и жестко произнесла:
– Ну, хватит. Главное – цель. То, что там было, по дороге к ней, никому не интересно. Если ты достиг результата, то он будет с тобой навсегда. Никто не вспомнит, через что тебе пришлось пройти, если ты победил. Подбери сопли, Костя, еще ничего не потеряно! Послушай меня. Придется поднять мягкое место со стула, но оно того стоит. Для их же блага. Эти двое, как дети малые, поодиночке пропадут, а если вместе будут, то еще быстрее. Так что все, что мы с тобой сделаем, для их же блага. Согласен?
– Убьююю, Мишка – тварь, сука… – заблажил Зубенко.
– Нет. Не так. Мишку надо убрать на время, пока ты женишься на Полине. А она тебе подметки лизать будет, зная свою вину. Так лучше будет, Костя. Увидишь!
– Как на время?
– У тебя дядя! Подумай сам. У него власть. Смекаешь? Эх, ты, тютя…
– А Полина? Согласится… ну, замуж?
– Куда денется. Ты закроешь моего Мишку, я сделаю так, чтоб Полина была твоей. Они порядочные в отличие от нас, поэтому уязвимы. Подбери сопли и не плачь, казак, атаманом будешь!
* * *
Мутный месяц изредка выкатывался из-за фиолетовых низких туч, с грехом пополам освещая путь путающемуся в собственных ногах Ваське Каплицыну. В голове его было пусто, он бесстрастно смотрел, как закручиваются каруселью покосившиеся серые заборы, стараясь не вспоминать тяжелый во всех отношениях день.
Попа прикопали в лесу, подальше от людских глаз, чтобы не бередить раны напуганных местных свежей могилкой безвинно убиенного.
Как полагается, усугублять начали еще до рытья ямы, благо запас пойла всегда был с собой, в вместительном панском кофре, притороченном сзади толстыми вечными ремнями воловьей кожи.
Выпили крепко. Так что Ваське пришлось рыть яму самому: перебравший Юзик заснул прямо возле трупа, а падающий, путающийся под ногами Митяй помощник был никакой.
Тяжелый труп чуть перекатили до ямы, а внутрь спихивали уже ногами. В могилу тело упало лицом вниз.
Митяй, чуть было не перекрестившись, проглатывая слоги, заблеял:
– Эма-на. Не по-юдски неяк? А? Ааа?
– Лезь в яму, переворачивай, ежли не нравится! – сплюнул осточертевшей за день слюной Васька.
Митяй надулся, отошел в сторону, засопел, поднял брошенную бутылку (не осталось ли чего внутри?), разочарованно вздохнул и запулил ее со всей дури в кустарник.
– Куды! Твою дивизию! Следов чтоб не было мне! Сюда давай! – взвился Васька.
Бутылки побросали прямо на широкую спину батюшки.
– Юзика тоже давай! Помякше буде, чем на земле храпеть! – заржал Митяй, но Васька глянул так, что дурень мигом заткнулся и молча начал бросать лопатой желтую лесную землю на бордовый от крови затылок покойника.
Справились быстро. Потоптали ногами, чтобы не было холмика, натаскали хвороста, присыпали следы от свежей земли длинными сосновыми иголками, которые ковром устилали все вокруг.
Хрюкающего во сне Юзика погрузили в бричку, бросили под ноги и, без жалости охаживая кобылу выломанным прутом, помчались в деревню. Ошалевшая от побоев коняга неслась, не замечая колдобин и выемок старого шляха, но ездоки, пьяно хорохорясь друг перед дружкой, не придерживали ход, а лишь глупо ржали, то и дело глотая обжигающую жидкость из последней, так кстати завалявшейся поллитры.
За пару верст до деревни на очередном ухабе отвалилось колесо, и Васька наконец натянул вожжи, останавливая взбесившуюся от побоев лошадь. Оставив храпящую в унисон парочку подельников в бричке, проклиная нелегкие начальственные обязанности, поплелся, вихляя и падая, домой, к ершистой Ганне и змеюке теще.
До дома оставалось шагов сто, когда после очередного выхода ущербного ночного светила от лавки на другой стороне улицы отделились две темных фигуры. Пусть сознание Васьки и было затуманено, но сообразил он споро: судя по решительной пружинистой походке парочки, ждали именно его… и дождались.
Под ложечкой что-то противно заныло и заворочалось, Каплицын понял, что вот он и наступил на яйца – его самый распоследний момент. Не сошло с рук, не пронесла лихая, и вилы в руках у одной из ночных теней приготовлены по его грешную душу. Хмель как рукой сняло. Мысли забегали стремительно, как полчища потревоженных неожиданным светом тараканов. «Бежать? Догонят. Ноги и так еле держат. Договориться? Ага… договоришься тут…». Ваське мигом представилось, как посмеивается ехидно в своей яме убитый им утром батюшка. «Фиг тебе!» – харкнул он под ноги и, надеясь выиграть хоть каплю времени, заблажил, давая понять поджидающим его хмурым теням, что он упившаяся до чертей «сладкая булочка» и брать такого можно голыми руками:
– Бы… ВА-ли, дэ – ни… вясе-ЛЫ – йе! – сам же судорожно взводил курок нагана прямо в кармане штанов, понимая, что может не успеть даже вытянуть руку. Одно движение, и сенные вилы на длинном черенке мягко войдут чуть повыше живота, туда, где сейчас змеиным клубком шевелился сжимающий волю страх.
Месяц вновь выглянул из несущихся по мрачному небу облаков. Короткого мгновения белесого света Ваське хватило, чтоб утвердиться в своих нехороших предчувствиях: одного из мужиков, рослого, с вилами в длинных руках, помнил он слишком хорошо. В коротком промельке света Ваське недобро улыбнулся Ян Граховский.
Каплицын качнулся и, будто не находя опору, почти начал падать в канаву, поворачиваясь, чтоб сподручней пальнуть. Прошептав про себя «ну, выручай, кривая!», прикинув, что вроде все должно сложиться, нажал на курок.
Бабахнуло в ночной тиши громко. Не ожидая развязки, Васька покатился в канаву, а оттуда, кубарем – по косогору к спасительным кустам у озера. Больно бился локтями, затылком и пятой точкой о землю, уловив краем уха стон и матюки. Падал, кувыркался, моля лишь об одном и Бога, и дьявола: только б не выкатился на фиолетовый небесный ковер издевательски лыбящийся серп луны.
* * *
Рассвет, не желанный, даже опасный для двоих вжавшихся друг в друга обнаженных фигур, к счастью, не торопился, уступая свое законное право повисшим над мокрым городом низким грозовым тучам. За окном громыхнуло, и тяжелые капли забарабанили в окно театральной мансарды.
Мишка прислушивался к звукам нарастающей грозы, боясь шелохнуться, чтобы не разрушить волшебство, которое все еще витало здесь, в полузаброшенной костюмерной, ключи от которой так кстати оказались у Полины. «Вот бы навсегда поселиться здесь. Забыть о ревнивых взглядах Владки, вычеркнуть из памяти Костю, видеться с ним после всего, что произошло у них с Полиной, тяжко и невыносимо. Черт, как же этот вынужденный обман жжет душу. Выяснить отношения? Нет. Позже. Не сейчас. Не хочется вспугнуть это ворованное, слишком хрупкое уязвимое счастье».


