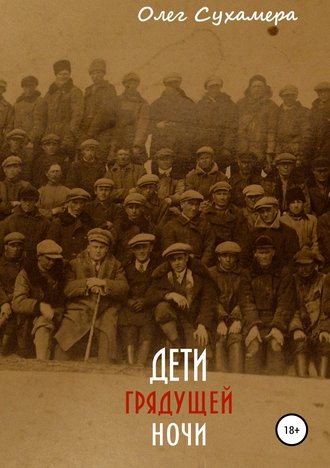
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
– Давай рванем!
– Куда? В цирк? С пустыми карманами? Таких желающих – полгорода. Мне бы с Сергеем встретиться. Не виделись столько лет. Покруче цирка впечатление, поверь.
– Да фигня это все! Родственные чувства скоро вообще отменят. Посмотришь! А тут – мечта! Слышишь? Это слон орет! Видал слона когда-нибудь! То-то же!
– Ты что ли видел?
– Я, брат, не такое видел, – уклонился от ответа Зуб.
Глаза его начали шарить по пологу шатра, Костя явно намеревался найти прореху в конструкции, но все было присобачено к земле на совесть.
Зуб, быстро смикитив, что пробраться самым простым путем вряд ли получится, начал оглядываться по сторонам, изучая прибывшую к месту развлечений публику.
– Смотри, дядька с бородой до пупа оглядывается. Точно кого-то ждет. А этот «кто-то» не пришел. Сто пудов сейчас нарисуется лишний билетик! А, ч-черт… – к дородному мужику, расталкивая толпу локтями, спешила не менее могучая баба, за которой семенило целое семейство. Борода широко улыбнулся, раскрыл огромные объятия и степенно расцеловал припозднившуюся жену.
– Не судьба, – процедил Зуб и продолжил шарить цепкими глазенками по толпе в поисках одной ему ведомой жертвы. Через какое время Костя встал в стойку, замер, как сеттер, вынюхавший среди травы долгожданную добычу.
– Стой тут! Ща все будет! – Зубенко юркнул чуть ли не под руки снующим людям и испарился.
«Вот же шило в заднице. Везде ему надо. С такой сноровистостью и до сих пор на воле», – подумал Мишка. Оглянулся, Сергея не было видно. Озабоченно взглянул на маленькие карманные часики, выданные расстроенной матерью еще при отъезде, брат задерживался на пятнадцать минут.
* * *
– Вот. Часы мои. Исправные. Пригодятся. Конверт, что пан Еленский тебе завещал. Там деньги, письмо рекомендательное. Не передумал? – вздохнула Софья с робкой надеждой.
Она понимала, что сына не удержать, грешно держать быстрый ум в деревенском болоте, закиснет. Но материнское сердце сопротивлялось, понимая, какие кровавые мозоли предстоят любимому чаду в чужом краю.
– Нет. Тут мне тяжко. Прости, мам. И учиться надо. Не все за твой подол держаться, – Мишка как-то совсем по-взрослому, осторожно, без лишнего надрыва, приобнял мать за плечи. – Все будет хорошо.
– Или не будет, – горько улыбнулась Софья, вспомнив старую семейную шутку.
* * *
– Знакомьтесь! Это Михаил, тоже студиозус, как я и вы, барышни! Мишка у нас – будущий писака, граф Толстой. Миша, это Полина, это Влада. Как здорово, что ваши подруги не пришли! Хм, пардон, не то. Хорошо, говорю, что у вас два лишних билета, а у нас – два жаждущих впечатлений организма! Дамы, не переживайте. Миша получит гонорар, и мы тотчас же рассчитаемся!
– А мы не волнуемся, господа. Так или иначе, не пропадать же местам, – Мишка поймал себя на том, что удивился, как миниатюрная девушка может обладать таким глубоким голосом.
– Ты чего?! Неудобно! – прошипел на ухо приятелю покрасневший, как забытый на углях утюг, Мишка, а сам улыбнулся слегка озадаченным напористостью маленького человека барышням.
Высокая, плотная, с грубыми чертами лица Влада широко улыбнулась в ответ, продемонстрировав безупречный ряд крупных зубов. Полная противоположность подруге, миниатюрная Полина лишь приподняла уголки губ и быстро, оценивающе пронзила взглядом Мишку. Впрочем, через мгновение фарфоровое личико студентки приобрело то нейтральное выражение, которое присуще хорошо воспитанным девушкам из порядочных семей.
– Неудобно вшей ловить ногами, – шепнул в ответ Костя и довольно показал жестом на вход в шатер, охраняемый бдительной двухметровой билетершей с черными юношескими усиками над верхней губой. – Пр-ро-шу!
– Я не могу! – с тоской выдавил Мишка. – Мне брата дождаться надо.
– Как говорят у меня на родине, твой цирк, твои обезьяны. Как хочешь. Идемте, барышни! – Костя бодрым шагом направился к суровой билетерше.
– Сделаем проще! – Влада протянула один билет Мишке. – Сектор «А». Приходите, Михаил, когда справитесь.
– Спасибо, – Мишка улыбнулся, но почему-то не Владе, а Полине, которая, едва заметно кивнув ему головой, последовала ко входу в шатер. – Я постараюсь! – крикнул ей вслед Мишка. Влада, по-видимому, приняв восторженный ор Мишки на свой счет, так же громко ответила:
– Мы будем ждать! – И радостно помахала ему ладонью в лайковой белой перчатке.
Мишка с легким недоумением смотрел на матерчатый полог шатра, под которым скрылись странные барышни. Он вслушивался в лязг и завывания циркового оркестра и поневоле сожалел, что приходится ждать брата, вместо…
Впрочем, юный Вашкевич быстро отогнал наклевывающиеся дурацкие мысли: « К чертям увлечения! Только продажная любовь. Все женщины – сволочи и предательницы. Подпись. Печать».
Только вот память снова и снова услужливо подсовывала воображению облик маленькой стройной Полины, которая сидит вот там, совсем рядом, стоит лишь предъявить усатой тетке клочок бумаги, медленно намокающий в потной ладони.
* * *
Внизу на покрытой цветастым китайским ковром тахте сидел человек, плотно затянутый в черную лайковую кожу. Кожаная кепка, кожаный френч с двумя рядами костяных пуговиц, кожаные галифе, плавно перетекающие в надраенные до блеска высокие сапоги.
Сергею показалось на мгновение, что перед ним сидит странное земноводное, по прихоти опиумного опьянения обернувшееся человеком, но сохранившее при этом всю свою скользкую отвратительность.
Человек замер. Сквозь тонкие стеклышки пенсне, сидящего на самом кончике орлиного профиля, он вперился в Сергея оловянным, ничего не выражающим взглядом, отчего еще больше стал похож на огромную, свернувшуюся в спираль, лоснящуюся кожей гадюку.
«Тот ли Цейтлин? Ну да, похож. И не похож одновременно. Как будто того Яшку умертвили, а потом выкопали, приодев для страху во все черное», – подумал Сергей.
Внутренне ему хотелось, чтобы прежняя ярость к товарищу-предателю выскочила наружу, как заморский чертик из табакерки. А дальше бы руки сами разобрались, что делать.
Но нет. Ничего подобного не происходило. Человек на цветастом ковре был похож на Яшку Цейтлина не более чем тело мертвеца похоже на своего прежнего владельца.
От Яшки, выстрелившего в спину в ту злополучную ночь, осталась только внешность, общий вид, с робкими следами выпотрошенных куда-то на тюремную помойку прежних задора и лихости.
– Проходите, Сережа. Я не укушу. Не бойтесь, – голос его не изменился, но приобрел те холодные интонации, которые появляются лишь с годами лишений и суровой борьбы за выживание.
– Я, как помнишь, мало чего боюсь. А вот ты осмелел. Или память подвела? За мной – пуля для тебя. Надеюсь, помнишь, за что, а, Цейтлин?
Человек-гадюка поморщился, подергал скулами, всем видом показывая, что огорчен тем, как беседа катится не в ту сторону. Шмыгнул длинным горбатым носом и намеренно тихо, чуть ли не шипя, выдавил заготовленную заранее тираду:
– Сережа. Наши с вами уголовные приключения давайте оставим там, в темноте общего прошлого. Ведь я теперь не тот Яшка Цейтлин, а просто товарищ Гвоздев. Партийная кличка, приклеилась, знаете ли, намертво. Мы же с вами соратники нынче. Коллеги, так сказать, по борьбе с мировым капиталом. Видимо, судьбе было угодно устроить так, что я с некоторых пор руковожу таки ячейкой, в боевом крыле которой вы числитесь. За Боже ж мой, прошу смириться с этим грустным фактом.
– Что за…
– Чертовщина? И не такое бывает, – Яшка ощерился крупными лошадиными зубами. – Предупреждая дальнейшие вопросы, я у вас по поводу завтрашней экспедиции на Северный фронт. С поручениями и инструктажем. Видите ли, это я принял решение о вашей с Мирой совместной поездке. В честь старой дружбы. Хотя муж вашей, кхм, знакомой был несколько против.
– Сука ты, Яшка. Думаешь, завалить тебя партийная дисциплина помешает? Не попался ты мне сразу… А сейчас… Руки не охота марать.
– Ох..Ну как же вы не поняли, нету Яшки, пришел ваш руководитель товарищ Гвоздев. Я тоже таки рад вас видеть, Сереженька. А что касается наших давних дел, то, каюсь, таки хотел проглотить весь кусок. Ну, не вышло. И вам не судьба была, и мне. И что такое деньги, Сережа? Орудие, чтобы добыть влияние, не больше того. Спасибо товарищам по каторге: показали, разъяснили. Деньги – чушь, лопата, которой расчищают дорогу к своей свободной воле. Это факт, увы, – черный человек вальяжно закинул ногу за ногу, порылся в карманах и, достав оттуда жестяную коробочку от монпансье, подцепил на длинный ноготь щепотку белого порошка. – Зачем куда-то копать, если главный приз валяется на обочине? Присаживайтесь, Сережа, наша с вами беседа обещает быть долгой, как Екатеринбургский этап, шоб ему пусто было.
* * *
Запеченный в печи заяц выглядел аппетитно, но Лаевский лениво и не в настроении ковырялся в тарелке серебряной вилкой.
Полковника одевали грустные думы: «Надо же, так опростоволоситься перед войсками. Как бы не стать посмешищем. Досадная слабость. На бумаге все проще. О, все эти трупы…Ужасно! Отвратительная необходимость».
– Алеша, будьте добры, – Тимофей Ильич кивнул в сторону уже несколько раз пустевшего лафитничка.
– Всенепременно-с.
Адъютант с готовностью наполнил рюмку. Лаевский одним жадным глотком опрокинул прозрачную «Смирновку» в широко открытый рот, занюхал корочкой хлеба и тут же жестом показал наполнить еще.
– Видите ли, Алеша, ситуация сложилась глупая. Мы же с вами интеллигентные люди, и вполне естественно, что все эти варварские ритуалы, ммм… этот вынужденный расстрел, например, вызывают у приличного человека ммм… отторжение на обычном физическом уровне.
– Так точно-с!
– Спасибо. Но ментально! Ментально мы сильнее, гораздо сильнее всех этих варящихся в своем кровавом дерьме ротмистров! Вы согласны?
– Так точно-с!
Полковник снова махнул рюмку и, не дожидаясь замешкавшегося Алеши, наполнил ее снова и тут же выпил, не закусывая и даже не морщась, по своему обыкновению.
– Допустим, я оказался не совсем там, где мне надлежит быть. Что ж? Опустить руки? Уподобиться среде? Дудки! Кто-нибудь – да. Но не Лаевский! М-да. Ибо в каждом обществе, а армия тоже общество, не спорьте, есть центр влияния. Это нормально. Как учит нас Макиавелли, достаточно воздействовать на этот центр, подчинить его, а если не выйдет, сломать! И – оп! – ситуация снова под вашим контролем. М-да, мне кажется, что этим центром, авторитетом должен быть и стану я по причине должности и звания. А что имеем пока? Какой-то там ротмистр, как его?
– Булатов-Вашкевич, ваше высокоблагородие.
– Да! Отвратительный хамоватый тип. Воздействию он не поддается. Быдло. Толстая кожа. Значит, нам ничего не остается, и мы будем что? Правильно! Ломать! Хребет! Через колено! Как вы думаете, Алеша, у этого вашего… есть слабости? Может быть, привязанности? Не стесняйтесь, мы же с вами в одной, так сказать, …э …обойме!
– Не знаю. Конь у него, на свист приходит, умный, зараза. Сам видел, как они разговаривают-с.
– С конем?
– Так-с, конь молчит, конечно. А Булат этот вполне разговаривает с ним, как с человеком. Да-с. Не хотелось бы сплетничать. Но… еще с сестрой милосердия, Верочкой, как бы роман-с. Все в полной ажитации и в восторге от этой истории. Она его в лазарете с того света вытащила, а по выздоровлению написала просьбу их сиятельству, дабы последовать за возлюбленным на фронт. Прямо Орфей и Эвридика, только наоборот!
– Ну, вот же! Пр-э-э-э-лестно! – озаренный какой-то мыслью, Тимофей Ильич тяпнул еще рюмочку и с удовольствием принялся за зайца, да так, что кости затрещали на крепких, чудом сохранившихся к почтенному возрасту зубах.
* * *
Темнело. По периметру огромного шатра цирка-шапито молчаливые рабочие зажгли газовые фонари. Синие огоньки мерцали, окруженные тысячами слетающихся и тут же падающих на землю мотыльков.
«Точно, как с любовью. Мы стремимся к ней, к этому светлому, неземному чувству, оно согревает нас теплом, которого так не хватает в потемках чувств. Опьяненные, восхищенно кружим рядом, не подозревая, что, скорее всего, этот свет, весь этот волшебный свет, то, что зовется любовью, не совсем то, что нам кажется, и даже, наверное, не для нас создана.
Свет, вспыхивающий в душе, нечто придуманное высшим разумом, чтобы ему было удобней ориентироваться в кромешной нашей темноте. А мы толкаемся, деремся за что-то, чем по определению не можем обладать хотя бы в силу ограниченности разума и чувств. Мотыльки, да и только.
А победители, самые дерзкие, кидаются в пропасть этого божественного источника тепла и света. Сами надеются стать светом, обрести бессмертие. Но на деле просто гибнут в дурацком восторге от прикосновения к случайно зажженному Господом огню любви, а это лишь фонарь – маяк мира совершенных существ с более развитыми чувствами, и все это мы видим, но не можем осознать, потому как – за гранью понимания».
Мишка смотрел на расходящуюся гогочущую бурно жестикулирующую публику и едва не плакал от огорчения. Брат, с которым не виделись долгих четыре года, на встречу не пришел. Мало ли, бывает, может, что-то срочное? Всякое случается. Обидно, что адреса брата у Мишки не было. Связь была лишь через письма Ганны ему и Сергея – матери.
Едва договорились, две недели ждал встречи, и вот… снова безликое «до востребования». Ищи теперь старшего Маруту по всей столице. И ведь мог попасть на представление, сидеть рядом с очаровательной Полиной, смеяться, слушать ее глубокий чувственный голос. И вот все это не сбывшееся маленькое счастье оказалось принесенным в жертву. И чему? Увы, пустому ожиданию.
– А вы все ждете? Какой вы… упорный, – сердце Мишки екнуло, он обернулся, так и есть: за спиной стояла Полина, улыбающаяся чуть ли не во все тридцать два жемчужных зуба. Чуть поодаль откровенно ржал Зубов, невинно пытающийся взять под локоток Владу и тут же ретировавшийся под ее гневным взглядом.
– Все. Сдаюсь. Не пришел. Наверное, что-то случилось, – Мишка пожал плечами, чувствуя неловкость от явного внимания девушки.
– Бывает, – в глазах Полины сверкнули азартные искорки. – Константин вызвался нас проводить. А вы?
– Ну, мне кажется, что двухчасовое ожидание – это за гранью разумного, поэтому Михаил присоединится к нам! – тоном, не терпящим возражений, заявила Влада. Она быстро подошла к сидящему на железном ограждении Мишке и решительно протянула ему узкую ладонь. – Хватит ждать! Вставайте! Уходим!
Опешив от ее напористости, Мишка смущенно кивнул головой и, не обращая внимания на протянутую руку, суетливо вскочил, делая вид, что сметает с брюк несуществующую пыль.
– Барышни, в благодарность за этот прекрасный вечер, отныне и впоследствии, вы находитесь под моей защитой! – вполне серьезно заявил Зубенко, сделав при этом такую грозную мину, что девушки прыснули со смеху.
– А что такое? Что я не так сказал?! – вспыхнул Костя, сжимая маленькие кулачки и едва не подпрыгивая, как обычно.
– Все нормально, – успокоил вспетушившегося товарища Мишка. – Там клоун высунулся за твоей спиной. Вот барышни и … – Мишка незаметно подмигнул Полине, как бы приглашая подыграть в щепетильном вопросе Костиного самолюбия. Полина едва заметно кивнула.
– Точно? – подозрительно спросил Зубенко.
– Точно! Клоун! – трагически заявила Полина.
Но тут уже не выдержал Мишка и неприлично громко заржал. Барышни охотно поддержали. Мишка почувствовал, как на глазах истончается и тает невидимая стена осторожности между ним и забавными незнакомками, и через прорехи в ней появляются робкие лучики доверия и взаимной симпатии.
Лишь Костя, не понимая, что происходит, то бледнел, то краснел. При этом он суетился и причитал, как пятилетний ребенок: «Чо такое? Чо вы все ржете? Дураки, что ли? Да ну вас!» – чем довел компанию почти до смеховой истерики.
* * *
Станислав сидел за столом, сколоченным грубо, но на века, каким-то добросовестным латышом, смотрел на пляшущий огонек керосиновой лампы, полностью растворяясь в прихотливой игре пламени, наслаждаясь случайным провалом в то бездумное состояние, когда ты являешься лишь кусочком мира, одним из предметов деревенской хаты, не более. Но и не менее.
Именно в такие моменты испохабленная внешней жестокостью душа убегает куда-то зализывать раны, оставляя подсознание наедине с самим собой, в счастливом младенческом неведении.
Сознание растворялось в огне, а где-то там, на окраинах восприятия, суетилась у печи пухленькая Вера – женщина с наивным лицом подростка.
Персональная сестра милосердия, ангел-хранитель, пожалуй, единственный в этом мире человек, любящий его просто за то, что он есть, со всеми его хорошими и дрянными сторонами. Одна на всем свете душа, понимающая, что все хорошее и плохое в Булатове смешалось в монолитный сложный характер так, что, если попытаться отделить одно от другого, то душа его не выдержит – истечет кровью.
Почти как тело, тогда, в шестнадцатом году. Когда все доктора сказали «брось, пустое, с сепсисом не живут».
Лишь Вера, полностью оправдывая имя, данное родителями, не слушала никого, все суетилась у крутившегося в бреду полутрупа. Просто меняла пропитавшиеся потом повязки, засовывала пальцами порошки прямо в бессмысленно раззявленный рот «не жильца». Выходила! Назло всем – судьбе, докторам, смерти!
Странное дело, когда воин пришел в себя, она чуть ли не начала ревновать его к себе самому, лежавшему без сознания.
Как так? Еще недавно она решала, когда попить, когда обтереть влажной тряпкой, когда подсунуть железную утку. Ей было не в тягость. Сложнее стало, когда бедолага, не обращая внимания на расходящиеся швы, жестко отводил ее руку и, играя желваками от боли, чуть ли не испепеляя ее взглядом, шипел «С-сам!». А потом смирилась. Как смиряется мать с самостоятельностью выросшего сына.
Сама виновата: не заметила, как все ее личное пространство сузилось до одного яркого, как пламя, мужчины. Когда осознала, испугалась сразу, а потом подумала: «Значит, Богу так угодно, чтобы я была его тенью». На том и успокоилась. Лишь одного не учла, без Булата жизнь становится серой и совсем неинтересной. Потому и пробила лбом все преграды, насмешки и неприятие любимого, возмущение начальства, косые взгляды подруг. Ведь это все мелочи по сравнению со счастьем быть хотя бы тенью любимого, которого ты выдернула из небытия, пусть немножко и придумала образ, но полюбила по-настоящему, навсегда.
Вера суетилась, стараясь не шуметь особо. Она чуяла внутренним женским чутьем: вся ее скопившаяся нежность и готовность пожертвовать собой ради него, единственного, любимого, не стоят в этот конкретный момент и ломаного гроша. Что она? Мошка, каким-то божественным чудом прилепившаяся к нему, временная спутница, обслуга. Заметит ли, если она вдруг исчезнет? Понятно, что нет у жестокого рубаки послабления не то что к близким – к себе.
Как вырасти росткам любви и привязанности на камне, в который превратила война его душу? А ведь молодой парень, почти ровесник. Что, если бы встретились в мирной жизни? Увы. Не было бы ничего. Слишком разные. Не обратил бы внимания на серую мышку. Перешагнул бы и не заметил. Грех роптать на судьбу. Пусть не любит, но привязан, чувствую. Не печалиться главное, ведь своей любви столько, что хватит утопнуть обоим.
Живем одним днем. Когда возвращается с похода по немецким тылам, исхудавший, злой, как черт, с этим волчьим взглядом, в котором тоска и боль… Вот – праздник: обмыть его, сбрить наголо отросшую обовшивевшую в разъезде шевелюру, перевязать и почистить от гноя старую открывшуюся рану. Прижаться всем телом к груди, чувствуя, как из мышц взведенного, будто стальная пружина, тела по капельке, нехотя, уходит напряжение, и во взгляде проявляется чуть человеческое вместо звериного.
Такая, видать, судьба у тебя, Верка: любить без ответа, без надежды на взаимность. Больно, что он принимает как должное. Пусть сложно, и в сердце нет-нет и закопошится раздавленная давным-давно гадюка девичьей гордости, но лучше так, чем никак. Любимый, не родной мой. Только бы рядом быть. Чего еще? Счастье и есть.
– Поешь?
Стас медленно, нехотя сфокусировал взгляд на сидящую перед ним Веру. «Простое русское лицо. Забавное, даже милое. Веснушки. Русые волосы, заплетенные в куцую косичку. Ничего примечательного, если бы не глаза – добрые, грустные. Посмотрит, и такое чувство, будто солнце пощекочет лучами. Почему она рядом? Или мой ангел-хранитель устал от бестелесности и воплотился таким вот слегка неуклюжим образом?»
– Вера, зачем ты здесь? Грязь, кровь, страдания, смерть – не твое это. Зачем?
Вера тихо улыбнулась, пошевелила пухлыми губками, пытаясь облечь в слова, всколыхнувшиеся в душе неудобным вопросом.
– Вряд ли поймешь. Очень женская история.
– Я понятливый. Расскажи. Мне понять нужно. Знаешь, такое чувство, что я тебя тяну за собой. В ад этот. Я пропащий, зря ты со мной. И…
– Знаю, что не любишь. Только мне все равно. Я ведь замужем была. И все у меня было, как у всех. Муж, ребенок. Девочка. Беленькая такая, волосы, как одуванчик, пушок – казалось, дунь, и полетят волосики по ветру. Машенька. Муж старше. Солидный человек. Богатый. Родители долго уговаривали: «Твой шанс. Не вечно в девках ходить». А что я? Семнадцать лет. Мозгов, как у курицы. Повенчались. Мучилась с ним. Не любила. Ревновал, как черт. К дворнику, к извозчикам, к брату своему. Ему все равно было, кто на меня посмотрел. Бил нещадно, а потом пьяный лез. Заводило это его, что ли? Перегар вечный. Жирное тело. Мерзко. Повеситься думала, только как? Спасибо, вера в Бога удержала.
А через год Машеньку родила. И будто свет появился в темноте. Появился смысл в жизни. Главное. То, ради чего стоит. Можно стало терпеть. Понимаешь? Ради нее!
Он ввалится, куражится надо мной, лупит чем ни попадя, а я будто не здесь: о Машеньке думаю. Чтоб не проснулось мое солнышко там, за стенкой. Терплю. Реву да губы в кровь кусаю, но в душе светло, потому что есть ради кого жить. И дальше терпела б. Не в тягость. Доченька смешная такая. Смех, как колокольчики. Она хохочет, а я словно душ приняла. Грязь смыта. И я снова чистая. Вот…
В тот вечер злополучный очень пьяный приполз. Не смог даже избить меня как следует. Прямо в прихожей и уснул. Если б знать… Убежала б с Машенькой прямо по морозу в чем мать родила.
Только я думала, что уснул. Вскочила от выстрела. Стоит. Глаза пустые, как две дыры в черепе. Ружье дымится. Чувствую больно, рукой двигать не могу. Кровь. А он смотрит на меня, будто не узнает, и так тихо-тихо: «Черт! Черт!» – и ружьем тычет в меня, будто я призрак какой. Я Машеньку хвать, а она …кровь, липкая такая. Обмякла. Теплая еще. А у меня мысли дурацкие, как же я кровь с волосков ее смывать буду?
Дальше не помню. Очнулась, смотрю ружье это проклятое у меня в руках. Приклад разлетелся. Этот – на полу. Вместо головы – месиво какое-то. Вот…
Потом почти год в дурдоме. Током меня били. Суд. Оправдали. Но Машеньки, ангела моего, нет. Три годика ей теперь всегда.
Вера закрыла глаза, поджала губы, словно сглотнула что-то горькое, вздохнула и почти безжизненно продолжила: «Не переживай. Это не ад. Я в нем была. Там хуже. Наоборот, с тобой – хоть какое-то подобие жизни. Люблю тебя. Поешь, пожалуйста. Старалась ведь».
Булат покарябал ложкой по дну глиняной миски. Есть не хотелось. Умом понимал, что надо бы обнять эту запутавшуюся в страданиях птаху, сказать что-то нежное успокаивающее. Только вот сердце подсказывало, что не стоит этого делать. Ложная надежда на взаимность – худшая из отрав. Не заслужила чистая душа двуличия и очередного разочарования, пусть будет так, как есть.
Внезапно бухнула входная дверь, вбежал запыхавшийся бледный солдатик Войцех. Парнишка выпучил глаза, попытался что-то сказать, но не получилось. Прервавшееся от быстрого бега дыхание не давало ему вымолвить слово. Боец согнулся, держась за правый бок, и лишь хватал воздух, пытаясь отдышаться. Стас дернулся было построить наглеца, ввалившегося без всякого предупреждения, но быстро сообразил: что-то произошло.
– Выдохни! А теперь вдохни глубоко. Не спеши. Что?!!
– Там… там… Вашбродие! Конь! Серко ваш! Слышу… бьется, хрипит! Зашел, а там!
Стас сам не понял, как взвилось послушное тело над столом. Он не выбежал, выпрыгнул в дверь. Побежал изо всей мочи, не разбирая дороги, напролом через хилый частокол забора, лишь чертыхнулся, споткнувшись о валявшуюся колоду.
Мельком проскользнула дурацкая мысль, что забыл надеть сапоги, да что там сапоги, бежал в одних подштанниках, не чуя под собой ног.
Из темного чрева сарая доносились тяжкие, почти человеческие вздохи. Скудный свет болтающейся под потолком «летучей мыши» освещал огромное животное, которое стонало и било копытами по дощатой перегородке в тщетных попытках поднять с устланного соломой пола свое могучее тело.
Такой растерянности Булат не ощущал давно. «Как же так? Серко, которого не брала вражеская пуля, друг, спасавший не раз и не два от таких передряг, в которые и поверить сложно. Конь только по виду, а на деле – преданный друг, лишь по недоразумению природы живущий в теле животного».
Стас присел на корточки. Серко доверчиво, словно ребенок, уткнулся мягкими теплыми губами в ладонь ротмистра и замер, постепенно успокаиваясь. Булат гладил друга по жесткой гриве, смотрел на самолично заплетенные косички, сделанные коню по последней гусарской моде, и через силу, заставляя себя, разглядывал сочащиеся свежей кровью раны на ногах Серко. Сердце выстукивало в висках робкое: «А вдруг не так все страшно? Царапины?». А холодный рассудок уже выносил приговор: сухожилия перерезаны, ходить не сможет никогда. Почуяв беду, приняв ее, простившись с надеждой, Станислав едва сдерживался, чтобы не заплакать. Он склонился над чутко повернувшимся ухом, зарылся носом в гриву Серко, вдохнул терпкий запах лошадиного пота, невольно сжал холку так, что конь недовольно всхрапнул.
– Тише, тише, Серко. Ну что ж ты, дружок? Как же так? Как же мы с тобой? А?
– Это ж какой падлой надо быть? Конь-то в чем виноват? – тихо, будто боясь помешать общению друзей, прошептал прибежавший следом Войцех.
Стас вздохнул. Еще чуть погладил шею коня жесткой огрубевшей от сабельных мозолей ладонью, тщательно, по-отечески вытер лившиеся из глаз Серко слезы и спросил безжизненно:
– Оружие есть?
– А? Мне, что ль? Ну! Это самое – маузер.
Булат молча протянул широко раскрытую ладонь за спину, властно, не задумываясь о возможности отказа.
– Эт самое… может, не надо? К доктору конскому надо бы вначале? А? Командир?
– Дай. И выйди.
Булат, не в силах попрощаться с другом навсегда, все гладил коня. Серко успокоился, все поняв, фыркнул совсем по-жеребячьи, тяжело вздохнул и закрыл глаза.
Войцех вышел из сарая. Присел на валявшуюся у стены дровину, покачал головой расстроенно, полез за пазуху и, достав замусоленный кисет, огорченно охая, начал варганить самокрутку.
Сухой пистолетный выстрел прозвучал так не под руку, что боец, дернувшись, выронил почти готовую «козью ножку» прямо в черную грязь.
– От, мать его чтоб! Эх, сука-жизнь! – сплюнул расстроенно Войцех.
Белый, как мел, Булат вялой походкой вышел из сарая. Словно не веря, посмотрел на свою руку с намертво зажатым в ней маузером, попробовал разжать ладонь, но ничего не получилось. Ротмистр, почти не удивившись, разжал намертво впившееся в оружие пальцы послушной левой рукой. Отдав пистолет бойцу, глухо, будто не живой, прохрипел:
– Яму выроешь. Два на два. Похоронить надо.
Войцех только кивнул, чувствуя, что любые слова сейчас будут лишними.
Сгорбленный, как будто придавленный тяжеленным небом к земле, Стас медленно брел, ничего не видя, наугад, загребая босыми ногами равнодушную, привычную ко всему, землю.


