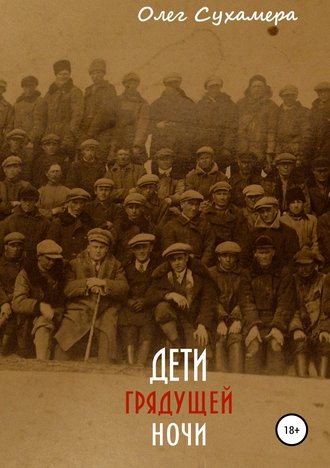
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
Глава шестая
Межа
(1942)
– П-шел! П-шел! Шевели лаптями! – конвойный со смаком пнул тянущуюся впереди него тень.
Сергей было дернулся от удара, но лишь сжал зубы покрепче, подумав, что в другое время не стерпел бы такого – и валялся б этот бравый партизан с раздавленным от удара костяшек кадыком, вращал бы, дурачок, глазами, не соображая, что ж с ним такое произошло. Доли секунды, все ничего, наработанный годами навык. Но… все это уже было, все осточертело и надоело смертельно. Пусть будет, как будет.
Усталость, апатия, равнодушие – все, что разъедает закаленную в боях душу, слилось в вязкую массу, разъедающую желание бороться, жить. Сергей усмехнулся горько. Как это ни грустно, но осталось от бывшей грозы диверсантов пустое место. Завтрашний висельник. И кто назначил позорную казнь? Странная штука жизнь. Эх, брат родной… Впрочем, имеет право. Долг, как говорится, платежом…
– Стоять! Пришли. Прыгай. Кому говорю, урод!
Сергей остановился, туго соображая, чего от него хочет этот безусый юнец с ППШ на груди. Прыгать? Зачем? Процедил презрительно осипшим от холода голосом:
– Тебе, паря, надо, ты и попрыгай.
Юнец резво передернул затвор. Сергей инстинктивно поежился от знакомого противного лязга. Опыт, вбитый войной надежно чуть ли в самый хребет, подсказывал, что за ним обычно следуют сухие кашляющие звуки автоматной очереди.
– В яму! В яму, сказал! Быро! Фриц недобитый…
– В яму… ишь ты… яму-то я и не приметил…
Под ногами чернела пустота. «Глубоко? Впрочем, какая разница. Меня уже нет. Душа издохла. А тело? Тело, судя по улетучившемуся инстинкту самосохранения, тоже было не против завершить болезненный этап существования.
– Эх! – Сергей оттолкнулся правой ногой от края и, путаясь в полах глубокого кожуха, полетел-полетел-полетел в бездну.
Больно стукнулся о промерзшую землю, перекатился по инерции, чтобы смягчить удар. «Навыки. Проклятые навыки. Не вытравишь. Сидят глубоко, как клещ, впившийся в кожу. Вроде помирать собрался, а тело реагирует на автомате, бережет себя любимого от травм. Тьфу… как мерзко».
Осмотрелся б вокруг, жаль, не видно ни зги, над головой, до самых краев глубокой ямы, раскинулось бездонное черное небо.
Почуял вдруг каждым волоском, как выстуженное небо, бесстрастное, вечное, подмигивающее желтыми крошками звезд, щедро рассыпанных божьей дланью, всматривается в самую его душу, или в то, что от нее осталось; изучает бесстрастно, без интереса, точно какой-нибудь трудяга-слесарь глядит на очередной винтик из коробки, зная, что тому пришла пора занять свое извечное, выбранное им место. И в этой холодной отрешенности была своя горькая правда, смысл которой в том, что настала пора возвращаться домой в небытие, что каникулы сумасбродной жизни были такими длинными для человека и такими ничтожными для предстоящей вечности и пустоты.
Робкое ли мерцание звезд, предстоящая ли казнь или просто желание отрешиться от навалившегося морозного одиночества, убаюкали, выровняли дыхание, вводя в спасительную полудрему.
И… потекли, побежали воспоминания, заструились ручейками, продалбливающими напластования более поздних впечатлений.
Настало время последних раздумий, время, когда каждое маленькое событие высвечивается ярким лучом прожитых лет и ложится в четко отведенное ему место, вставая в ряд звеньев тяжелой жизненной цепи, тянущейся куда-то вниз, в бездну.
* * *
Холод, еще мгновение назад жестокий, поселившийся в самой глубине костей, выморозивший душу, постепенно улетучился, и вслед за ним пришла обжигающая волна жара.
Чувствуя, что вот-вот расплавится в этом накатившем удушливом зное, Сергей судорожно начал сдирать с себя кожух непослушными заиндевевшими пальцами.
Но этого показалось мало. Ничего уже не соображая, обожженный мнимой жарой, рвал на мелкие клочки свитер из верблюжьей шерсти и исподнюю рубаху, которые жгли нестерпимой, нечеловеческой болью, прорастая в больное тело, травмируя и прижигая кожу каждым швом, каждой ворсинкой.
Он сам не понял, когда, в какой момент мучений пришло облегчение. Стало так легко, как никогда не было прежде. Боль ушла. Не было ни жара, ни холода, ни малейшего неудобства, ни даже тяжести. Появилось чувство, что сковывавшие всю жизнь, с момента рождения, цепи разомкнулись, спадая с груди, освобождая душу от прошлых тяжестей и сомнений, предоставляя ей такую свободу, о которой не грезилось в самых радужных детских снах.
Сергей почувствовал, что возрождается к чему-то новому, но подспудно знакомому, что пожелай он воспарить в этот момент, то стоит лишь попробовать – и полетит. Надо лишь сжаться там, возле замершего от немого восторга сердца, двинуть дремлющее доселе нечто усилием воли, чтобы навсегда покинуть это скрючившееся в комок, нелепое, закостеневшее от холода бывшее уже пристанище. Да, с ужасом, но без сожаления. Туда, вверх, выше, выше… домой…
Звезды складывались в разноцветные узоры, вращаясь все быстрее и быстрее, заворачиваясь в разноцветную спираль и притягивая к себе то, что мгновение назад было Сергеем Вашкевичем, но ставшее теперь чем-то новым, беззащитным, бесплотным, безымянным, соотносящим себя с прежней оболочкой личности только по привычке, укоренившейся в этом новом нечто за почти пятьдесят лет прошедшего земного бытия.
Звезды, бывшие еще мгновение назад отдельными и самодостаточными системами, слились в один нестерпимо яркий поток света. Будь у Сергея глаза, он бы непременно закрыл их: свет не просто слепил, он пронизывал насквозь, пока щадил, как бы изучая и присматриваясь к нему.
Вашкевич почувствовал, что сонмищу невидимых любопытных светлячков ничего не стоит растворить его на атомы, превратить то немногое, что оставляло его человеком, в такой же бессмысленный, вечный поток неодухотворенной энергии. И тут он понял, что взял в это захватывающее путешествие вещь опасную и ненужную во всех отношениях: страх.
Страх рос, обволакивал черным коконом, защищая, спасая от всепроникающего света. Страх вкрадчиво нашептывал, искушая: «Только не туда, не к свету, растворишься, не будет тебя. Никогда. Никогда». Не раздумывая, в одном полном отчаянной решимости порыве Сергей без доли сомнения рванулся из обволакивающего странной истомой кокона вперед, к свету, который заструился новыми узорами и, словно в награду за смелость, начал принимать понятные формы.
Каким-то чудом появился верх и низ и даже ощущение тяжести. Что-то сломалось внутри, и Сергей перестал удивляться, обнаружив, что радужный свет сплелся вокруг него в подрагивающее и пока плывущее словно в тумане его прежнее обиталище – мансарду в старом домишке дедушки Лю. В комнатенке все осталось по-прежнему, как будто не было этого проклятого года лишений и странствий.
– Ы здаравствуй, Сирегей!
Сергей повернулся на голос. Дедушка Лю был полупрозрачен, он струился и мерцал радужными волнами, как и вся окружающая его обстановка. Удивительно, но при всей сюрреалистичности образа старик умудрился сохранить прежнюю хитринку в узких, полузакрытых веками глазах, неизменную согбенную позу, даже опийная длинная трубка так же, как и прежде, дымила в маленьких ладошках, источая сладковато-пряный аромат дурманящего зелья.
Сергей обрадовался. Встреча была из серии новогодних детских сюрпризов: «не может быть, а поди ж ты…»
– Привет, дедушка. Я думал, что ты сгорел вместе с домом. Расстрелять тебя хотели, а ты взорвался… вместе с комиссарами, только головешки на пепелище остались. Такую байку слышал. Правда ли?
– Э, правда! Да! Порых оцень хоросо горясий! Две ботьки было! Кыросинка – пых! И сё! Плохой люди с собой забирал… так надо, да…
– И что? Как тут, на том свете?
Старик пожал сухонькими плечами. Сергей так и не понял, либо дедушка не желал отвечать на глупый вопрос, либо показал, «сам узнаешь».
– Ы здеся вопрёсы задаю я! Кха-кха-кха! – китаец растянул узкие губы чуть ли не до ушей и зашелся в дробном смешке. – Сютка зе!.. Пасмеяся тока не надо, я сиреёзно. Ы за цьто ыбрат тебя подвесивать хотел?
– По совести сказать, у нас такие счеты, что, будь мой козырь на руках, у меня тоже дело не застоялось его вздернуть. Странно, правда? В детстве ближе души у меня не было. Эвон как судьба покорежила… Только за одну Миру глотку б ему перегрыз. Десятилетия прошли, а боль не стала меньше. Так и жил с болячкой вместо любви… Скажи, увижу ее? Здесь… Ничего не надо, только бы…
– Мозесь и увидеть. Тута сё, как и тама, на земле, ОН ресяет. Повесиет тебя на весы. Легкая будеся – на небо улетай легко, тяжолая – придецся мучаться. Тут наверху такзе сама, как тама – нанизу! Ну, и? Ты не ответил, Сирегей…
– Коротко тогда. Высадились с отрядом в наши места. Для всех задача озвучена была «организация партизанского движения» – общими словами. Под эту фразу мне, как командиру, любой приказ отдавать легче. Мне ж в штабе – конкретный приказ. Под роспись, со всеми делами. В районе Дривяты – Шарковщина фриц задействовал фальшивый партизанский отряд. Сброд отборный, дезертиры, уголовники, менты, что в плен сдались. Полгода подготовки в лагере абвера – и айда. Призрак – самый дерзкий из всей этой швали, урка по жизни, мокрушник, садист, хитрый, изворотливый зверюга. Ему по-любому от советской власти вышка корячилась. Выбора и пути для отступления у таких нет. Его немцы и заприметили. Работали по нему отдельно: навыки управления, тактика партизанской войны, диверсионная работа, карательные мероприятия и так далее. Обучали тварь эту на совесть, это правда. Как информация до наших дошла, не знаю, это не мое дело. Факт, что она подтвердилась. Стали приходить данные о разбое, грабежах, изнасилованиях, даже деревни жгли эти недобитки фашистские под видом партизан. До того дошло, что местные не то что поддерживать или там помогать чем-то, сами в руки вилы стали брать и при любом визите из леса к немцу ломиться за помощью… Вот такое партизанское движение получилось.
Выбор мне начальство поставило не великий: либо я голову этому Призраку снесу, либо они – мне.
– Уництозил оборотней? Ызвини, сьто интересуюся…
– А то! Со мной в группе одни асы разведки. Плюс усилились местными товарищами. Только клочья полетели от выродков. Призрака лично грохнул, и… не быстро… помучился у меня чутка… за все, что натворил, сука.
– Ы сьто? Орден тама Маськва давали?
– Представили вроде бы. Не важно. Подвела очередная глупость из штаба.
Этим абверовцам обеспечение (оружие, боеприпасы, жратва, медикаменты и прочий хабар) самолетом прямо из Берлина доставляли. Скидывали ночью на костры, по координатам, которые радист засылал. Мы что да как обстоятельно выяснили. Допрашивать умеем. Связиста живым оставили, повезло, он послушный парень оказался. Вот и появилась в светлой генеральской голове идея, что мой отряд станет самостоятельной боевой единицей, а Призраком теперь я буду. Сам понимаешь, не с местными воевать, а с немчурой, за их же деньги. Идея не самая плохая. Гробь врага в спокойном режиме, так сказать, на полном фашистском обеспечении, почему б нет. И пошло-поехало. Диверсии, уничтожение сотрудничающих, подрывы складов, транспортная война. Немцы в нашу сторону не смотрят, так как вроде свои, а мы что ни ночь их долбим и в хвост, и в гриву.
Не учли одного, что у Булата отряд тоже не пальцем деланый. Для Стася – мы теми же выродками, что людей жгли, остались. Дальше, думаю, все понятно. Боеспособность у Булата оказалась повыше. Напали внезапно, разнесли отряд в пух и прах. Потери страшные. Меня контузило, вот и взяли. Призрака. Отрицать что-то бесполезно было, я брата знаю. Да и надоела, по чести сказать, вся эта суета. Только повесить я ему себя не дал. Как видишь. Замерз самостоятельно. Так решил. Пусть одним грехом на душе Стаса будет меньше.
Дедушка Лю задумался, задумчиво пустил вверх струю такого же бесплотного, как и он сам, дыма, затем тяжко вздохнул и покачал головой на манер фарфорового китайского болванчика.
– Тязелая. Душа твоя. Отень твоя тязелая. М-да… Но тока светлая стороны больсе… Многа страдать надо, сьтобы свет отмыть. Мнооога! Нисего, не отчаивайся, Сирегей, ы время есь! Мноога время! Ветьность, Сирегей, ы ветьность!
Слова старика пробили колоколом, отражаясь и причудливо резонируя с воспоминаниями, с тем, что, казалось бы, плотно погребено под слоями других, менее важных, жизненных событий.
Пережитое вдруг воскресло из пепла, неся с собой свежую горечь, будто и не было четверти веки между нынешним бесплотным Сергеем и тем рубакой-парнем их тысяча девятьсот восемнадцатого года.
* * *
– Садись, коль пришел. Разговор у нас, товарищ командир, длинный намечается.
Сергей, ничуть не смущаясь тяжелого взгляда Булата, слегка помедлив, всем видом показывая, что он тут тоже не шестерка червей, плюхнулся на грубо сколоченный табурет и с противным скрипом подтянул его поближе, к затянутому красным плюшем командирскому столу.
Булат недовольно поморщился.
То ли звук ему не понравился, то ли лихое поведение визитера, однако Сергею стало как-то неуютно от дикого блеснувшего из-под бровей брата взгляда. Чтобы как-то скрыть свой невольный мандраж, Сергей закинул ногу на ногу и принялся демонстративно изучать отполированный носок своего мягкого артельного сапога.
– Папаха знатная у тебя. У кого отобрал?
Хоть и был голос Стаса ровным, но фартовый командир особого отряда внутренне сжался, почуяв угрозу не столько в содержании невинного по фронтовому времени вопроса, сколько в холодном безразличном тоне, не обещающем ничего хорошего. Чуя, что расклад по любому все ж на его стороне (спасибо неверной Мире!), улыбнулся нарочито безмятежно.
– Ребята поднесли. Командиру особого отряда, сказали, и папаха особая нужна. Вот и справили.
– А череп с костями вместо красной звезды тоже они присобачили? – Булат скривился в досадной гримасе, вытирая ладонью глаза от обильного пота.
– Ну, так. Со звездами многие ходят. Крестьянину или немцу-собаке почем знать, что за он, по его ли душу приехал. А с такой кокардой вопрос ясный: никто цацкаться не будет, руки в гору, либо – смерть. Наглядная агитация называется. Тысяча ненужных вопросов при одном моем виде отпадает. А ты думал, я такой шапкой дамочек на «фу-фу» беру? …Как некоторые…
– Я, Сергей, пока ничего не думал, – Булат попробовал прокашляться, но из груди вырывались лишь болезненные хрипы, не приносящие облегчения. – Тут евреи приходили, целая делегация, старички, спрашивали, кто такой у нас дерзкий в шапке с черепом? Вот и я задумался, кха-кха-хххххх, не ты ли?
– Такая у них доля – плакаться на каждом углу. Небось, кляузничали? Ох, ты ж… вижу! Точно – в тютельку! Э, брат, мой тебе совет: не слушай иудино племя. Продадут не за понюшку табаку. Опыт у меня имеется. У этих, по любому все виноваты, кроме их самих. Все брехня!
– А то, что погром в местечке устроили, тоже брешут? Золото, шмотки, провиант. Кто вычистил? По улицам без подштаников стариков и баб кто гонял? Девку пятнадцатилетнюю снасильничали часом не твои ли?
Сергей засопел, чувствуя, что любое неосторожное слово сейчас может вылезти боком и поправить замаячившую на горизонте беду станет невозможно.
Зыркнул мимо побелевших глаз Булата: спорить с кипящим яростью командиром сейчас равно самому себе мылить веревку. Уставился в пол, думал было промолчать.
Вот только злую шутку сыграл проклятый язык, не принимающий, видимо, брата за краскома и комполка.
– Погром, говоришь? Ясненько. Жалобщики, стало быть, навалили? Нехай! А я считаю – справедливо! Малая беда лучше большой. Пусть уж лучше евреев забижают, чем всех подряд… Те не овечки невинные, по правде сказать. Золотишко их, чужими слезами и потом намытое, грех не пустить по ветру. Ты, брат, за своих переживай, а у этих… Оглянуться не успеешь, обдурят мужичков и по новой мяском обрастут. Еврейчиков пожалел? А парней, что головы при штурме сложили, не? Не жалко? А выжившие право имеют. Война не мамкина титька: молочка не даст, а кровушки сколько хошь даст напиться. На фронте так: кто сам себя не сберег, тот и не прав.
– Может, и твоя правда, брат. Только ты свою правду до девчушки, чью жизнь твои герои сломали, донеси. До отца ейного, что на чердаке с горя повесился! До мамки, что умом тронулась, оттого что через нее твой взвод прошел… Как тебе такое?! Кха-кххххх…
Выйди, такой герой, на площадь и заяви: «Евреи – это ж не люди совсем, хоть облик людской имеют, а жиды. Посему будем их убивать, грабить и насиловать. А с остальными гражданами у нас мир, уважение и полное монпансье в шоколаде». Так?!
– Да не так! Но и по-другому – никак! Не будет иначе. Слабого гни! Чтоб у сильного мысли не было сопротивляться! Человеком хочешь остаться? Во! Фигу видал! Не выйдет! Кровь, говно, гной, понос, болячки, вши, страх! Вот война! Тот, кто человеком хотел остаться, в овраге догнивает. Его ж свои придушили по-тихому, чтоб своя совесть не зудела. Что? Не так, скажешь? Мало крови невинной на твоих руках? Так какого хрена на моих ее рассматриваешь?.. Хорошеньким он хочет… Порядочным… Где твоя совесть была, когда ты с моей бабой переспал? Чего уставился?! «…Твоя правда, брат». После такого сюрприза мне козел, что у жидов забрали на общественный кулеш, и тот роднее. Потому как он меньшая скотина, чем ты.
Был у меня брат, Стасем звали! Да на жаль, моль его посекла, труха одна осталась, Булат он… По виду да, орел! А внутри – тьфу! Гнилушка! Расстреляй теперь, если хочешь! Сила на твоей стороне, но – не правда. Правды нету за тобой! Что? Съел, братишка?! Падла ты…
Стас поджал губы, словно переваривая ведро помоев.
Сергей же вздернулся с табурета, сжал кулаки. Лицо его побелело и превратилось в восковую, жуткую, как у покойника, маску. Мышцы под гимнастеркой взбугрились и начали подрагивать. Был он в этот момент похож на дворового повидавшего виды кота, вздыбившегося дугой перед соперником в ожидании неминуемой драки.
Булат тяжело задышал, подавляя накатившую изнутри волну ярости.
– Торопишься, брат. Это второй вопрос, по которому вызвал тебя. Чтоб ты понимал. За спиной твоей бабу не кадрил, мысли такой не было. Сама пришла. Пробовал урезонить, но… ты знаешь Миру, не тебе рассказывать. Вышло так, как вышло! Стыда перед тобой нету. Разговор короткий. Была твоя, теперь – моя! Попробуй принять, зла и обиды не держи. Кабы не ее выбор, в ту сторону не посмотрел бы. Теперь – так!
– Не стыдно, ясненько, ничего нового. А что касается выбора, вот что скажу. Плохо ты ее знаешь… Появится кто-то круче тебя – за юбку не удержишь. Плакать кровавыми слезами будешь, но она не услышит, нет. Мой тебе совет, Стась, попробовал яду этого сладкого, и досыть! Ежли не хочешь, чтоб высушило и скрутило, как меня. Так приворожит, что света божьего без нее не увидишь. Все вроде как было, так и есть, а без нее – ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Тебе такое надо?
– Хватит ныть. Думаешь, тупой? Все понимаю. Любовь, что б ее… – Булат, словно сбрасывая с себя тяжкий груз, опустил руки на стол и задумался. Видно было, что решение дается ему нелегко.
Потом поднял взгляд на брата, в его глазах заплясали озорные чертики.
Сергей невольно поежился: не то ярость, не то азарт. Было в них что-то новое, приобретенное не так давно, не из их общего прошлого.
Булат поиграл желваками и наконец-таки изрек:
– Что ж… По-братски! Пусть будет и твой шанс. Кххх-ха! Мира сама решит. Сделаем так. Отдам твой отряд под ее личное командование. Случилось, что земляки наши с тобой бунтуют против власти Советов. Вот и решили наверху, что наш боевой полк самое то, чтоб поучить деревню пулями да артиллерией. Меня поставили перед фактом. На лояльность проверяют, сучата… Ты как? Пойдешь на такую вылазку? Против баб, стариков… Понимаешь, с кем придется воевать?
– Если Мира там, то где мне быть? За ней – хоть в ад!
– Что ж… Твое решение, Сергей. Я тебя в спину не толкал. Выдвигаемся завтра. Посмотрим, что там да как. Изобразим, так сказать, послушание начальничьей воле. Кхххх. Напоследок. Еще одна жалоба о бесчинствах и мародерстве, не посмотрю на общую кровь, что в наших жилах течет. Лоб зеленкой мажь: трибунал – твоя доля.
– Напугал ежа голой задницей. Если Миру не верну, мне расстрел – самое то!
– Дурень ты был, им и остался. Разговор закончен. На этом все!
– Сказал бы спасибо, но изо рта не лезет как-то. Случай этот теперь завсегда промеж нами.
– Твое дело, раз так решил, брат. Иди… Стой. Как там? Дома… Слышал чего? Кххх.
Сергей лишь смерил Булата презрительным взглядом и, так и не ответив, ловко развернулся на каблуках и пружинисто, так, что заскрипели половицы, вышел из штабной избы.
Хлопнула тяжелая рассохшаяся дверь, и лишь теперь Стас смог позволить себе обхватить руками ставшую вдруг чугунной голову и заскрипеть зубами, подавляя вспучившуюся черными волдырями ненависть к себе, к брату, к начавшемуся их страшному размежеванию, где любая уступка – тактический маневр, где любой договор – вранье и уловка в войне за женщину, на которой клином сошелся свет.
Комната вдруг поплыла. Булат почувствовал, что легкое утреннее недомогание, которое списывал на вечный недосып, превращается в нечто более серьезное. Прислушался к себе, было жарко, по спине катились холодные струйки пота, а внезапно высохший язык стал чужим и едва ворочался во рту.
Стас поморщился, уж очень некстати подкралась болячка, но взял себя в руки – какие такие болезни могут быть у бравого краскома? – поплелся к ведру с водой, стоявшему у самой печи.
Пил жадно, большими глотками, но вода не приносила облегчения. Кое-как доковыляв до узкого топчана, свалился на него, закрыл будто засыпанные мелким песочком глаза, чувствуя, что задыхается. Попытался дышать глубже, но в воздухе словно не стало кислорода.
Сознание мутилось, мысли запутывались в странный клубок, в котором смешалось все и вся: и Сергей с Мирой, и яркие нездешние цветы, и совершенно белая мертвая Вера, восседающая отчего –то на его любимце-коне.
Карусель из красок и впечатлений вращалась все быстрее и быстрее, закручиваясь спиралями, складываясь в непредсказуемые замысловатые узоры.
Последнее, что Стас запомнил, прежде чем впасть в беспамятство, жутковатое ощущение падения в огненное жерло вулкана.
* * *
Дом, который всегда был для Мишки временным пристанищем их молодежной микрокоммуны, после недавнего заточения показался родным.
Уже не раздражали, а казались милыми потеки на стенах, в которых при определенном уровне фантазии можно было рассмотреть все – от древнегреческих баталий до сказочных драконов и принцесс.
– Миша, что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Уставился в потолок… все же прошло. Забудь. Все нормально. Я рядом. Я всегда буду рядом. Поговори со мной. Не молчи.
Мишка с трудом оторвался от созерцания подмокшего потолка и, разорвав такую спасительную для больной души пелену фантазий, приподнялся на локте, тяжко поморщившись от заскрипевших пружин продавленной тахты. Глядя сквозь участливо сгорбившуюся Владку, кисло выдавил:
– Все. Собирай шмотки. Уезжаем.
Владка насторожилась, еще не веря ушам, но тут же вскочила и от радости, что любимый в первый раз после ночного возвращения из подвала подал голос, быстро затараторила:
– Да! Я быстро! Сейчас! А куда едем? Впрочем, какая разница! Поедем в Минск, там у меня родня, я там почти все знаю! Большой город… Мы так там заживем… Пусть все обзавидуются. Пылинки с тебя сдувать буду.
– Угу. С Полиной только надо. Решить.
Суетившаяся Влада вдруг остановилась, словно натолкнувшись на одну ей видимую каменную стену. На глаза навернулись давно сдерживаемые слезы, и она заговорила горячо, так, как могут говорить лишь одержимые своими переживаниями люди, выплескивая на собеседника всю накопившуюся боль и страдание:
– Нет. Поедем просто. Без прощаний! Свадьба у них. Не лезь в чужую судьбу. Свою вон чуть не сломал. Второй раз не выкарабкаешься из ада. Я еле Костю уговорила, чтоб он пошел к этому дядьке своему …не хотел ведь. Ненавидит тебя!
– Нормально… его право. А ты? Ты как? Ты же все знаешь про меня, про Полю. Не противно? Готова жить с предателем?
– Да! Готова! Тебя, дурака, любого приму. Пьяного, сгулявшегося, паршивого, хромого, косого. Мне без разницы. Не ожидал? Знай! Все стерплю! Только ко мне возвращайся, – Влада встала на колени перед сидящим Мишкой, жарко обняла, вжалась в него. Потом так же неожиданно отхлынула и, приподняв крупными кистями рук тяжело опущенную Мишкину голову, ловя его ускользающий взгляд, начала приговаривать, будто малому ребенку:
– Мишенька! Ребеночка тебе рожу! Беременная я! Пожалей! Ты мой! Ничей больше! Никому, слышишь, не отдам тебя. Люблю тебя, Миша, прости меня, дуру! Едем со мной! Плюнь и разотри. С чистого листа, увидишь, как жить легче!
Губы Влады мелко затряслись, а из крупных навыкате глаз быстрыми струйками выбежали слезы.
Мишка смотрел на перекосившееся, ставшее красным и непривлекательным лицо девушки, на ее опухший нос, на вялые безвольно дрожащие губы, на крепкое, будто налитое яблоко, тело. Всматриваясь в каждую черточку, он пытался осознать, что в этом прикипевшем к нему намертво человеке? Испытывает ли он к этой девушке хоть каплю чего-то, сравнимого лишь с одной мыслью о Полине? Его чужой Поле?
Мишка лихорадочно копался в своих эмоциях, как роется обезумевший от бушующего внизу пожара хозяин, в панике пытающийся отыскать хорошо припрятанное сокровище на заваленном кучами хлама пыльном чердаке…
Увы, Мишка не находил в себе ничего. Только равнодушие, опустошение и брезгливое желание, чтобы все это слезливое представление закончилось поскорей.
Странно, но вместо благодарности к этой искренне любящей женщине или чего-то вроде радости от огорошивающего известия – вместо всего этого людского сквозь пепел сгоревших эмоций обжигающими угольками вспыхивали картины недавней страшной ночи.
* * *
За железной дверью был свет. Скудный, моргающий желтыми всполохами эдисоновской лампочки, он ослепил и ввел Мишку в ступор. Глаза после недели полумрака мгновенно заплыли слезами, и фигуры, поджидавшие узника за порогом, текли и струились размытыми серыми очертаниями. Мишке показалось на мгновение, что он уже умер и эти двое, не то бесы, не то ангелы, встречают его, чтобы препроводить на Страшный суд.
Впрочем, когда Мишка инстинктивно протер глаза почти чистым рукавом, наваждение рассеялось: один из бесплотных оказался все тем же опостылевшим и страшным Хароном, вторым был дядя Кости, Степан Макарович Крылов.
– Здрасьте, – сказал Мишка и тут же проклял себя за это глупое, вырвавшееся испуганным воробьем тупое, ничего не значащее и, более того, страшно неуместное на пороге собственной смерти приветствие.
– Здорово, молодежь… – неожиданно бодро отозвался предреввоенсовета и совсем по-дружески, ободряюще, похлопал по сгорбленным Мишкиным плечам, ожидающим удара.
Робкая, предательская искорка надежды вспыхнула в кромешной темени Мишкиной души. Была она микроскопически маленькой, не идущей ни в какое сравнение с той бездной отчаяния, посреди которой довелось ей воссиять. Но светилась так ярко, что все мысли Мишки полетели ей навстречу, как глупые летние мотыльки, тучами стремящиеся к жаркому губительному свету керосиновой лампы.
«А что если? Вот и случилось! Ребята наверняка похлопотали! Полина надавила на Костю. Он ведь любит ее. Если сам Крылов вот тут встречает из подвала мучений? Неужто, чтобы расстрелять? Конечно же, нет! Потому что он разобрался с этой страшным недоразумением!»
Мишка даже позволил себе вопросительно, а на самом деле скорее просительно, по-собачьи, исподлобья глянуть в мертвые глаза Степана Макаровича.
Тот, видимо, уловив cлом, едва заметно ухмыльнулся и, протерев платочком потную лысину, взял Мишку под локоть.
– Идем, парень. Чего покажу…
В словах Крылова не было ни тени угрозы, лишь смертельная усталость замученного рутиной человека, но Мишка шестым чувством уловил, что после показанного его существование на этой земле уже никогда не будет прежним.
Сделали буквально пару шагов, до соседней железной двери-близнеца, закрывающей скорее всего вход в точно такое же подвальное помещение, из которого только что достали Мишку.
– Быков, открывай.
Харон, доселе уверенный, неожиданно сдулся. По тому, как вяло он ковыряется в увесистой связке в поисках нужного ключа, понятно было, что ему не хочется показывать начальству то, что пока скрыто от любопытных глаз.
Харон все возился с замком, а Крылов, дыша Мишке в ухо ядреной смесью лука и перегара, журчал еле слышно:
– Ты хороший малец, Мишка. Глянулся мне сразу. Юмор люблю. Только родная жилетка ближе к телу. Племяш мой, Костя… хоть и щегол сопливый, но родня. С пеленок этого дурня помню. Мамка его перед смертью просила приглядеть за мелким… обещал… вот и приходится, ты уж извини.
Степан Макарович, уловив, что вожканье с ключами превышает все лимиты его личного терпения, отвернулся на секунду от Мишкиного уха и гаркнул, будто огрел плетью неловкого Харона:
– Мля! Хули копаешься? Я чо?! Час тут стоять должен?
Харон дернулся нервно, посмотрел взглядом побитой хозяином псины, вздохнул и одним ловким движением открыл замок, тут же потянув дверь на себя.
Запах, хлынувший из двери зловонной волной, выбил из Мишки все мысли. Тошнотворная волна подкатила к горлу, он сгорбился, хотелось стошнить, но в желудке ничего не было. Тело Мишки задергалось в спазмах, пытаясь справиться с забивающей все силой запаха мертвечины, скрючившей, сложившей его пополам, как детский перочинный ножик.
Крылов приложил платок к носу, сморщился – видно было, что тошнотворная волна даже его, повидавшего виды вояку, едва не сбивает с ног.
– Мля! Быков! Ты чо? Неделю не вывозил?!
Харон, набычившись, словно нашкодивший школяр, лениво оправдывался:
– Дак транспорта нету! сдох. Ну, все одно, телегами не навозишься. Рапорт писал, шоб с антомобилью подсобили. Ни ответа ни привета. А приказы никто не отменял, товарищ председатель. Ждем-с… обещали транспорт. Ничаво-ничаво, када пообвыкнешься, оно нормально. С большего… как бэ.
– Идиот… Свет! Включай!
Щелкнул выключатель. Пыхнула лампочка. Мишка почувствовал, как короткая, но сильная Крыловская лапа схватила его за шиворот и вздернула кверху в вертикальное положение. Степан Макарович истерически заорал прямо в ухо:
– Смотри, Вашкевич. Смотри и выбирай, сцучонок! Либо сюда к этим!!! – так же неожиданно, как начал орать, Крылов, почти по-отечески взъерошил Мишкины волосы и многозначительно закончил: – либо… Так и быть, нравишься мне. Отпущу. Совет: вали подобру-поздорову, у людей свадьба, им и без тебя, мля, тошно…
Увиденное потом неоднократно возвращалось к Михаилу с ночными кошмарами, заставляя просыпаться от собственного крика и курить-курить-курить в ожидании спасительного рассвета.


